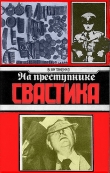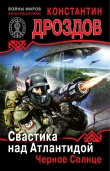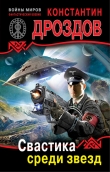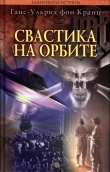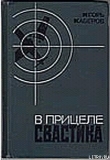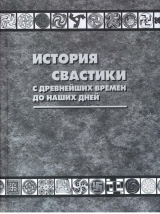
Текст книги "История свастики с древнейших времен до наших дней"
Автор книги: Анатолий Москвин
Соавторы: Томас Уилсон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Египтяне также сажали злодеев на кол, про что в книге Бытия 40:19 сказано: «через три дня фараон снимет с тебя голову твою, и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя» – естественно, что при подобном способе казни сохранение тела усопшего, а следовательно, и загробная его жизнь начисто отменялись.
Относительно же семитского обычая вешать преступников на деревьях см. Числа 25:4, Исайя 8:29, 10:24–27. Смерть на кресте под палящим небом Северной Африки или Палестины была уже достаточно жестокой карой – под жарким же небом Италии и стран влажного климата мучения несчастных усиливались еще и тем, что смерть от солнечного удара не наступала – и приговорённые долго мучались, погибая от жажды и кровопотери.
А. Донини в книге «Люди, идолы и боги» (М. 1966, с. 198) считает, что в качестве орудия пытки и казни древнесемитский крест развился из колеса – ещё одного орудия пытки. При колесовании жертву привязывали за руки и за ноги к колесу, которое затем приводили в движение и вращали с большой скоростью, покуда казнимый не терял сознание и не погибал. В древней форме такое колесо состояло из двух шестов, скреплённых крест-накрест, чтобы удерживать примитивный деревянный обод. При такой изощрённой казни палачам приходилось затрачивать немалые усилия, вертя колесо с должной скоростью, поэтому она постепенно заменилась повешением на солнцепёке на дереве, а в тех местностях, где дерева не находилось, – на врытом в землю деревянном столбе.
Ещё раз необходимо отметить, что подобная казнь считалась римлянами столь унизительной, что применялась ими лишь для рабов и бунтовщиков, но никак не для свободных граждан, которым предпочитали отрубать головы. Цицерон в одной из речей называет распятие «самой позорной и унизительной казнью, которая только придумана для рабов».
Памятуя об этом, Спартак в 71 г. до н. э. приказал прилюдно распять перед решающим боем одного пленного римского гражданина, чтобы продемонстрировать соратникам-рабам, что ожидает их в случае поражения. После подавления восстания Спартака на крестах вдоль дорог было повешено около шести тысяч пленных рабов.
Культ креста не без труда утвердился в литургии и иконописи первоначального христианства. Постепенно раннее христианство перестало быть религией рабов и нашло себе приверженцев в более образованных слоях общества, но символ креста всё ещё внушал инстинктивный страх – ведь официально «в намять о крестной муке Христа» распятие как средство казни отменил лишь император Константин около 317 года. До конца IV века личность «человекобога» плохо связывалась в сознании верующих с изображением орудия его казни. Неодолимое отвращение удерживало христиан от изображения «спасителя мира» прибитым гвоздями к орудию пытки. В Первом послании к Коринфянам 1:23 хорошо показано отношение к распятию среди язычников эпохи апостолов: «а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие». Как видно из «Октавиуса» Минуция Феликса и «Апологии» Тертуллиана, в течение II и Ш веков христианам даже пришлось защищаться от упрёков язычников в использовании ими креста как символа поклонения (мы далее увидим, что в эту эпоху его с успехом заменяла свастика). Древнейшее известное нам изображение казни Христа на кресте относится ко времени правления папы Селестина 1 (422–432) – эта вырезанная из дерева скульптура находится в портале базилики св. Сабины в Риме. В раннем Средневековье старались изображать Христа на фоне креста, но не приколоченным к нему гвоздями.
Кстати, в связи с распятием одним из распространённых заблуждений является то, что распинали некогда, якобы прибивая преступников к крестам за ладони рук – такое представление идёт из христианской иконографии, установившейся в ту пору, когда казнь распятием была уже делом глубокой древности. Если мы посмотрим на католические и канонические православные распятия, то кровавые раны расположены именно на ладонях и стопах распятого – и именно в этих местах усилием воли вызывали свои стигматы верующие фанатики. Однако эксперименты наглядно показали, что тело взрослого мужчины не удержится в подвешенном состоянии, будучи приколоченным за ладони, ибо гвозди просто прорвут кожу и плоть, и повешенный рухнет вниз лицом.
Десяток лет назад в одной из пещер на территории Израиля был найден каменный саркофаг, в котором покоились кости молодого мужчины, казнённого, вероятно, во время восстаний Бар Кохбы или Маккавеев, и тело которого было впоследствии выкуплено родственниками и погребено по иудейскому обряду – в пещере. Поскольку скелет был не– потревожен, археологи обнаружили длинный свинцовый гвоздь, пронзавший оба запястья рук казнённого, поднятых над его головой. Лодыжки были не пробиты, а обмотаны свинцовой проволокой19. В связи с этим удалось впервые получить реальные фактические доказательства того, как распинали в древнем Риме: руки пробивали в месте, где гвоздь приходился между лучевой и локтевой костями и тело не могло сорваться с орудия казни, ноги же не приколачивали, а связывали проволокой, при лом к вертикальному столбу прибивали для них специальную подставку. Если же вместо креста использовали столб с подставкой для ног подвешиваемого, то казнимый распинался в вытянутом положении – руки над головой.
Римские писатели, описывавшие массовые казни, последовавшие за подавлением восстания Спартака, когда дороги на многие вёрсты были уставлены крестами с распятыми, представляют нам другой вид креста в виде буквы Т (мы называем его тауобразным крестом, по греческому названию этой буквы – «тау»), когда руки казнимых разводились в стороны и привязывались проволокой (едва ли прибивались, ибо, как сказано, гвозди не удержали бы тело в таком положении, кроме того, вколачивание гвоздей в живую плоть, брызжущую кровью, едва ли было делом приятным и лёгким для палача), а ноги сводились вместе и привязывались к вертикальному столбу – и преступник, телесно невредимый, неделю висел в таком виде, умирая от голода и жажды, стеная и проклиная и бога, и судьбу. Такого же креста, какой мы видим в церквях – с перекрещивающимися вертикальным столбом и горизонтальной балкой – не было нигде и никогда – идея такого креста возникла у италийских христиан первых веков нашей эры (когда так уже не казнили), явившись объединением палестинского вертикального столба с подставкой для ног и италийского тауобразного креста. В результате этого мы имеем шестиконечный крест (используемый ныне как эмблема движения по борьбе с туберкулёзом) – два конца имеет вертикальное бревно, два – горизонтальная балка, и два – подставка для ног. Итак, мы видим, что Иисуса не могли казнить на «церковном» кресте, а был он повешен на вертикальный столб (как это правильно рисуют на своих картинах некоторые старые испанские мастера) в той позе, в которой в старой Руси бичевали преступников кнутом.
Кстати, в Риме был популярен и «андреевский» Х-образный крест, называемый по-немецки Querpfahl, а по-латыни patibulum. Применялся он для наказания рабов и считался удобным потому, что так сподручно было и вешать, и бичевать. Совпадение же формы римского «патибулюма» с греческой буквой «хи» (первой буквы в слове «Христос») случайно.
Христианская религия, придя на смену отживающим языческим греческим культам, сделала своим символом орудие страданий и смерти, мазохистски призывая своих адептов поклоняться тому, что они, по здравому смыслу, должны бы ненавидеть и презирать. Оставляя в стороне моральную сторону поэтизации страданий и казни, мы видим, что крест, как орудие пытки и мучений, вытесняет более миролюбивые раннехристианские символы (рыбу, чащу, агнца, голубя), становясь главной и, пожалуй, единственной эмблемой новой мировой религии.

В раннем христианстве «тауоб– разный» крест активно употреблялся наряду с более привычными нам формами – и правы составители «самарского» каталога форм креста в том, что они начинают своё изложение именно с него. На рис. 56 мы помещаем рисунок ранней монеты Константина Великого, где священное знамя (лабарум) имеет вид тауобразного креста, к горизонтальной ветви которого прикреплён штандарт с тремя кругами по числу ипостасей «троицы» и бахромой, а венчает его монограмма Христова имени «хи-ро». Крест-штандарт попирает «Ветхого Змия» из Эдемского сада, передавая идею победы христианства над языческим нечестием, легенда монеты гласит в переводе с латыни «народная надежда» (в смысле, христианство), под Змием первые четыре буквы имени императора Константина. Шойерманн также пишет, что первые восточные иудеохристианские общины использовали в обиходе именно такой крест.
Ниже мы увидим, что свастика, при подробном историческом рассмотрении, оказывается солярным знаком. Однако, согласно работе М. Плюхановой «Сюжеты и символы Московского царства» (Спб., Акрополь, 1995, с. 107–111) солярным символом является и крест Константина Великого.
Церковный историк Евсевий Кесарийский, наиболее подробно излагающий этот круг легенд, не упоминает сказания, согласно которым солнце взошло ночью в момент зачатия Константина, а также особое почтение, которое этот император, ещё будучи язычником, оказывал солнечному богу Гелиосу. Зато Евсевий сообщает нам, что этому императору в названном его именем Константинополе при жизни воздвигли статую, в руке которой император – ещё язычник! – велел укрепить копьё в виде креста. Русский же Хронограф 1512 года описывает эту статую детальнее: «образ человеч меден, имый на главе седмь лучь, егоже принесе от солнечнаго града Фругийския страны (т. е. Фригии, области в Малой Азии – А. М.), и постави на руце образа честный крест, написа на сем сице: тебе, христе, придаю град сей». Далее по тексту Евсевий признаёт, что крест, который якобы был началом побед великого императора, был составлен из света и лежал на Солнце. Позднейшие легенды о Константине и его супруге Елене всячески связывались именно с темой креста. «Миссия Константина и Елены – зреть крест, обретать его, утверждать, создавать земные воплощения, воспроизводя явленный образ многократно в золоте, дереве, меди». Константину, согласно Евсевию, трижды в небесах являлся знак креста: первый раз перед битвой с Максентием, победа в которой принесла ему императорский трон, второй раз – перед основанием Константинополя, и третий раз – перед решающим побоищем со скифами – надо ли упоминать, что все три раза крестоносный царь победил? А иначе не было бы легенды – ведь легенды сочиняют победители.
Как мы знаем, иудеи отнеслись к первым христианам без должного понимания – поэтому центром новой религии на первое время стал эллинистический Египет, где к тому времени тесно переплетались отживающая хамитская солнечная религия Амона-Ра и культ богов-олимпийцев, обильно сдобренный гностическими, неоплатоническими и прочими философскими и религиозно-философскими учениями. Дети природы, ненасытные до знаний греки, приученные, в отличие от иудеев, к религиозной терпимости и взращенные в традициях многобожия, с интересом отнеслись к новому культу – и число греко-египетских христиан постепенно множилось.
Мы считаем, что именно тут – в стране, где никто никого никогда не распинал, – и могло произойти смешение (мы скажем, контаминация) двух форм креста как виселицы – палестинского и италийского, результатом чего, как мы уже видели, явился шестиконечный крест. Египтяне были далеки и от той, и от другой традиции казни – поэтому первым христианам было, можно сказать, всё равно, на каком кресте был некогда распят Иисус, – зато новомодный крест в виде двух пересекающихся ветвей неплохо совпадал с крестом жизни «анкх» – в общем, таким же, но только с петлёй (петлю было несложно сделать, повесив крестик на шнурок для ношения на шее). Кстати, среди первых италийских христиан на рисунках из римских катакомб представлен именно тауобразный крест – в отличие от Египта здесь помнили, на чём ещё век назад распинали преступников и рабов. Когда христианство сделалось господствующей религией Империи, воле судеб было угодно, что его символом стал именно крест в его египетском (католическом) варианте, тогда как агнец, рыба и чаша отходят на второй план. Считается, что теорию жертвенной смерти Христа на кресте разработал апостол Павел. Он же рассудил считать Тайную Вечерю с её ритуальным поеданием жертвенного мяса прообразом крестной смерти своего духовного наставника. Именно потому и отпечатывался крестик на облатках (хлебцах для причастия, которые, как учит Церковь, в результате произнесения священником молитвенных формул превращаются в «плоть Христову»).
Это курьёзно, но, как мы видим, семитский изначально символ, контаминировав с символом хамитским, сделался эмблемой христианской религии, отдельные представители которой в отдельные времена, мягко говоря, недолюбливали семитов. Радикально настроенные верующие, вероятно, не захотят в это поверить – однако опровергать наши аргументы с фактами в руках тоже, вероятно, не станут.
Кстати, в последнее время, когда мистика буквально перехлёстывает все рамки приличия, – ведь напускать туману всегда легче, а порою ещё и выгоднее, чем разбираться, что имело место в действительности, – развелось столько всяких интерпретаций и интерпретаторов древних символов, что ах ты, боже мой! В статье некоего В. Алькина «От круга до звезды», опубликованной в московской газете «Оракул»20, мы читаем, что «крест – энергетическая фигура. Когда человек осеняет себя крестом, его тело начинает излучать энергию и как бы отражать негативные энергетические влияния внешних воздействий. Крест, символ христианства, отражает четыре стихии – воду, воздух, огонь и землю. Но вряд ли духовенство, а тем более простые христиане знают глубокий эзотерический смысл процедуры перекрещивания (написано именно так! – А. М.), который интуитивно понимали в глубокой древности».
Мы промолчим относительно излучения энергии, а также глубокого эзотерического смысла, но на чём исторически основывается безапелляционное утверждение о соответствии четырёх концов креста (католического, надо думать, – ведь у православного концов больше) четырём стихиям, да ещё столь тайное, что оно сокрыто даже от тех, кому это по долгу службы знать положено, – то есть, духовенства – нам, честно говоря, непонятно. С такой же же степенью достоверности можно связывать четыре конца креста с четырьмя сторонами света, четырьмя евангелистами или ещё чем-либо, что в культурном плане связано с числом «четыре». И вообще, мир представлялся древним пространством, расположенным между четырьмя мировыми деревьями – по одному на каждую сторону горизонта (так планировались города майя). Четыре дерева соединялись друг с другом четырьмя мировыми дорогами – чем не сюжет для истолкования свастики?21
А вот ещё одно истолкование – из самарского «Духовного собеседника» за 1997 год: оказывается, Христос был, аки агнец, принесён в жертву (кому – Богу, Сатане?), а крест явился его жертвенником. Ветхозаветный жертвенник, оказывается, является прообразом новозаветного жертвенника – креста. Мы знаем по археологическим раскопкам, что у древних семитов-скотоводов жертвенник имел вид невысокой каменной тумбы, украшенной по четырём сторонам головками быков так, что их рога являли собой по углам четыре возвышения, называющихся в Библии «рогами» жертвенника. В древней Иудее любой преступник мог схватиться за рога жертвенника и стать неприкосновенным, покуда он имел силы и возможность за них держаться. Человек с копьем за его спиной спокойно стоял и ждал, когда его «клиент» заснет, расцепит руки, и его можно будет убить. Мы упоминаем эти пережитки скотоводческих культов лишь потому, что у жертвенника было четыре рога, а у первоначального креста – четыре конца. Рога эти у иудеев тщательно намазывались жертвенной кровью закалываемых животных – и в этом плане интересно знать, был ли в своё время измазан «пречистою кровию Иисуса» тот крест, который откопала в пустыне императрица Елена?
Сделавшись символом одной из мировых религий, крест потерял всякое сходство с орудием, на котором казнили Христа, и стал просто знаком, могущим бесконечно варьироваться – единственным ограничением вариации было то, что любой крест обязательно должен был состоять из двух пересекающихся прямых, остальное же оставлялось на усмотрение интерпретаторов. Нижняя часть креста могла оформляться в виде лап якоря («Церковь – якорь спасения»), завитков виноградной лозы (вера процветает как виноград), трезубца рыбаря (рыбари – «ловцы человеков»), полумесяца (крест попирает змия ислама), на крест мог навешиваться терновый венец, а сам крест оформляться в виде перекрещенных греческих букв I и X (монограмма слов ιεσους χριστός) либо X и Р – первых букв слова χριστός – «помазанник» (так называемое «хи-ро»). Таблица разных форм креста с истолкованиями приводится в статье «Тайна креста», напечатанной в №№ 1, 2 за 1997 год самарского православного журнала «Духовный собеседник» (мы приводим её оттуда на рис. 57).
Объяснения к рис. 57: 1) тауобразный египетский или антониевский крест – достоверное изображение римской виселицы; 2) египетский петлеобразный крест «анкх»; 3) Y-образ– ный буквенный крест, приспособленный специально под неофитов-греков, так как издревле знакомый символ не отпугивал язычников; 4, 5, 6) якореобразный (в трёх версиях); 7) комбинация букв иота и хи; 8) крест – пастырский посох; 9) бургундский или андреевский крест, в виде распятия, опирающегося на землю двумя концами; 10) комбинация букв «хи» и «ро»; 11) то же, в более позднее, послеконстантинов– ское время; 12) солнцеобразный «хи-ро» крест; 13) крест– трезубец рыбака; 14) косой «хи-ро» крест; 15) круглый для облаток (чтобы было легче преломлять их по надрезам); 16) катакомбный (прототипом якобы явилось небесное явление); 17) патриарший лотарингский (эмблема борьбы с туберкулёзом); 18) латинский крыж; 19) папский крест XIII–XV вв. с подножием; 20) шестиконечный православный (подножие наклонено, так как один из двух распятых с Христом разбойников якобы был взят на небо, а другой – низвергнут в ад); 21) восьмиконечный православный (добавлен «титул» – табличка над головой распятого); 22) седмиконечный (на иконах псковского письма XV в.); 23) крест с терновым венцом; 24, 25) иерусалимский или виселицеобразный

(считается развитием свастики); 26) виноградный или процветший; 27) лепестковый; 28) греческий или корсунский22; 29) наку– польный (победа над Змием); 30,31) трилистный; 32) мальтийский либо георгиевский; 33) плетёный; 34) криновидный (концы в виде лилий); 35) карточный или трефной (считается иудейской насмешкой над православным крестом).
Далее самарские попы просвещают свою паству относительно мистического значения креста: оказывается, крест – это лестница с неба на землю, по которой Господь сошёл на землю для спасения рода людского, а истинно верующие могут наоборот, подняться на небо. Православный апологет XIX века Димитрий Ростовский писал: «Крестный образ срединным пересечением показывает, что божественною силою содержится всё. Всё небесное верхним концом содержится, преисподнее же нижним, а всё земное двумя концами пречестнаго древа крестнаго. Знаменуя высотою небесное, глубиною же преисподнее, широтою же и долготою земное, содержимое всесильною державою креста». В данном случае мы имеем дело с обычным аллегорическим истолкованием, когда Библия воспринимается верующими как сборник загадок и тайн, а задачею верующего предполагается вычленение неисповедимых тайн божиих, иными словами, вычитывание в библейских строках того, чего там не было, нет и не могло быть. Зато духовные чины имеют вечное и бесконечное поле деятельности – состязаться в остроумии, кто придумает сравнение или истолкование поухищрённее, избежав при том впадания в ересь.
Но вернёмся к свастике. Как мы думаем, читатель уже понял из книги Уилсона, что в истории человечества она многовидна. Основные её формы приводит Шойерманн на двух таблицах, которые мы подаём как рис. 58 и 59. Теперь мы определим свастику как крест с отростками, каждый из которых является концом ветви, заломанной под прямым углом. Все ветви и все отростки должны быть равной длины, так что классическая свастика должна вписываться в квадрат. Свастика с загибами вместо заломов под прямым углом называется, как мы видим у Уилсона, крестом «оджи» (ogee). Поскольку свастика является одним из вариантов усложнённого креста, то отныне мы будем считать крест первичным, а свастику вторичной.
Разбирая вопрос о происхождении «креста без распятого», Йегер перечисляет следующие гипотезы своих предшественников:
1) Свастика – это случайно возникшая линейная комбинация чёрточек, вроде букв в детских «тайных алфавитах».
2) Свастика – мотив повторяющегося в развитии Вселенной (т. к. Вселенная развивается по спирали), она представляет собой графическое решение мотива «водоворота»; эту тему мы оставляем без комментариев, отсылая интересующихся к книге Р. Багдасарова «Мистика огненного креста»(с. 48–51).
3) Свастика есть четыре спирали, окружающие четырёхугольное среднее поле. Иными словами, первоначально свастика имела вид фигуры с квадратом в середине, а затем, упростившись, принимает вид пересечения двойных спиралей.
Всё это, конечно, остроумно, но только никак не соответствует древнейшим изображениям свастики из древней Трои, которые весьма незамысловаты. Кроме того, это противоречит весьма обоснованной гипотезе, что свастика произошла из креста, представляя собою его усложнённую форму. И наконец, версии о спиралеобразном развитии Вселенной, пожалуй могли бы прийти в голову досужему мудрецу времён Ямвлиха и Гермеса Трисмегиста, но не простой древнетроянской ткачихе либо гончару, изготовлявшему для неё пряслица. Поэтому версии 2 и 3 приходится отставить, как чересчур «заумные».


Эмиль Бюрнуф, ориенталист и друг Шлимана, представлял свастику как пересечение палочек для добычи «живого огня», из которых верхняя имела в середине шпенёк, а нижняя – дырку, т. е. в совокупности они представляли собою «огненное сверло», распространённое в Хорватии еще даже в позапрошлом веке – версия, столь многократно упомянута Уилсоном и на страницах настоящего очерка, что я думаю, всем надоела. Вероятно, получение священного пламени могло быть культовым действом, аналоги тому в культуре народов мира имеются23. Рукоятки же добавлены, чтобы было удобнее крутить сверло.
Немного более модернизированной является версия происхождения свастики в каменном веке от другого сверла, использовавшегося не для добывания огня трением, а для просверливания отверстий в каменных топорах. Появление же свастики на пряслицах, которые также связаны с вращением и имеют сквозную дыру, равно как и на горшках, изготавливаемых с помощью вращения гончарного круга – одного поля ягоды.
Людвиг Мюллер24 считает свастику происходящей от «виселицеобразного» или «иерусалимского» креста (рис. 60), который якобы происходит от четырёх составленных воедино «молотов Тора». Идея эта могла иметь какой-либо смысл, если бы свастика появилась у древних германцев – мы же видели и видим обратное. Более того, Багдасаров и Дурасов называют «иерусалимский крест» «совмещённой крестоугольной свастикой», указывая, что она порою изображалась на спинах священнических риз, как это хорошо видно на фотографиях Саровских торжеств 1 августа 1903 года, столетие ко-




торых мы недавно отметили. Этнограф Христане представляет свастику как на рис. 61 – два пересечённых епископских посоха (без комментариев!), а Таубнер – как кол с перекрестием, объединённый с бросаемой им наземь тенью. Шварц объявляет её двумя скрещёнными молниями, Штайн– метц – перекрещёнными символами созвездия Большой Медведицы, а директор этнографического музея профессор Карл фон Штайнен – линейным изображением летящего аиста с распростёртыми крыльями (как будто бы аисты водятся везде). Более того, рассматривая готское копьё «Ранинги» (рис. 64, слева), где свастику сопровождают группы из трёх точек, он сходу объявляет их страусиными яйцами, а «кровные знаки» Шойермана – змеями – пищей для аистов. То, что Уилсон называет «пылающими алтарями» на троянских пряслицах, по Штайнену – аистиные гнёзда – получается прямо-таки целая сага про аистов. Над такими воззрениями, высказанными в 1896 году, впоследствии смеялись даже защитники свастики, считая их верхом бумажной учёности. Хёрнес считает свастику символом плодородия и усматривает в ней линейное изображение человечка (рис. 63), в качестве же доказательства приводит знаменитую троянскую статуэтку богини (см.

работу Уилсона), которой свастика нанесена на лобок. Однако не следует забывать, что такая статуэтка в природе всего одна, а прочих артефактов со свастиками – множество. Эту теорию лично Йегер считает наиболее правильной, и объясняет её из буддийской религиозной позы, называемой на санскрите svastikasvastikastano, то есть, «стояние свастикой» – якобы это изображение женщины с распростёртыми руками.
Вносили свою лепту в толкование «древнего знака» не только немецкие специалисты. Английский этнограф Эндрю Лэнг считал в своё время, что первоначально свастика не имела никакого значения, ибо изначально она являлась лишь «естественным орнаментальным элементом». Русский этнолог И. Т. Савенков в работе «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее» (Труды 14-го археологического съезда 1910 года. Т. I, с. 60 и 292) считал, что свастика образовывалась из «перекрещивания линий туловища и изогнутой линии рукоположения» – на что А. Голан (с. 120) резонно спрашивает, откуда у этого туловища появляются загибы концов. Мария Гимбугас (М. Gimbutas. «The Gods and Goddesses of Old Europe». Los Angeles, 1974, c. 91) видит в свастике крест с закруглёнными концами, которые представляют собою четыре полумесяца и символизируют четыре фазы Луны, что также сомнительно. Е. Клетнова в книге «Символика народных украс Смоленского края» (Смоленск, 1924, с. 10) видит в свастике скрещение двух зигзагов, якобы символизирующих молнии – но и это бездоказательно.
Половину главки о кресте в уже упоминавшейся книге Е. Ярославского занимает изложение старой версии о происхождении креста (а следовательно, и свастики как усовершенствованного креста) из инструмента для добывания огня трением. Он пишет: «В скрещивании перекладин делалось отверстие, куда вставлялась круглая палочка, от быстрого вращения которой появлялась искра». Это, конечно, имеет смысл, но необходимо учитывать, что первое издание популярной книги советского атеиста вышло еще до войны, когда эта теория была главенствующей в этнографии (подробнее у Уилсона), а кроме того, пропагандист должен был подобрать наиболее ясное и наглядное объяснение для своих, в общем-то, недостаточно образованных читателей, а не сравнивать достоинства и недостатки различных существующих версий. С этой задачей наш обер-атеист справился, надо сказать, превосходно – и вероятно это из его книги, и книг его последователей рангом пониже, кто переписывая у него (Емельян Ярославский, по крайней мере, использовал при написании своего труда серьёзные научные источники), идея об «огненном» происхождении свастики попала в записные книжки и армейских, и вузовских пропагандистов. Идея, что и говорить, завлекательная – но бездоказательная.
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СВАСТИКИ
Отто Хупп, огрызаясь в своей брошюре на критику со стороны серьёзных этнографов, утверждал, что свастику можно найти только на пряслицах и горшках, общее между которыми то, что и те, и те выходят из рук гончара, то есть, сделаны с помощью гончарного круга, а значит, и передают идею вращения и могут являться корпоративным знаком гончарной гильдии. Его спросили: а как же тогда объяснить наличие свастики на античных монетах, тканях, пряслицах из других материалов – да и появляются они в Трое ещё до изобретения гончарного круга. На первые два возражения Хупп ответил, что монеты тоже круглые и также могут передавать идею движения, а в тканях крутится веретено, дававшее пряжу. На два последние возражения он подобрать ответа не смог.
Наши доморощенные «исследователи» того же времени ни в чём не уступали изобретательности «исследователей» германских. В издании «Археологические известия и заметки» (1897, № 9, с. 300–304 некая Зелия Нуттал, видимо, поклонница теософов, повторяя (или предвосхищая) «открытие» Штайнметца, пишет: «личность, созерцающая годовое обращение Большой Медведицы вокруг Полярной звезды и


сосредотачивающаяся на её виде в четырёх равноудалённых позициях, будет воспроизводить в сознании форму свастики». Теория «летящего аиста» была поддержана этнографом А. А. Бобринским («Археологические известия и заметки», 1897, № 1, с. 21) в его статье «Новая теория происхождения свастики в связи с мотивами кавказских ковров». Кстати, долгое время считалось, что на Кавказе свастика была неизвестна, пока XX век не накопил материалы. Армяне имели для неё специальное название чанкахач либо керахач – «когтистый крест» и изредка изображали её на хачкарах – своих надгробных камнях. На территории же Дагестана, населённой аварцами, классическая свастика с меандровидными концами встречается на камнях кладки построек, однако определить время создания этой резьбы порою достаточно затруднительно, ибо на Кавказе существует обыкновение по многу раз использовать камни от одной постройки для сооружения другой – и так столетиями. Свастика встречается в Дагестане на коврах (рис. 65), а также при оформлении мусульманских надгробных памятников (рис. 66).
В Закавказье свастика обильно представлена в эпоху бронзы – на археологических материалах XVI–VI вв. до н. э., несколько позже – в XII–VIII вв. до н. э. она встречается в северокавказской кобанской культуре (рис. 67) и на ископаемой керамике Северного Дагестана и Чечни IX–VI вв.

до н. э. Однако в исторические времена она была известна лишь ограниченным группам горцев Аварии, Чечни и Северо-Восточной Грузии (рис. 68

– пример из Чечни, рис. 69
– из Абхазии, рис. 70 – из Армении, рис. 71 – из Грузии). Видимо, в древности в этой местности обитала какая-то этническая общность – без сомнения не индоевропейская, – которая вкладывала в свастику некое особое значение.
Изобильно представлена на древнем Кавказе и в Закавказье неклассическая свастика-тетраскеле: рис. 72 (резной камень из села Ругельда в Дагестане), рис. 73 (северокавказская бляшка примерно III века н. э.), рис. 74 (резной камень из села Хуштада в Дагестане).