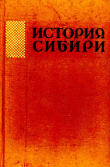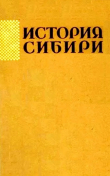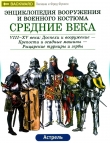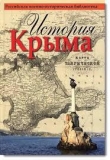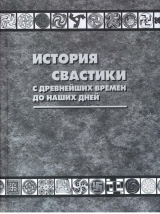
Текст книги "История свастики с древнейших времен до наших дней"
Автор книги: Анатолий Москвин
Соавторы: Томас Уилсон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Свастика, в право– и левозакрученном вариантах, наиболее часта на уровнях III, IV и V. Мы выбрали следующие образчики со свастикой из громадного альбома иллюстраций Шлимана, пытаясь дать читателю представление о различных типах свастики в столь раннее время. Рисунки приведены по порядку следования слоёв, с указанием для каждого случая глубины залегания образца.

Троя III – сожжённый город (глубина 23–33 фута). – Пряслице на рис. 43 имеет две свастики и два креста. У однойсвастики две ветки загнуты под прямыми углами направо, тогда как другие две загнуты направо, но с округлыми загибами. Другая свастика имеет два загиба, один с заломом под прямым углом, другой – с округлым загибом. Образец с рис. 44 имеет две свастики, одна из которых с четырьмя ветвями, заломленными под прямыми углами в левом направлении. Эмблема прочерчена двойными линиями, одна потолще, а другая потоньше, словно бы представляя собою тень от толстой линии. Вторая свастика имеет тупозагнутые в левом направлении углы с равными по длине ветвями. Пряслице с рис. 45 почти шарообразное, в верхней части его процарапаны две свастики. Оконечности всех четырёх ветвей загнуты под прямыми углами, у одной свастики направо, у другой налево. На рис. 46 изображено пряслице с двумя неправильными ломаными свастиками, но одна ветвь согнута под прямым углом, а все прочие ветви и отростки расположены вперемешку – более того, они неравны друг другу по длине. Соседнее пространство занято неопределёнными значками, из которых какой-то смысл могли бы иметь лишь точки (или углубления), которых всего семь.



На рис. 47 вершина изделия опоясана зигзагообразной линией либо чередой зубцов. На этом фоне в верхней части, на равном удалении от центрального отверстия, располагаются три свастики, концы которых закручены налево. У всех трёх наблюдаются один или более загибов не с прямыми углами, а скорее по кривой или крюкообразно, что делает из свастики «крест оджи». На иллюстрации 48 изображено крупное пряслице с двумя или тремя свастиками на его верхней поверхности, находящимися в увязке с расположенными по соседству ломаными линиями неясной семантики. Фон испещрён точками, все свастики правозакрученные, но прочерчены неуверенными линиями и с неравномерными не прямыми углами. У одной из них главная ветвь, образующая крест, загибается по направлению к срединному отверстию, а оба отростка загнуты в одном и том же направлении – то есть, указывая на боковую поверхность пряслица. Образец с рис. 49 имеет шарообразную форму (сравни рис. 75 и 88) и разделён вертикальными линиями на четыре сегмента, которые разбиты каждый надвое горизонтальной линией, проходящей по «экватору» шара. Семь сегментов содержат неясные отметки, либо точки и окружности, в то время как восьмой несёт классическую левозакрученную свастику. Этот небольшой терракотовый шарик в своем роде прославился среди узкого круга исследователей проблемы – Грег («Archaeologia», XLVIII, с. 332) пишет о нём: «В одном полушарии мы видим свастику, символизирующую бога Зевса (он же Индра), небесное божество, а на другой стороне – грубое изображение священного древа, что является любопытнейшим западным отображением первоначальной идеи и важным прямым доказательством существовавшей связи свастики с личностью небесного божества».



На рис. 50 мы видим одно из биконических пряслиц, две стороны которого украшены различными геометрическими фигурами, причём вытянутые в длину линии перемежаются с точками, дуги концентрических кругов расположены «радугами» по три и пр. На одной из сторон этого древнего предмета ясно видна классическая свастика, ветви которой пересекаются под прямыми углами, а концы заламываются под прямыми углами в правом направлении.


Рис. 51 показывает четыре классических свастики и две размазанных или нечётко прорисованных, вероятно, испорченных механическим повреждением поверхности образца в процессе эксплуатации. Все четыре свастики правозакрученные, некоторые из них скорее тупоугольные, чем прямоугольные, одна ветвь скошена. Несколько отростков пригнуты вбок. На рис. 52 мы видим биконическое пряслице, содержащее две свастики, главные ветви которых образуют «кресты оджи», пересекаясь в центре под почти прямым углом; крюкообразные отростки загнуты направо. На рис. 53 весь фон верхней поверхности пряслица занят «греческим» крестом, в центре располагается срединное технологическое отверстие, а на каждой из четырёх оконечностей креста начертано по свастике, ветви которых пересекаются под прямыми углами, а отростки загнуты в правом направлении под слегка тупыми углами. Отростки этих свастик слегка прищипнуты, изгибаясь вовне (относительно «цветущей» свастики с прищипанными отростками см. рис. 33–34 настоящей работы и объяснение к ним). Образчик с рис. 54 изображен в ракурсе сверху (так что срединное отверстие оказывается в середине рисунка), а декор состоит из начертанных острым резцом параллельных линий, образующих сегменты окружностей, каждая из которых занимает одну из четвертей фона. Центральное отверстие огибается двумя врезанными в глину концентрическими кругами. В одно из полей между сегментами окружностей вписана одиночная свастика, основные ветви которой пересекаются под прямым углом, два из левозагнутых отростков прямые, а два изогнутые («прищипнутые»).


Четвёртый слой (глубина 13,2—17,6 футов). Шлиман пишет («Ilios», с. 518, 571): «В период, непосредственно следующий за эпохой сожжённого города, мы наблюдаем и многие типы объектов, характерных для предыдущих периодов – распространение примитивных бронзовых топоров, треугольных божков-идолов, терракотовые сосуды с тремя ножками или без оных, однотипные двуручные кубки, такие же боевые топоры из нефрита, порфира и диорита, такие же грубые каменные молотки и седлообразные ступки. Количество грубых каменных молотов и полированных топоров из того же материала по сравнению с Троей III возрастает троекратно, тогда как число ракушек, рассыпанных среди строительного мусора в развалинах домов настолько велико, что никто не ожидал найти их столько. Керамика грубее и менее профессионально исполнена, чем в эпоху расцвета древней Трои».
В четвёртом слое найдено также множество костяных игл, медвежьих клыков, обломков слюдяных пластин, точильных брусков из наждака, порфира и пр. обычной, веками устоявшейся формы, сотни мелких кремневых пилок и обсидиановых ножей. Каменные пряслица, столь обильные в Микенах, попадаются здесь редко; все, которые тут были собраны, по сообщению господина Дэйвиса, изготовлены из стеатита. С другой стороны, терракотовые пряслица, с нанесённым на них узором или без оного, попадаются тысячами; их внешний вид практически не отличается от образцов, обнаруженных в третьем (сожжённом) слое – то же можно сказать об их нарезном декоре. Мы приводим практически те же рисунки пряслиц, что и в Трое III, относительно которых справедливы те же объяснения и попытки интерпретации.


На рисунке 55 изображён простой конус, верхняя поверхность которого плоская; её единственным декором являются три свастики, равноудалённые от срединного отверстия и друг от друга; все они нанесены двумя надрезами крест-накрест, отростки правозакручены. Этот образец похож на тот, что приведён на рис. 71 (из коллекции госпожи Шлиман в Национальном музее США). На рис. 56 изображено еще одно примечательное пряслице, которое в своё время возбудило немалый интерес доктора Шлимана – и стоило ему немало времени, которое он потратил, пытаясь интерпретировать эти и похожие на них рисунки. Это пряслице также конической формы, и оно имеет на своей поверхности четыре свастики, три из которых закручиваются направо, а одна – налево. Две из этих фигур имеют отростки, заломанные под прямым углом, однако большинство углов свастик – тупые, а у двух из них углы закруглены. Некоторые из отростков пришипаны, однако не столь сильно, как у «цветущих» свастик. Сопутствующие орнаментальные мотивы, столь заинтересовавшие доктора Шлимана – это зигзаг, составленный из параллельных линий, который, по его убеждению, с чем согласны и многие другие интерпретаторы, обозначает молнию. Второй серии фигур он дал название «пылающий алтарь» – и это истолкование было поддержано коллегами; ему были найдены аналоги из других культурных сфер (см. рис. 101). Третья серия значков, вероятно, изображает животного непонятной породы и вида, с клыками и двумя торчащими в стороны рожками или ушами, прямой спинкой, стоячим, но опущенным вниз хвостом, четырьмя ногами и двумя рядами непонятных точек – шесть в одном ряду, семь в другом – расположенных параллельно спине непонятного существа (см. рис. 99– 100)22.


На рис. 57 мы показываем еще одно конусообразное пряслице, на плоской поверхности которого нарисована одна настоящая свастика, две ветви которой пересекают друг друга под прямыми углами, а два отростка заломаны также под прямыми углами в правом направлении, два других в равной степени загнуты направо, но они не загнуты, а закруглены. Доктор Шлиман применяет термин «свастика» к еще двум фигуркам, хотя относительно расположения их ветвей и отростков трудно сказать что-либо определённое. Четвёртая фигурка кажется неудачно нарисованной либо испорченной свастикой. На рис. 58 мы видим биконическое пряслице, испещрённое странными и необъяснимыми символами. Один из них похож на грубую свастику, у которой главные ветви пересекаются под прямым углом, а ломаные отростки загнуты под различными углами, три налево, а четвёртый направо. Эти знаки столь примитивны и грубы, что представляется сомнительным, придавал ли наносивший их какое-либо им значение, орнаментальное или символическое. Пряслице с рис. 59 почти коническое, уплощённая поверхность его лишь слегка приподнимается к центру. Оно практически той же формы, что и пряслица с рисунков 55 и 71. Верхняя поверхность почти уплощённая, а на ней, на равном удалении от срединного отверстия и друг от друга, расположены три свастики «оджи», выписанные двойными линиями, концы которых загнуты вправо. Фон свастикам составляют небольшие концентрические нарезные окружности, с точками в центре.

Рис. 60 изображает биконическое пряслице, оформленное тремя сериями концентрических окружностей по три или четыре вокруг одного центра, наподобие той, которая изображена на рис. 54. В промежутках между ними нарисованы две свастики, главные ветви которых пересекаются под прямыми углами, некоторые из них загибаются под прямым, а некоторые под тупым углом. У одной из свастик загнутые отростки наклоняются друг к другу, образуя нечто вроде восьмёрки. Образец, показанный на рис. 61 является биконическим, но намного более уплощённым, он содержит пять свастик «оджи», из которых пять правозакручены, а последняя левозакручена. В промежутке между ними изображена фигура, известная как «пылающий алтарь»23.



На рис. 62 нарисованы три свастики, прорисованные двойными параллельными линиями, отростки одной загнуты под практически прямыми углами, причём одна является правозакрученной, а другая – сочетает в себе черты право– и левозакрученной фигуры. На рис. 63 показано очередное пряслице с чашкообразным углублением вокруг срединного отверстия, которое описано тремя концентрическими окружностями, а на оставшемся свободным поле нарисованы четыре левозакрученные свастики «оджи» (тетраскеле), заканчивающиеся спиралями.
Пряслице с рис. 64 биконическое, причём, как обычно, верхний конус меньших размеров. Три серии параллельных концентрических круговых линий делят поверхность артефакта на сектора, в одном из которых процарапана фигура, внешне схожая со свастикой довольно редкого и примечательного начертания, напоминающая образец, показанный на рис. 60. Две главные ветви пересекаются под правильным прямым углом, а отростки, заломанные также под прямыми углами, нагибаются друг к другу таким образом, что если бы они сомкнулись, то образовали бы восьмёрку с ломаными окружностями.




Образчик с рис. 65 имеет три сегмента с тремя же параллельными линиями; оставлен недекорированным лишь центр, где и расположено отверстие (сравни рис. 60 и 64). Между двумя секторами вписана свастика необычной формы, главные ветви которой пересекаются под прямыми углами, но четыре их конца представляют различные стили декорировки – два заломаны под прямыми углами налево, один под прямым углом направо, а четвёртый загибается налево, не образуя никакого угла. На рис. 66 изображено биконическое пряслице, верхняя часть которого представляет три свастики и три «пылающих алтаря». Все свастики левозакрученные, отростки их в ряде случаев загибаются под прямыми углами, в других – под тупыми углами, причём два или три из них «прищипаны»; на двух из них сохранились следы поправок, когда рядом с отростком, процарапанным под одним углом, добавлялся другой, направленный под «правильным» углом, или прямой отросток правился на изогнутый.


На рис. 67 мы видим четыре образчика свастики, главные ветви которой пересекаются под прямыми углами. Отростки загнуты вправо, почти под прямыми углами, и слегка «прищипнуты», образуя аналог свастики джайнов (рис. 34с). Они перемежаются фигурой «горка» (chevron decoration)24. Одна из свастик скомпонована из двух гнутых линий («крест оджи»), две ветви еще одной закруглены, тогда как остальные заломаны под прямыми углами, некоторые из них пригнуты к центру, образуя нечто в виде «расцветших оконечностей» (рис. 67 и 34с). Одна из этих оконечностей, подобно тому, что мы видим на рис. 66, была подправлена изготовителем артефакта.
На рис. 69 изображена свастика, главные ветви которой пересекаются почти под прямыми углами. Оба конца одной ветви загнуты направо, а другой – налево, образуя нечто вроде восьмёрки. Одна из оконечностей закруглена, другие загнуты под различными углами. На рис. 70 мы можем видеть параллельные линии, представляющие сегменты круга, схожего с тем, что мы имеем на рис. 60, 64, 65 и 69, с той разницею, что здесь их четыре, а не три. На пряслице нацарапана одна свастика, главные ветви (прочерченные параллельными линиями) пересекаются под прямыми углами, оконечности закругляются налево, образуя подобие «креста оджи».


Национальному музею США в 1893 году удалось заполучить коллекцию предметов госпожи Шлиман, по завещанию её мужа, который еще при жизни распорядился передать её народу Соединённых Штатов в знак признательности и благодарности за выдачу ему постоянной въездной визы. Учёный никогда не забывал, что он является гражданином США, и таким образом отблагодарил свою вторую родину25. Собрание состоит из 178 предметов, все из раскопок Трои, и представляет собою вполне показательную выборку того, что было им найдено. Эта коллекция теперь составляет особый фонд в собрании Отделения доисторической этнографии. В ней наличествует ещё одно пряслице, откопанное на глубине 13,5 фута (около 4 метров) и относящееся к культуре Троя ГУ. На его лицевой поверхности изображено три свастики – это пряслице показано на рис. 71.

Уровень Троя V. – Сам Шлиман пишет («Ilios», с. 573): «Грубые каменные молотки, найденные в большом количестве в четвёртом горизонте, пропадают из пятого уровня, равно как и каменные топоры, бывшие прежде столь многочисленными. Вместо сотен топоров, собранных в четвёртом слое, в пятом я нашел всего два. Формы терракотовых пряслиц здесь также почти полностью изменились. Эти предметы сделались намного грубее и безыскуснее, стали удлинёнными, а их оконечности – заострёнными. Типы пряслиц, изображенные на рис. 1801—3 [рис. 72–74 настоящей книги] становятся здесь наиболее частыми».

Уровни Троя VI и Троя VII. – Шестой горизонт описывается на с. 587 эпохальной книги Шлимана, а седьмой – на с. 608–618. На обоих уровнях были собраны образцы прекрасно обожжённых глиняных пряслиц без каких-либо нацарапанных либо нарисованных украшений – так что они не могут добавить ничего нового к изучению свастики.
На рис. 75 показаны два противолежащих полушария терракотового шарика, обнаруженного на глубине 26 футов, поделённого горизонтальными линиями на пятнадцать поясов, из которых два украшены рядами кружков, а срединный – широчайший изо всех – тринадцатью образчиками право– и левозакрученных свастик.
Змигродский в трудах X этнографического съезда в Париже (1889, с. 474) подсчитал, что Шлиман обнаружил в Гиссарлыке 55 образцов классической свастики.

Позже мы увидим, что его «классическая» свастика также распадается на несколько подтипов – с непрямоугольным пересечением главных ветвей, с прямоугольными и другими загибами отростков, право– и левозакрученные (суавастика Бюрнуфа и Макса Мюллера), с прямыми и «прищипанными» отростками, с «процветшими» и обыкновенными оконечностями, где ветви вообще не ломаются отростками, а закручиваются спиралями – некоторые направо, а другие – налево. Мы встретимся с множеством сопряжённых форм, где ветви в том числе закручиваются, наезжая одна на другую, состоя из трёх, пяти, шести и даже большего количества отростков-спиралек, вместо классических четырёх. Крест и круг будут также рассмотрены в связи с генезисом различных форм свастики, соприкасаясь с прочими фигурами, как– то: зигзагами (молниями), «пылающим алтарём», человечками и фигурками животных, встречающихся рядом со свастикой на тех же или найденных в тех же археологических памятниках артефактах. Их описание и критический разбор будут включать также и вышеописанные, причём мы собираемся цитировать мнения Шлимана относительно их частотности и семантики. Этот подход кажется оправданным, поскольку аналоги встречаются в различных, отдалённых друг от друга местностях и у различных народов, в том числе и у американских аборигенов. Вероятно, эти фигурки что-то значили, но не исключено, что и нет. Доктор Шлиман, впрочем, считает, что в большинстве случаев глупо было бы лишать их какого-либо значения. Доктор Сойс также склоняется к этой точке зрения, предполагая наличие алфавитного, языкового или идеографического значения. Конкретные истолкования им не приводятся, но примеры даются в изобилии – автор, похоже, ставит перед собою каталогизатор– скую задачу, стремясь собрать и сопоставить материал, который истолковывать будут другие – изобретательные и не очень, радикалы и фантазёры, теоретики и агностики, находящиеся на чисто научных позициях и вкладывающие в этот знак мистическое значение, состязаясь в изощрённости своих истолкований. Вероятно, учёт сходных вариантов в какой-то мере поможет пролить свет на происхождение свастики у разных народов земного шара.




Образец, показанный на рисунке 76, не является пряслицем, что явствует из количества и расположения отверстий. На предмете изображена классическая свастика, о которой мы выше неоднократно писали. Две главных ветви пересекают друг друга практически под прямым углом. Концы ветвей заломаны вправо под слегка притуплёнными углами, торча наружу наподобие «цветущей свастики» джайнов (рис. 34с). На изображении 77 показано пряслице с правозакрученной свастикой «оджи». Срединное отверстие его совпадает с центром знака. Ветви обозначены двойными линиями, а между ними помещены четыре точки, подобные тем, что мы имеем на артефактах на рис. 96–98 и прочих, которые доктор Шлиман считал «часто попадающимися». Он уверен, что эти символы имели какое-то специфическое значение, но воздерживался от попыток угадать, какое именно. Свастики и кресты неклассических очертаний покрывают поле предмета, показываемого нами на рис. 78. Среди прочего мы имеем тут две хорошо узнаваемые свастики, обе с закруглёнными концами (типа «оджи»), крючья их ветвей заломаны в правую сторону. Одна из них имеет точный аналог в изображении на рис. 8 (см. также рис. 60 и 64). Две других исполнены грубее, неправильной формы, и в другом контексте не могли бы быть опознаны как свастики. На рис. 79 объект имеет неясно выраженные и плохо исполненные свастики, концы одной и той же ветви некоторых могут быть загнуты в различных направлениях. Две основные ветви незагнуты. Рядом наличествуют необъяснимые точки, а поле испещрено ничего не значащими или, по крайней мере, не объяснёнными знаками. На рис. 80 мы имеем ещё один пример пряслица с неясными каракулями и загогулинами. Среди этих значков присутствует одна незаконченная свастика, которая, в отличие от всего того, с чем мы до сих пор встречались, имеет вписанную в центр окружность – в точке пересечения двух главных ветвей. На предмете с рисунка 81 присутствуют две свастики, ветви которых пересекаются под прямым углом, а загибы на их концах также прямоугольны. У одной из них концы заломаны налево, у другой – направо. Свастика сопровождается декоративным фоном, вероятно, лишённым символического значения – по крайней мере, пока что смысл этих «черт и рез» ускользает от интерпретатора. На рис. 82 образец имеет четыре группы сегментированных концентрических окружностей с грубо вычерченной свастикой между двумя из них. Концы плохо прописаны, причём лишь один из них смыкается с главной ветвью. К одному из концов не приписан загибающийся крюк, а другой пересекает главную ветвь, образуя подобие примитивного креста. На рис. 83 мы видим несомненную свастику, главные ветви которой пересекают друг друга под прямым углом, закручиваясь налево наподобие креста «оджи». Особенность этого экземпляра в том, что центр знака описан кругом, дистанцируя свастику от примитивных символов креста и круга. Поле артефакта заполнено сегментированными концентрическими кругами, как и на многих других предметах из раскопок. Образец с рис. 84 подобен по внешнему виду образцу с рис. 83. Шесть наличествующих на пряслице свастик образованы широкими кругами с точками внутри, к которым с внешней стороны окружности приписаны крюки загибов, исполненные порою под прямым утлом, порою со скруглённым углом. Все эти «свастики» закручены вправо (см. рис. 13d). Другие орнаментальные сюжеты на этом предмете не прослеживаются. Данные образцы наводят на мысль об особом статусе свастики по сравнению с близкими ей символами – кругом и крестом. Мы видели также множество свастик, составленных из закруглённых к концам ветвей. Образцы с рис. 85 и 86 имеют те же спиралеобразные непересечённые завитки – хотя они и не являются свастиками, но представляют развитие орнаментальных мотивов, от которых до свастики – рукой подать.




Любопытен декор, представляющий сегменты окружностей, также процарапанных на изделиях подобного рода. Выпуклости окружностей направлены к центру пряслиц (рис. 60, 64, 65, 69, 70, 82 и 83). Почти постоянно присутствуют таинственного смысла точки (рис. 46, 56, 75, 76, 77, 79, 84, 92, 96, 97). На рис. 87 мы видим комбинацию сегментов трёх окружностей со вписанными в каждую из них точками, сопровождаемую двумя свастиками. Из этих свастик одна классическая, закрученная направо, а другая с нестандартной ветвью, один конец которой без загиба, а другой загнут. На рис. 88 представлены две секции терракотового эллипсовидного шарика, разделённого подобно предмету с рис. 49. Каждая из этих секций имеет фигуру, похожую на свастику, или могущую быть сравнимой с нею. Это окружности с приписанными к их внешним сторонам и загнутыми в левую сторону крюками, наподобие свастики «оджи». У одной из окружностей таких крючьев семь, у другой девять, у одной они похожи, у другой различны, причём крючья поставлены на неравномерных интервалах друг от друга. Рис. 89 изображает пряслице почти сферической формы из терракоты, с большим центральным углублением с отходящими от него почти прямыми параллельными линиями, схожими со спицами колеса, немного согнутыми в левую сторону. В некоторых странах окружность с отходящими от неё в стороны лучами считается символом солнечного диска – однако нет никаких оснований приписывать ей это же значение в случае предметов с холма Гиссарлык. Один из каракулей декора напоминает стилизованное животное с длинной спиной, стоячим хвостом и четырьмя конечностями (сравните рис. 99, 100) [ «Ilios», с. 418]. На рис. 90, 91, 92 и 93 показано дальнейшее изменение согнутого (серповидного) луча, развивающегося в закруглённую «лапу»26 свастики, где многие крючья начинаются от центрального круга, совпадающего со срединным отверстием пряслица – так, что весь узор представляет собою «солнышко» с загнутыми в одну сторону лучиками – символическое изображение вращения, этакая своеобразная «небесная спираль». Впрочем, отношение этого символа к солярным знакам лишь подразумевается, но никоим образом не декларируется. Необъяснимые повторяющиеся точки сопровождают дизайн предмета на рис. 90.







Нет нужды утверждать, что эти сближаемые нами формы непременно приняли участие в эволюции свастики как таковой. В дальнейшем мы воочию увидим, как, в применении к троянским находкам, многие декоративные модели, не имевшие никакого отношения к свастике, связывались с нею узколобыми кабинетными учёными, не имеющими сдерживающего чутья, зато в изобилии производящими на свет экстравагантные теории по поводу того, что могла бы значить та или иная комбинация знаков. Как предметы, появившиеся в рамках той же археологической культуры и относящиеся к тому же локусу, они, вероятно, имели духовное родство с классическими свастиками – в любом случае, всё, что вышло из-под рук наших далёких предков, должно быть изучено – а вот характер и степень этого влияния на предмет нашего исследования могут послужить поводом для дискуссий. Не включать эти случаи, могущие иметь, а могущие и не иметь отношения к свастике, оставляя их за пределами нашего поля зрения, значило бы лишить оппонента права слова, не дав ему высказаться по интересующему нас вопросу. Поэтому, читатель простит, мы включаем в нашу работу и рассмотрение сопряжённых со свастикой форм.

В частности, мы согласны рассмотреть прочие кресты, так как свастика считается многими одною из разновидностей креста. Автор отдаёт себе отчёт, что между свастикой и крестами может быть, а может и не быть генетической связи – однако никто, насколько нам известно, не может явиться судьёй в последней инстанции относительно этих вопросов, затрагивающих столь глубокую древность человеческого сознания, чтобы единолично решать, что имеет право на существование, а что нет. Нам пока приходится лишь смиренно признать своё незнание и неспособность установить детали ранних этапов истории креста и свастики, ибо их корни теряются в вечности. Именно поэтому история креста, особенно дохристианского, представляет столь благодатную почву для исследования. Само собой, в гипотезе о родстве креста и свастики нет ничего невероятного – более того, общность происхождения легче признать, чем отвергнуть.
Аргументы за и против можно отыскать в прочих артефактах той же археологической культуры. Г-н Монтелиус, видный исследователь прошлого из Национального музея в Стокгольме, подразделил культуру бронзового века своей родины на восемь этапов, причём основанием для классификации послужило развитие формы фибул из доисторических захоронений. Разбирая накопившийся в музее материал, он рассортировал древние фибулы на восемь групп, каждая из которых была представлена немалым числом образцов, в чём-то отличных друг от друга, но имевших черты сходства. Установить последовательность появления этих серий, опираясь на размер, стиль, тщательность обработки и дизайна было делом техники – в первую группу попали самые маленькие, в восьмую – самые крупные и тщательно отделанные экспонаты. Затем были приняты во внимание места нахождения каждого образца, а также сопутствующий инвентарь, в результате чего выяснилось, что типы 1 и 2 тесно связаны, зачастую происходя из одного и того же захоронения. Равно это касалось общности типов 2 и 3, 3 и 4, и так далее вплоть до последней, восьмой группы. Показательно, что материал не был перепутан либо обобщён – фибулы групп 1 и 3, 2 и 4 никогда не попадались в одном комплексе, но только фибулы соседних генетических групп. Установлено родство типов 7 и 8, но не 6 и 8, и не 5 и 7 – и вообще, родство прослежено лишь в пределах групп под соседними номерами. На основе этого блестящего исследования Монтелиус сумел показать, что каждая серия или каждая пара серий отвечает определённому этапу в истории культуры древних народов, оставивших нам в наследство эти памятники. Хотя несоседние порядковые номера никогда не ассоциировались друг с другом, всё же в рамках всего исследования они оказались тесно взаимосвязаны, пусть и не напрямую, – хотя бы потому, что служили одной надобности и являлись одной из ступеней эволюционизирующего производства, поднимавшегося шаг за шагом по пути к мастерству и удобству пользования предметом – причём нелишним будет предположить, что между древними мастерами-изготовителями существовали тесные творческие контакты.

Подобное можно предположить и для предметов нематериальных, каковыми являются символы, например, различных видов крестов, знаков, имеющих основным конструктивным элементом окружность, спираль и пр. Связь между свастикой и кругом прослеживается в свастиках, имеющих спиралеобразные закругления концов ветвей, исполненных в одном или в противоположных направлениях. Однако о пути развития орнаментального сюжета или о взаимоотношении его отдельных стадий, насколько мы понимаем, судить еще рано. Оставим гипотезы теоретикам и историкам искусства – мы их с готовностью примем, если они не будут передёргивать, подтасовывать материал и не перейдут за пределы дозволенного в науке. На рис. 94 артефакт имеет четыре креста, ветви которых пересекаются под прямыми углами, а концы ветвей вместо крючьев (что превратило бы кресты в свастики) снабжены рассохами (двузубыми вилками). Получившаяся фигура может быть названа по– английски foliated cross, нечто вроде «облиствленный крест», и по форме она близка крестам «древа жизни» древних майя. Рисунки 95–97 представляют сюжет «греческого креста»27. Центр крестов совпадает с отверстиями пряслиц. Лапы крестов расходятся из общего центра к краям, причём внутри комплекса лап присутствуют вездесущие загадочные точки. В связи с этим можно поставить вопрос, не связаны ли эти точки каким-либо образом с изображением солнечного диска. Впрочем, в этом вопросе уже заключены все слова, необходимые для ответа, и пусть этот ответ немного остудит горячие головы, которые тщатся усматривать мифологию во всём, где надо и где не надо. Рисунок 98 представляет нам подобный предмет с аналогичными точками, с тою разницею, что тут мы имеем не четыре лапы крестовины, а лишь три. На рисунках 99 и 100 мы видим по четвёрке таких же странных стилизованных животных, каковых мы ранее наблюдали на рис. 56, рассматривая их в увязке со свастикой. Мы приводим эти сюжеты исключительно для сравнения. Все эти зверушки одинаковой или схожей формы, и одного описания достанет для всех зооморфных фигурок с разных артефактов. Их хвост прямой, опущен вниз, у них по четыре конечности, головки округлые, с одним глазом на видимой наблюдателю стороне морды, с длинными ушами наподобие кроличьих или заячьих, которые в случае артефакта на рис. 56 можно признать рогами. Общие замечания относительно креста как элемента декора, а также знака «пылающий алтарь», относятся в равной мере и к этим граффити зверушек, также сопровождаемых зачастую точками необъяснимой семантики. На рис. 101 показаны обе стороны пряслица – как пример «пылающего алтаря» в терминологии Шлимана, как-то связанного со свастикой, как на рис. 61, 66 и 68, и даже «восьмёрочной» свастики, как на рис. 64 и 69.