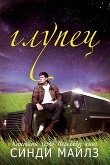Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Констанция Кренмиц принадлежала к числу этих счастливиц. Но какое странное это было сожительство, сожительство двух детей, сожительство, в котором сочетались неопытность и честолюбие, спокойствие уже завершенной судьбы и лихорадочный трепет жизни в самом разгаре борьбы! Какой яркий контраст между спокойным обликом блондинки, бледной, как выцветшая роза, казавшейся в своей светлой одежде все еще озаренной бенгальскими огнями, и брюнеткой с правильными чертами лица, всегда облекавшей свою красоту в темные ткани, падавшие прямыми складками и придававшие ей мужественный вид!
Непредвиденные обстоятельства, каприз, незнание мелочей жизни приводили в полное расстройство денежные средства этой семьи, и преодолевать их удавалось путем лишений, прибегая к увольнению слуг и к другим, иногда нелепым крайностям. Во время одного из таких кризисов Дженкинс намеками, очень деликатно предложил свою помощь, но она с презрением была отвергнута Фелицией.
– Нехорошо так обижать бедного Дженкинса, – говорила ей Констанция. – В сущности, в его предложении не было ничего оскорбительного. Старый друг твоего отца…
– Разве он может быть кому-нибудь другом? Гнусный лицемер!
С трудом преодолевая отвращение, Фелиция обращала все в шутку, передразнивала Дженкинса, плавным движением прижимала руку к сердцу, надувала щеки и напыщенно, громко произносила, подражая его лживым излияниям:
– Будем гуманны, будем добросердечны… Делать добро, не ища награды!.. Это главное.
Констанция невольно хохотала, хохотала до слез, так велико было сходство.
– Все равно… Ты слишком жестока к нему… Он перестанет у нас бывать.
Фелиция покачивала головой, словно говоря: «Да, как же, перестанет!..»
И действительно, он не прекращал своих посещений, ласковый, любезный, скрывая свою страсть, проявлявшуюся только тогда, когда он ревновал ее к новым знакомым. Он осыпал знаками внимания старую балерину, которой, несмотря ни на что, нравилась мягкость его обращения, ибо она видела в нем человека своего времени, когда мужчины, подойдя к женщине, целовали у нее руку и говорили комплименты, восхищаясь цветом ее лица.
Как-то утром Дженкинс, объезжая больных, заглянул к Фелиции и застал в передней старую балерину, сидевшую в одиночестве и без дела.
– Видите, доктор, я стою на карауле, – спокойно сказала она.
– Как так?
– Фелиция работает. Она не хочет, чтобы ее тревожили, а слуги до того тупы! Я сама дежурю, чтобы не был нарушен ее запрет.
Заметив, что Дженкинс направляется в мастерскую, она его остановила:
– Нет, нет, не ходите… Она просила никого к ней не пускать.
– Даже меня?
– Прошу вас!.. Иначе мне достанется.
Дженкинс уже собирался уйти, как вдруг раскаты смеха Фелиции, донесшиеся из-за портьеры, заставили его насторожиться.
– Значит, она не одна?
– Нет, не одна. У нее Набоб… Он позирует ей для бюста.
– Но почему такая таинственность?.. Вот что странно…
Он зашагал по передней, с трудом сдерживая ярость.
В конце донцов его прорвало. Это же неслыханное неприличие – оставлять девушку наедине с мужчиной! Он удивляется, что такая почтенная, такая преданная особа, как Констанция… На что это похоже?
Старая дама посмотрела на него с изумлением. Будто Фелиция такая же девушка, как другие! И какую опасность представлял Набоб, человек положительный и притом такой урод? К тому же Дженкинсу хорошо известно, что Фелиция никогда ни с кем не советуется, а всегда поступает по-своему.
– Нет, нет, это невозможно, я этого не могу допустить, – заявил ирландец и, не обращая внимания на балерину, которая возносила руки к небу, словно призывая небо в свидетели того, что сейчас произойдет, направился в мастерскую… Но вместо того, чтобы войти, он тихонько приоткрыл дверь, приподнял угол портьеры и увидел, хотя и на довольно далеком расстоянии, именно ту часть комнаты, где позировал Набоб.
Жансуле сидел без галстука, в расстегнутом жилете и о чем-то с взволнованным видом вполголоса говорил. Фелиция отвечала ему, смеясь, тоже почти шепотом. Сеанс протекал очень оживленно… Потом наступило молчание, послышалось шуршанье юбок, и художница, приблизившись к своей модели, непринужденным жестом отогнула воротничок сорочки Жансуле и слегка провела рукой по его загорелой шее.
Эту эфиопскую образину с трепещущими от опьянявшего его блаженства мускулами, с длинными ресницами, опущенными, как у засыпающего дикого зверя, которого щекочут, смелый силуэт молодой девушки, склонившейся над этим странным лицом, чтобы проверить его пропорции, наконец, резкое, непроизвольное движение Набоба, схватившего на лету тонкую ручку и прижавшего ее к своим толстым горячим губам, – все это увидел Дженкинс как бы при багровой вспышке молнии…
Шум, произведенный его приходом, заставил обоих действующих лиц вновь занять соответствующее положение. При ярком дневном свете, слепившем ему глаза, глаза кота, подстерегающего добычу, Дженкинс увидел стоящую перед ним девушку, изумленную, полную негодования, готовую воскликнуть: «Кто тут? Кто посмел?..»-и Набоба на низеньком помосте, с отогнутым воротничком, окаменевшего, монументального.
Слегка сконфуженный, смущенный собственной дерзостью, Дженкннс пробормотал извинения… Ему необходимо передать г-ну Жансуле важную, не терпящую отлагательств новость… Он узнал из достоверных источников, что к шестнадцатому марта предполагается награждение орденами. Лицо Набоба, за минуту до этого нахмуренное, прояснилось:
– В самом деле?
И он нарушил позу… Дело того стоило, черт возьми! Г-ну де Лаперьеру, одному из секретарей императорской канцелярии, было поручено императрицей обследовать Вифлеемские ясли. Дженкинс заехал за Набобом, чтобы завезти его в Тюильри к этому секретарю и условиться о дне. Посещение Вифлеемских яслей этой особой обеспечит Жансуле орден.
– Едем!.. Сейчас, сейчас, милый доктор…
Он уже не сердился на Дженкинса за несвоевременный приход; он торопливо завязывал галстук, позабыв под впечатлением этого известия испытанное им только что волнение, ибо честолюбие у него все оттесняло на второй план.
В то время как мужчины вполголоса беседовали, Фелиция, не двигаясь с места, с раздувающимися ноздрями и презрительно приподнятой губой, в негодовании смотрела на них, словно говоря: «Ну, что там такое? Я жду».
Жансуле извинился, объяснив, что принужден прервать сеанс; чрезвычайной важности дело…
Она снисходительно усмехнулась:
– Пожалуйста, пожалуйста!.. Работа настолько подвинулась, что я могу продолжить без вас.
– О да, – сказал доктор, – бюст почти окончен.
И добавил с видом знатока:
– Превосходная вещь!
Рассчитывая, что этот комплимент облегчит ему отступление, он уже собирался улизнуть, но Фелиция резким движением его удержала:
– Останьтесь… Мне надо поговорить с вами.
По ее взгляду он понял, что следует уступить во избежание бури.
– Вы позволите, дорогой друг? – сказал он Набобу. – Мадемуазель хочет сказать мне несколько слов… Моя карета у двери. Садитесь. Я сейчас приду.
Как только двери мастерской закрылись за Жансуле, удалявшимся тяжелыми шагами, Фелиция и доктор пристально посмотрели друг на друга.
– Вы, должно быть, пьяны или сошли с ума, что позволили себе такую дерзость? Как вы осмелились ворваться ко мне, когда я не желаю никого принимать? Чем объяснить такую грубость? По какому праву?..
– По праву безнадежной, непреодолимой страсти.
– Замолчите, Дженкинс, вы произносите слова, которых я не хочу слышать… Я позволяю вам приходить ко мне из жалости, по привычке, потому что отец был привязан к вам… Но не смейте упоминать о вашей… любви, – последнее слово она произнесла тихо, как нечто постыдное, – иначе вы никогда больше меня не увидите, если бы мне даже пришлось умереть, чтобы раз и навсегда от вас избавиться.
Ребенок, уличенный в проступке, не опускает с таким смирением голову, как сделал это Дженкинс, когда отвечал ей:
– Да, да, я виноват… Я обезумел, я обо всем позабыл… Но почему вам доставляет особое удовольствие терзать мою душу?
– Очень вы мне нужны!
– Нужен или нет, я все же бываю здесь, я вижу, что здесь происходит, и ваше кокетство причиняет мне невыносимые страдания.
При этом упреке краска слегка выступила на ее щеках.
– Мое кокетство?.. С кем же я…
– Вот с этим… – сказал ирландец, указывая на обезьяноподобный и горделивый бюст.
Она принужденно засмеялась.
– С Набобом?.. Какой вздор!
– Зачем вы лжете?.. Вы думаете, что я слеп, что я не отдаю себе отчета во всех ваших проделках? Вы с ним подолгу остаетесь наедине… Я сейчас был здесь… и видел вас… – Он понизил голос; казалось, он задыхался. – К чему вы стремитесь, странная и жестокая девушка? Я знаю, что вы оттолкнули самых красивых, самых знатных, самых достойных людей. Этот юнец де Жери пожирает вас глазами, – вы не обращаете на него внимания. Сам герцог де Мора не мог найти доступа к вашему сердцу. А этот человек, безобразный, вульгарный, который о вас и не думает, у которого не любовь, а совсем другое на уме… Вы сами видели, как он шел… Куда вы клоните? Что вы от него хотите?
– Я хочу… я хочу, чтобы он женился на мне. Вот и все.
Спокойно, уже более мягким тоном-словно это признание сближало ее с тем, кого она так презирала, – Фелиция изложила свои мотивы. Жизнь, которую она ведет, заводит ее в тупик. Она любит роскошь, любит сорить деньгами, привыкла жить без расчета и ничего не может с собой поделать, а это неизбежно приведет к нищете ее и милую Кренмиц, которая покорно дает себя разорять. Еще три, самое большее четыре, года, и все будет исчерпано, после чего их ждет нищенское существование художников-неудачников: неоплаченные долги, лохмотья, стоптанные башмаки, всяческие ухищрения, чтобы заткнуть дыры. Или же придется подыскать любовника, пойти на содержание, а это рабство и позор.
– Полноте, – сказал Дженкинс. – А меня-то вы забыли?
– Все, что угодно, только не вы! – крикнула она, выпрямляясь. – Нет, мне нужен, мне необходим муж, чтобы защищать меня от других и от меня самой, охранять от мрачных мыслей, пугающих меня, когда я скучаю, от бездны, в которую я могу упасть. Я хочу, чтобы кто-нибудь оберегал меня, когда я работаю, чтобы кто-нибудь сменил мою бедную старенькую добрую фею, изнемогающую от усталости… Этот человек мне подходит, я подумала о нем, как только его увидела. Он безобразен, но с виду он добр. Кроме того, он несметно богат, а иметь такое огромное состояние, должно быть, очень занятно… О, я понимаю: наверно, в его прошлом есть какое– нибудь пятно, которое способствовало его успеху. Все это золото добыто нечистыми руками… Скажите, Дженкинс, положа руку на сердце, – вы же так часто взываете именно к сердцу, – не кажется ли вам, что я завидная супруга для порядочного человека? Судите сами: из всех молодых людей, которые, как милости, добиваются позволения бывать у меня, кто подумал о том, чтобы попросить моей руки? Никто. И де Жери тоже не просил меня стать его женой… Я пленяю, но меня боятся… Это понятно: что может собой представлять девушка, воспитанная, как я, боа матери, без семьи, выросшая среди натурщиц, среди любовниц отца? И каких любовниц, боже мой|.. И Дженкинс в качестве единственного наставника… О, когда я вспомню… когда я только вспомню…
И при мысли об этом, уже далеком прошлом перед ней возникли картины, от которых в ее голосе зазвенели гневные ноты:
– Да, черт возьми! Я плод любовной авантюры, и мне нужен муж-авантюрист.
– Подождите по крайней мере, чтобы он овдовел, – спокойно заметил Дженкинс. – Боюсь, что вам долго придется ждать, потому что его левантинка, по всей видимости, прекрасно себя чувствует.
Фелиция стала бледна как смерть.
– Он женат?
– Конечно, женат, у него куча детей. Все это многочисленное семейство прибыло два дня тому назад.
Она замерла на месте, вперив взгляд в пространство; лицо у нее нервно подергивалось.
Смотревшая на нее широкая, уродливая физиономия Набоба с приплюснутым носом и чувственным, добродушным ртом, воплощенная в свежей глине, дышала жизненной правдой.
С минуту она смотрела на бюст, потом, подойдя к нему, жестом отвращения сбросила на пол вместе с высокой деревянной подставкой жирную и блестящую глыбу, и глыба распалась, превратившись в кучу грязи.
VII. ЖАНСУЛЕ У СЕБЯ ДОМА
Женат он был уже двенадцать лат, но не обмолвился об этом никому из своих парижских приятелей, следуя обычаю Востока, где туземцы никогда не упоминают о женской половине своего дома. Но вдруг стало известно, что г-жа Жансуле должна приехать, что нужно приготовить помещение для нее, для детей и для ее служанок. Набоб снял весь третий этаж дома на Вандомской площади, выселив оттуда квартиранта, которому было уплачено с обычной для Набоба щедростью. Выезд также был увеличен, штат прислуги удвоен. Затем в один прекрасный день кучера и кареты отправились на Лионский вокзал встречать г-жу Жансуле. Она занимала вместе с сопровождавшими ее негритянками, газелями и арапчонками целый поезд, который нарочно для нее отапливался от самого Марселя.
Она вышла из вагона в полном изнеможении, обессилевшая, разбитая долгим путешествием по железной дороге, первым в ее жизни, так как, приехав в раннем детстве в Тунис, она никогда его не покидала. Из кареты два негра отнесли ее в приготовленные для нее апартаменты в кресле, которое с тех пор оставалось внизу, в подъезде, всегда наготове для трудных перемещений. Г-жа Жансуле не могла подниматься по лестницам – это вызывало у нее головокружение, – но не желала пользоваться и лифтом, который трещал под ее тяжестью; да и вообще она не делала ни шагу. Огромная, настолько тучная, что нельзя было определить ее возраст, – ей можно было дать от двадцати пяти до сорока лет, – с довольно миловидным, но заплывшим жиром лицом, с безжизненными глазами под тяжелыми, в глубоких бороздах, точно раковины, веками, в кричащих туалетах, изготовленных на экспорт, усыпанная бриллиантами и прочими драгоценностями, подобно индусскому идолу, она представляла превосходный образчик переселенных на Восток европейских женщин, которых именуют «левантинками». Странная порода разжиревших креолок, связанных с нашим миром только языком и костюмом! Восток обволакивает их всей причудливостью своей атмосферы, тончайшими ядами напоенного опиумом воздуха, в котором все разлагается, все ослабевает, начиная с кожного покрова и пояса и кончая мыслями и душой.
Эта особа была дочерью сказочно богатого бельгийца, который торговал в Тунисе кораллами. Жансуле прослужил у него несколько месяцев. Мадемуазель Афшен, в то время прелестная десятилетняя куколка, пышущая здоровьем, с ослепительным цветом лица и чудесными локонами, часто заезжала за отцом в его контору в огромной коляске, запряженной муламн, которая увозила отца и дочь на их чудесную виллу в окрестностях Туниса. Эта всегда декольтированная девочка с пухленькими плечиками, которую Жансуле случалось видеть лишь мельком, издали, в роскошном обрамлении, поразила авантюриста. И спустя несколькр лет, когда он разбогател, сделался любимцем бея и стал подумывать о браке, именно на ней остановил он свой выбор. Ребенок превратился в полную девушку, неповоротливую и бледную. Ее разум, тупой от природы, отяжелел от сонного оцепенения, в котором она жила из-за беспечности отца, поглощенного делами, от куренья папирос с опиумом, от пристрастия к варенью из роз, от плохой циркуляции ее фламандской крови, циркуляции, еще более замедленной восточной ленью; к тому же она была дурно воспитана, обжорлива, чувственна и спесива – словом, настоящая левантинская жемчужина.
Но Жансуле всего этого не замечал.
Для него она была и оставалась до приезда в Париж существом высшего порядка, женщиной из самого изысканного общества, урожденной Афшен. Он говорил с ней почтительным тоном, держался по отношению к ней с некоторой робостью и смирением, без счета давал ей деньги, удовлетворял все ее самые разорительные прихоти, самые нелепые капризы, все причуды, какие только может придумать ум левантинки, развращенный скукою и праздностью. Одно обстоятельство все извиняло: она была урожденная Афшен. Ничто не связывало супругов: муж находился постоянно в Казбе или в Бардо, подле бея, чтобы всячески ему угождать, или же сидел в своих конторах, а жена целыми днями лежала в постели, в диадеме из жемчугов, стоившей триста тысяч франков, с которою она никогда не расставалась, куря до одурения, проводя время, как в серале, окруженная еще несколькими левантинками, любуясь собой в зеркале, наряжаясь. Любимым занятием этих дам было обмерять ожерельями свои руки и ноги – чьи толще. Она рожала детей, которыми не занималась, которых никогда не видела и из-за которых даже не страдала, так как роды проходили под хлороформом. Белая мясная туша, надушенная мускусом! А Жансуле с гордостью говорил! «Моя жена – урожденная Афшен!»
Но под парижским небом, под его холодным светом наступило разочарование. Решив здесь обосноваться, принимать, устраивать вечера и балы. Набоб выписал жену-в доме должна была быть хозяйка. Но когда она вышла из вагона и он увидел эту выставку кричащих тканей, безвкуснейших драгоценностей и всю причудливую сопровождавшую ее свиту, ему показалось, что это королева Помаре в изгнании. Дело же было в том, что он успел познакомиться с настоящими светскими дамами и не мог не сравнить ее с ними. Он предполагал ознаменовать приезд жены большим балом, но был достаточно благоразумен, чтобы от этого отказаться. К тому же г-жа Жансуле не хотела никого видеть. В Париже к ее природной апатии присоединилась тоска по родным местам, вызванная сразу после ее прибытия холодным желтым туманом и проливным дождем. Несколько дней она не вставала с постели, плача навзрыд, как ребенок, кричала, что ее привезли в Париж, чтобы уморить, отказывалась даже от услуг своих горничных. Она выла, зарывшись в кружева подушки, волосы у нее сбились вокруг диадемы. Окна ее покоев оставались закрытыми, занавеси были спущены, лампы горели день и ночь, а она вопила, что хочет «уе…хать, уе…хать». Печальную картину представляла ее спальня, погруженная в погребальный полумрак, с наполовину распакованными чемоданами, валявшимися на коврах, с испуганными газелями и с негритянками, сидевшими на корточках вокруг своей госпожи, бившейся в истерике, тоже стонущими, с блуждающим взглядом, подобно собакам полярных путешественников, которые впадают в бешенство, не видя солнца.
Ирландский врач, приглашенный в эту юдоль печали, своим отеческим обхождением и вкрадчивым, слащавым тоном не добился успеха. Левантинка ни за какие блага не соглашалась принимать мышьяковые пилюли Дженкинса, чтобы придать себе бодрости. Жансуле был вне себя. Что делать? Отправить ее с детьми обратно в Тунис? Невозможно. Он впал там в немилость. Эмерленги восторжествовали. Последняя обида переполнила чашу: при отъезде Жансуле бей поручил ему отчеканить на парижском Монетном дворе на несколько миллионов золотых монет нового образца, и вдруг это поручение было у него отнято и передано Эмерленгу. На это публичное оскорбление Жансуле ответил так же демонстративно: он объявил о продаже всей своей недвижимости, дворца в Бардо, подаренного ему покойным беем, загородных вилл в Марсе, целиком из белого мрамора, окруженных великолепными садами, торговых помещений, самых больших и роскошных в городе, и, наконец, чтобы подчеркнуть свой окончательный разрыв с этой страной, поручил премудрому Бомпену привезти его жену и детей. Все это получило настолько широкую огласку, что теперь ему нелегко было бы вернуться в Тунис. Он пытался объяснить это урожденной Афшен, но та отвечала ему стонами. Он старался ее утешить, развеселить, но как развлечь такую чудовищно апатичную натуру? К тому же мог ли он изменить парижское небо, вернуть бедной левантинке ее выстланный мрамором «патио»,[25]25
Патио (исп.) – внутренний двор.
[Закрыть] где она проводила в полудреме целые часы, наслаждаясь чудесной прохладой, слушая, как струится вода в большом фонтане, состоявшем из трех расположенных один над другим алебастровых бассейнов, ее золоченую лодку с кормой под пурпурным навесом, которую восемь триполитанских лодочников, гибких и сильных, после захода солнца вели на веслах по прекрасному озеру Эль-Бахейра? Как ни роскошны были апартаменты на Вандомской площади, они не могли возместить левантинке потерю таких чудес. И она все сильнее предавалась скорби. Тем не менее один из завсегдатаев дома сумел облегчить ее положение. Удалось это Кабассю, величавшему себя на визитных карточках «профессором массажа», плотному, коренастому человеку, черноволосому и смуглому, от которого несло чесноком и помадой, широкоплечему, обросшему волосами до самых глаз, знавшему все сплетни, все альковные тайны Парижа, вполне доступные умственному уровню г-жи Жансуле. Он как-то пришел ее массировать, потом она послала за ним и пожелала оставить его у себя. Ему пришлось бросить остальных клиентов и за сенаторский оклад стать массажистом этой тучной особы, ее пажом, чтецом, телохранителем. Жансуле, восхищенный тем, что жена его довольна, не понимал, в какое смешное и глупое положение его ставит близость его супруги с массажистом.
Кабассю можно было видеть в Булонском лесу в огромной роскошной коляске, рядом с любимой газелью госпожи, и в глубине театральных лож, которые брала левантинка, так как теперь она выезжала, выйдя из оцепенения благодаря уходу массажиста и решив развлекаться. Театр ей нравился, особенно фарсы и мелодрамы. Эта апатичная, тучная особа оживлялась при искусственном свете рампы. Но всего охотнее посещала она театр Кардальяка. Там Набоб был как у себя дома. От старшего контролера до последнего капельдинера – весь персонал зависел от него. У него был ключ от двери, ведущей из фойе за кулисы. Аванложа, отделанная в восточном вкусе, с потолком, выдолбленным в виде пчелиных сот, с диванами, набитыми верблюжьей шерстью, и с маленьким мавританским фонарем, в котором горел газ, служила местом отдохновения во время затянувшихся антрактов. Таково было проявление особой любезности директора по отношению к супруге крупнейшего пайщика его предприятия. Но старый хитрец Кардальяк втим не ограничился. Заметив склонность урожденной Афшен к театру, он в конце концов убедил ее, что она ценитель и знаток драматического искусства, и попросил ее в минуты досуга просматривать присылаемые ему пьесы и высказывать о них свое суждение. Это был отличный способ закрепить за театром вносимый Набобом пай.
Бедные рукописи в голубых и желтых обложках, которые надежда перевязала тонкими лентами! Вы покидаете своего творца, преисполненные честолюбивых мечтаний, и кто знает, какие руки раскроют и перелистают вас, какие нескромные пальцы лишат вас прелести новизны, этой сверкающей пыльцы, сохраняющей свежесть мысли? Кто судит о вас и кто выносит вам приговор? Иногда, прежде чем отправиться на званый обед, Жансуле заходил к жене и заставал ее на кушетке: она курила, запрокинув голову, подле нее лежали связки рукописей, а Кабассю, вооруженный синим карандашом, читал своим грубым голосом с акцентом уроженца Бур-Сент-Андеоль[26]26
Бур-Сент-Андеоль – южнофранцузский городок на берегу Роны.
[Закрыть] какую-нибудь драму – плод кропотливого труда, черкал ее, беспощадно кромсал по одному неодобрительному замечанию просвещенной дамы.
«Продолжайте, продолжайте!»-жестом просил милейший Набоб, входя на цыпочках. Он слушал, покачивая головой, и, с восхищением глядя на жену, думал: «Поразительная женщина!» Сам он ничего не смыслил в литературе; по крайней мере в этой области урожденная Афшен вновь получала превосходство в его глазах.
– Она чувствует театр, – говорил Кардальяк.
А вот материнского чувства у нее не было вовсе. Она никогда не занималась детьми, предоставив их попечению посторонних, и, когда раз в месяц их приводили к ней, ограничивалась тем, что между двумя затяжками подставляла им свою безжизненную, дряблую щеку. Она не расспрашивала об уходе за ними, об их здоровье, не интересовалась теми мелочами, которые навеки скрепляют физические узы между матерью и ребенком, заставляя обливаться кровью материнское сердце при малейшем недомогании детей.
Их было трое – три вялых и неуклюжих мальчика, одиннадцати, девяти и семи лет, унаследовавших от левантинки бледный цвет лица и преждевременную склонность к тучности, а от отца – добрые бархатисто-черные глаза. Они были невежественны, как юные средневековые сеньоры. В Тунисе смотр за ними был поручен Бомпену, но в Париже желая, чтобы они воспользовались благами парижского воспитания, отдал их в самое «шикарное», самое дорогое учебное заведение – в коллеж Бурдалу, руководимый добродетельными патерами. Наставники не столько заботились о знаниях своих питомцев, сколько о том, чтобы сделать из них светских, с прекрасными манерами, благомыслящих людей, и в конце концов превращали их в маленькие чудовища, надутые и смешные, совершенно невежественные, с презрением относившиеся к играм, лишенные всякой непосредственности и детской прелести, донельзя рано возмужавшие. Маленьким Жансуле не очень весело жилось в этой теплице скороспелых растений, несмотря на все преимущества, которые им давало огромное богатство. Они были заброшены. Даже креолы, воспитывавшиеся в этом учебном заведении, вели переписку с домашними и их навещали, тогда как маленьких Жансуле никогда не вызывали в приемную, никто не знал их родных, и только время от времени они получали корзины сластей и горы сдобных булочек. Набоб, разъезжая по Парижу, опустошал для них целые витрины кондитерских, побуждаемый столько же сердечным порывом, сколько чванством дикаря, которым отличались все его поступки. То же было и с игрушками, всегда чересчур красивыми, нарядными и бесполезными – игрушками, которые выставляются напоказ и не покупаются парижанами. Особое уважение – как преподавателей, так и воспитанников – маленькие Жансуле снискали своими туго набитыми кошельками, всегда готовыми раскрыться для любого пожертвования, для подарков учителям в день рождения, а также при посещениях бедняков, тех пресловутых посещениях, которыми коллеж Бурдалу стяжал себе славу и которые являлись одной из приманок программы коллежа, приводя в восторг чувствительные души.
Два раза в месяц воспитанники, принадлежавшие к юному братству Венсен-де-Поль, созданному в коллеже по образцу самого этого братства, поочередно отправлялись небольшими группами, одни, совсем как взрослые, в самую гущу перенаселенных предместий, неся туда помощь и утешение. Этим способом их хотели направить на путь благотворительности, познакомить с нуждами и страданиями народа, научить врачевать его раны, на которые всегда неприятно смотреть, бальзамом ласковых слов и душеспасительных изречений. Утешать массы, проповедовать им слово божие устами младенцев, обращать на путь истины неверующих с помощью молоденьких и наивных посланцев – такова была цель юного братства, цель, которая ни в какой мере не достигалась. Здоровые, сытые, прекрасно одетые дети шли по указанным адресам, заставали благообразных бедняков, иногда и в самом деле слегка прихворнувших, но вполне опрятных, уже внесенных в списки богатой церковной организации и получавших от нее пособия. Малолетние благотворители не попадали в зловонные трущобы, где голод, скорбь и порок – все недуги физические и нравственные – своими миазмами пропитывают стены, запечатлеваются неизгладимыми морщинами на человеческих лицах. Посещение этих юнцов тщательно подготовлялось. как посещение казармы монархом, пожелавшим попробовать солдатскую похлебку: начальство предупреждено заранее, и похлебка, сдобренная приправами, вполне достойна неба августейшей особы…
Вы когда-нибудь видали в назидательных книжках картинки, на которых ребенок, готовящийся к причастию, с бантиком на плече, с завитыми волосами, приходит с зажженной свечой в руке напутствовать несчастного старика с устремленным к небу угасающим взором, умирающего на нищенском ложе? При этих посещениях с благотворительной целью все было предусмотрено заранее – как обстановка, так и произносимые слова. Маленьким проповедникам, сопровождавшим свои речи елейными жестами, столь мало гармонировавшими с их короткими руками, отвечали заученными фразами, такими фальшивыми, что совестно было слушать. На комические слова утешения, на расточаемые увещевания, почерпнутые из книг, полученных в награду, и произносимые голосами охрипших петушков, слышались в ответ растроганные, прочувствованные благословения, сопровождаемые жалобными, слезными вздохами, которые обычно раздаются на паперти по окончании вечерни. Каким взрывом хохота, какими криками оглашалось чердачное помещение, как только двери закрывались за юными посетителями! Начиналась пляска вокруг принесенных подарков, кресло, на котором изображали больного, опрокидывалось, лекарство выливалось в камин, где еле теплился огонек, искусно приглушенный для данного случая.
Когда маленьких Жансуле отпускали домой, их там поручали человеку в красной феске, все тому же Бомпену. Бомпен катал по Елисейским полям этих мальчиков в английских пиджаках и котелках по последней моде – и это в семь лет! – с тросточками в руках, обтянутых лайковыми перчатками. Тот же Бомпен набивал сластями коляску, куда он садился вместе с детьми. В котелках, обвитых зелеными вуалями, за которые были заткнуты визитные карточки, мальчики были очень похожи на персонажи разыгрываемой лилипутами пантомимы, где весь комизм заключается в несоответствии между большими головами карликов и их маленькими ногами и их телодвижениями. Дети курили, пили – на них жалко было смотреть. Случалось, что человек в феске, сам едва держась на ногах, привозил их домой совсем больными… А Набоб все же любил своих «детишек», особенно младшего, который своими длинными локонами и свежим личиком напоминал ему маленькую Афшен, когда она приезжала в коляске. Но мальчики были еще в том возрасте, когда дети нуждаются в материнской опеке, когда ни первоклассный портной, ни безупречные учителя, ни шикарный коллеж, ни кровные пони, купленные для этих маленьких мужчин, – ничто не может заменить заботливой и нежной руки, тепла и веселья родного гнезда. Отец не мог им этого дать; к тому же он был так занят!
У него была пропасть дел: Земельный банк, устройство картинной галереи, поездки с Буа-Ландри в Taffershall для покупки лошадей, осмотр какой-нибудь редкостной безделушки, принадлежавшей любителю – коллекционеру, адрес которого указал Швальбах, целые часы, проводимые с конюхами, жокеями, у антикваров, – словом, до краев заполненная, сложная жизнь мещанина во дворянстве в современном Париже. При соприкосновении с этим многообразным миром он с каждым днем все лучше усваивал парижские навыки, был принят в клуб Монпавона, стал завсегдатаем артистического фойе балета и театральных кулис, был душой своих знаменитых холостяцких завтраков – единственных приемов, возможных в его быту. Жизнь его действительно была заполнена, хотя де Жери избавил его от самой тягостной обузы, от сложнейшего «департамента просьб и пособий».