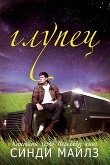Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Где вилка?
Или:
– Что случилось с вилкой?
Поль испытывал некоторую неловкость за молодую хозяйку, но она не обращала на эти недочеты никакого внимания.
Особенно смущала молодого человека неотвязная мысль: какого привилегированного гостя заменяет он за столом, гостя, которого готовились принять так рос кош но и вместе с тем так бесцеремонно? Как бы то ни было но Жери все время ощущал присутствие этого непри ятного сегодня гостя и чувствовал себя уязвленным Сколько он ни старался позабыть о нем, все о нем на поминало, даже убор милой феи, сидевшей против Поля и хранившей важный вид, который она заранее на себя напустила ради столь торжественного случая. Эта мысль нарушала покой молодого человека и портила удовольствие, которое он испытывал, находясь в этом доме.
В дуэтах голоса очень редко звучат в унисон. Фелиция, в отличие от своего собеседника, была в этот вечер так приветлива, в таком прекрасном настроении, в каком Поль ее еще никогда не видел. Она была безудержно, по-детски весела, преисполнена той радости, какую испытывает человек после того, как миновала опасность, когда после всего пережитого во время кораблекрушения он сидит у ярко пылающего огня. Она от души смеялась, трунила над произношением Поля, над тем, что она называла его «мещанскими идеями».
– Знаете, вы ужасный буржуа! Но это мне в вас и нравится. Должно быть, в силу контраста: я родилась под мостом, и принес меня ветер, поэтому я всегда любила людей положительных, благоразумных.
– Душечка! Что может о тебе подумать господин Поль? Он, пожалуй, вообразит, что ты действительно родилась под мостом, – возмутилась славная Кренмиц, которая никак не могла привыкнуть к образным преувеличениям и все понимала буквально.
– Пусть думает, что хочет, милая моя фея. Мы не прочим его себе в мужья. Я уверена, что его никогда не привлечет женщина, посвятившая себя искусству. Для него это было бы то же, что жениться на черте. И вы совершенно правы, Минерва. Искусство – деспот: ему нужно отдаться целиком. В свое произведение художник вкладывает все свои идеалы, всю энергию, честность, совесть, так что для жизни ничего не остается, и когда работа окончена, у него исчерпаны все силы, и он подобен ладье, которая носится по воле волн.
– Все же мне кажется, – робко возразил молодой человек, – что искусство, сколь бы требовательно оно ни было, не может всецело поглотить женщину. Что сталось бы тогда с ее нежностью, потребностью любить, жертвовать собой, которые в гораздо большей степени, чем у нас, мужчин, являются движущей силой всех ее поступков?
Фелиция призадумалась.
– Может быть, вы и правы, мудрая Минерва. Бывают дни, когда жизнь представляется мне до ужаса пустой. Я вижу кругом глубокие ямы и бездны. И как я ни стараюсь заполнить жизнь, в них все бесследно исчезает. Высокие, вдохновенные порывы художника поглощаются ими и умирают со стоном. Тогда я начинаю думать о браке. Муж, дети, куча детей, прыгающих по мастерской; забота о своем гнездышке, удовлетворение от физической работы, которой не хватает в жизни художников, беспрестанные хлопоты, песни, шум, наивное веселье, заставляющее принимать участие в детских играх, забывая о своих беспредметных мрачных мыслях, смеяться, когда наносят удары твоему самолюбию, быть только довольной матерью, когда публика развенчает тебя как художника…
Картина семейных радостей преобразила молодую девушку, ее прекрасное лицо приняло выражение, какого еще никогда не видел Поль; оно покорило его, внушило безумное желание унести в объятиях эту прекрасную дикую птицу, мечтающую о голубятне, чтобы защитить ее, укрыть, окружив надежной любовью порядочного человека.
А она, не глядя на него, продолжала:
– Я вовсе не так легкомысленна, как это кажется… Спросите у моей милой крестной, которая отдала меня в пансион, – она вам скажет, что я там приноравливалась к другим. Но потом страшная путаница началась в моей жизни. Если бы вы только знали, какая у меня была юность, какой преждевременный опыт иссушил мой мозг, как все перемешалось в понятиях молоденькой девушки – добро и зло, разум и безумие! Одно только искусство, всеми прославляемое, предмет страстных споров, возвышалось среди этого хаоса, и в нем я нашла себе приют… Вот почему я навсегда останусь только художницей, женщиной, не похожей на других, бедной амазонкой с душой, закованной в латы, бросившейся на борьбу, как мужчина, и осужденной жить и умереть, как мужчина.
Почему же он тогда не сказал ей: «Прекрасная воительница! Оставьте ваше оружие, облекитесь в развевающиеся одежды, в женскую нежность. Я люблю вас, я умоляю вас стать моей женой – так вы сами обретете счастье и меня сделаете счастливым?» Нет, он этого не сказал. Он опасался, что тот, другой – понимаете? – тот, который приглашен был сегодня к обеду и незримо здесь присутствовал, услышит его слова и посмеется над ним или пожалеет его за этот душевный порыв.
– Во всяком случае, клянусь, – продолжала она, – если у меня когда-нибудь будет дочь, я постараюсь, чтобы она стала настоящей женщиной, а не таким несчастным, покинутым всеми созданием, как я… О милая фея, я не тебя имею в виду, когда говорю это. Ты всегда была добра к своему «бесенку», заботлива и нежна… Да посмотрите же на нее, как она прелестна и как молодо сегодня выглядит!
Возбужденная обедом, светом канделябров, облаченная в один из тех белых туалетов, которые своим мягким отблеском сглаживают морщины, знаменитая Кренмиц, откинувшись на спинку стула, держала на уровне полузакрытых глаз бокал шато-икема из погреба Мулен Руж, расположенного по соседству. Ее розовое личико и легкая косыночка, словно сошедшие с пастели, отражались в золотистом вине, придававшем лицу милой феи хмельную искристость. Казалось, видишь снова перед собой былую царицу изысканных ужинов после спектаклей, прославленную балерину доброго старого времени, далекую от той беззастенчивости, какою отличаются звезды современной оперы, беззаботную, окруженную роскошью, как жемчужина – перламутром раковины. Фелиция хотела в этот вечер всем доставить удовольствие, и она незаметно навела ее на воспоминания, заставила рассказать о своих триумфах в «Жизели»[36]36
«Жизель» – балет композитора Адольфа Адана на либретто Теофиля Готье: поставлен в 1841 г. «Пери» – балет композитора Бюрмюлле, также на либретто Готье; поставлен в 1843 году.
[Закрыть] и в «Пери», об овациях публики, о посещении принцами ее уборной, о подарке и милостивых словах королевы Амалии.[37]37
Королева Амалия (1782–1866) – жена Луи-Филиппа.
[Закрыть] Воспоминания о днях былой славы опьянили бедную фею, ее глаза заблестели, ножки постукивали под столом, словно одержимые безумием танца… И когда по окончании обеда они снова перешли в мастерскую, Констанция начала прохаживаться взад и вперед, делая чуть заметные па и пируэты и продолжая разговаривать, а порой неожиданно замолкала, чтобы промурлыкать мелодию из балета, отмечая такт движениями головы; потом вдруг повернулась и одним прыжком очутилась на другом конце комнаты.
– Ну, теперь на нее снизошло вдохновение, – шепнула Полю Фелиция. – Смотрите на нее, это стоит того: вы увидите, как танцует знаменитая Кренмиц.
Это было восхитительно, это было волшебно. На фоне огромной комнаты, почти погруженной во мрак, куда свет падал только сквозь застекленную ротонду, за которой вставала луна в прояснившемся синем небе, настоящем небе оперных декораций, выделялся силуэт прославленной балерины, весь белый, как маленькая причудливая тень, – легкая, совсем невесомая, скорее порхающая, чем делающая прыжки. Вот, грациозно поднявшись на пуанты, держась в воздухе на вытянутых руках, подняв голову – на лице различалась теперь только улыбка. – она то быстро приближалась к свету, то удалялась от него маленькими прыжками, столь стремительными, что казалось, вы сейчас услышите легкий треск разбившегося стекла и увидите, как она, отступая мелкими шажками, унесется ввысь на широком лунном луче, проникшем в мастерскую. Своеобразную прелесть, необыкновенную поэтичность придавало этому фантастическому балету отсутствие музыки. Слышался только особенно выразительный в полумраке ритмический, легкий и быстрый стук ножек по паркету, столь же слабый, как от падения лепестков осыпающегося георгина. Это продолжалось несколько минут, потом по ее учащенному дыханию стало заметно, что она устала.
– Довольно, довольно, садись, – сказала ей Фелиция.
Маленькая белая тень, готовая вновь унестись, улыбаясь, с трудом переводя дух, присела на краешек кресла, и так она сидела, пока сон не сомкнул глаза милой феи, не убаюкал ее; сон тихо укачивал ее не нарушая прелестной позы, как стрекозу, сидящую на ивовой ветке, окунувшейся в воду и колеблемой потоком.
Фелиция и Поль смотрели на балерину, мерно покачивающуюся в кресле.
– Бедная маленькая фея, – сказала Фелиция. – Самое лучшее, самое положительное в моей жизни – дружба, забота и покровительство этой бабочки. Она моя крестная мать. Можно ли после этого удивляться зигзагам, непостоянству моей натуры? Хорошо еще, что я этим ограничиваюсь.
Внезапно охваченная радостным порывом, она воскликнула:
– Ах, Минерва, Минерва, как я довольна, что вы пришли сегодня ко мне! Но не оставляйте меня так надолго одну… Мне нужно иметь подле себя такого прямого человека, как вы, нужно видеть настоящее лицо среди окружающих меня масок. Правда, вы ужасный буржуа, – добавила она, смеясь, – да к тому же еще провинциал… Но все равно, мне так хорошо с вами!.. Мне кажется, главная причина моей симпатии к вам – то, что вы похожи на одну девушку, к которой я в юности питала глубокую привязанность, серьезное и рассудительное существо, отдающее себя будничной жизни, но вносящее в нее тот идеал, который мы, люди искусства, вкладываем исключительно в свое творчество! Когда вы говорите, мне кажется, что это говорит она. У вас такой же рот античной формы, как у нее. Не потому ли так сходны и ваши речи? Вы, бесспорно, похожи друг на друга. Вот вы сейчас увидите…
Сидя против него за столом, заваленным эскизами и альбомами, она рисовала, продолжая с ним беседовать, наклонив свою прелестную головку, обрамленную причудливо рассыпавшимися локонами. Это уже было не свернувшееся клубком на диване прекрасное чудовище с тоскливым и мрачным лицом, проклинающее свою судьбу, – нет, это была женщина, настоящая женщина, которая любит и хочет очаровать. Побежденный ее искренностью и обаянием, Поль отбросил свои сомнения; ему хотелось высказаться, убедить ее. Минута была решительная… Но тут дверь отворилась и появился маленький слуга. Его светлость прислал узнать, не прошла ли у нее…
– Нет, не прошла, – с досадой ответила Фелиция.
Слуга вышел. На минуту воцарилось молчание, повеяло ледяным холодом. Поль встал. Она продолжала рисовать, по-прежнему склонив голову.
Он сделал несколько шагов по мастерской, потом вернулся к столу, за которым она сидела, и тихо спросил, сам удивляясь своему спокойствию:
– У вас должен был обедать герцог де Мора?
– Да… Я скучала… Хандра… Это очень тяжелые для меня дни.
– А герцогиня тоже должна была приехать?
– Герцогиня? Нет, я с ней незнакома.
– На вашем месте я не принимал бы у себя женатого человека, с женой которого вы не встречаетесь… Вы жалуетесь на одиночество, но ведь вы сами его создаете. Когда человек безупречен, следует оберегать себя от малейшего подозрения… Вы на меня не сердитесь?
– Нет, нет, браните меня, Минерва. Я готова слушать ваши нравоучения. Они искренни и честны. Они не виляют, как мораль Дженкинса. Я же вам говорю: мне нужно, чтобы мною руководили…
Протянув ему только что оконченный рисунок, она сказала:
– Смотрите: вот подруга, о которой я вам говорила. Нас связывала глубокая и нежная дружба, которую я по глупости не сумела сохранить, – такая уж я расточительная… Ее я призывала в тяжелые минуты, когда нужно было принять решение или принести жертву. Я спрашивала себя: «Что сказала бы она?» – подобно тому как мы, художники, прерываем работу, обращаясь мысленно к нашим великим предшественникам, нашим учителям… Вы должны занять ее место. Хотите?
Поль не ответил. Он смотрел на портрет Алины. Это была она – ее правильные черты, ее насмешливая добрая улыбка и длинный локон, ласкающий тонкую шею. О, теперь могли явиться и герцог де Мора и все, кто угодно, – Фелиция больше для него не существовала!
Бедная Фелиция, одаренная высшим могуществом, походила на тех волшебниц, которые властны распоряжаться участью людей, но бессильны создать свое счастье.
– Подарите мне этот набросок! – попросил Поль чуть слышно, взволнованным голосом.
– С удовольствием… Мила, не правда ли? Если вы встретите эту девушку, полюбите ее, женитесь на ней. Она лучше всех. А если не встретите… если не встретите…
И тут прекрасный прирученный сфинкс, загадка которого уже перестала быть неразрешимой, поднял на него свои большие влажные и смеющиеся глаза.
XIV. ВЫСТАВКА
– Превосходно!..
– Огромный успех. Сам Бари[38]38
Бари, Антуан-Луи (1796–1875) – французский скульптор-анималист.
[Закрыть] не создал ничего прекраснее.
– А бюст Набоба? Изумительно! И до чего счастлива Констанция Кренмиц! Посмотрите: вон она семенит…
– Да что вы! Эта старушка в горностаевой пелеринке – знаменитая Кренмиц? Я думал, она умерла по крайней мере лет двадцать тому назад.
Напротив, она жива-живехонька! Сияющая, помолодевшая от триумфа своей крестницы, занявшей первое место на выставке, Констанция неутомимо снует в толпе художников и светских людей, которые образовали две сплошные массы черных спин и самых разнообразных туалетов в тех местах, где выставлены две работы Фелиции, и давят друг друга, чтобы лучше их рассмотреть. Констанция, обычно такая робкая, проскальзывает в первый ряд, прислушивается к спорам, ловит налету обрывки фраз, запоминает профессиональные термины, одобрительно кивает головой, улыбается или пожимает плечами, когда до нее доносится какая-нибудь пошлость; она готова уничтожить первого же глупца, который посмеет не прийти в восторг от работ ее крестницы.
Кто бы это ни был, славная Кренмиц или кто-нибудь другой, но на всех вернисажах Салона вы всегда встретите пробирающуюся фигуру, которая со встревоженным видом, с напряженным вниманием прислушивается к разговорам. Иногда это старичок отец, который, стоя позади вас, благодарит взглядом за каждое ваше любезное, мимоходом брошенное слово или становится печальным, уловив колкость, направленную против произведения близкого ему человека и наносящую рану его сердцу. Мимо этой характерной фигуры не сможет пройти живописец – поклонник современности, если он вздумает запечатлеть на полотне типическое явление парижской жизни – открытие выставки. Салон – настоящая оранжерея скульптуры, с аллеями, посыпанными песком, под огромным стеклянным куполом, где вдоль стен на некотором расстоянии от пола тянется галерея, завешанная тканями; трибуны полны людей, которые, слегка наклонив головы, смотрят на экспонаты.
Под холодным светом, который делает еще бледнее, который как бы разрежает зеленый фон, помогающий глазу посетителя составить более спокойное и верное представление, люди медленно движутся взад и вперед, иногда задерживаясь, присаживаясь на скамейки, собираясь небольшими группами. Нигде вы не встретите такого смешанного общества, такого разнообразия женских нарядов, вызванного изменчивостью этого капризного времени года: черные кружева и величественный шлейф светской дамы, явившейся посмотреть, какое впечатление производит ее портрет, и рядом сибирские меха актрисы, вернувшейся из России и желающей, чтобы всем это стало известно.
Здесь нет лож бенуара или бельэтажа, нет литерных мест, что придает этой премьере среди бела дня ни с чем не сравнимую прелесть. Дамы высшего света могут рассмотреть вблизи нарумяненных красавиц, которым они рукоплещут при вечернем освещении; маленькая шляпка новейшего фасона маркизы де Буа-Ландри мелькает неподалеку от более чем скромного наряда жены или дочери представителя артистического мира, меж тем как натурщица, которая позировала для прекрасной Андромеды,[39]39
Андромеда (греч. миф.) – царевна эфиопов, обреченная в жертву морскому чудовищу и спасенная героем Персеем. Обнаженная фигура Андромеды, прикованной к скале, – чрезвычайно популярный мотив в живописи и в скульптуре.
[Закрыть] стоящей у входа, победоносно шествует в короткой юбке и убогой накидке, падающей складками, имитирующими модный покрой.
Посетители изучают друг друга, восхищаются, осуждают, обмениваются уничтожающими, пренебрежительными или любопытными взглядами, которые внезапно становятся внимательными и неподвижными при появлении знаменитости. Вот, например, прославленный критик: с гордо поднятой головой, обрамленной длинными волосами, спокойный и величественный, он обходит экспонаты в сопровождении десяти – двенадцати учеников, почтительно прислушивающихся к каждому слову их авторитетного и благожелательного учителя.
Шум голосов теряется в этом огромном помещении, гулком только под арками входа и выхода, зато лица приобретают необыкновенную выпуклость, резко обозначается каждое их выражение, малейшая смена чувств.
Это становится особенно заметно в помещении, отведенном для буфета, обширном и черном от переполняющей его жестикулирующей публики, где светлые шляпки женщин и белые фартуки официантов выделяются на фоне темных костюмов мужчин, а равно и в широком среднем проходе, где кишащая, как муравейник, толпа составляет разительный контраст с неподвижностью статуй, – неуловимый трепет словно исходит от этих белых каменных изваяний, застывших в патетических позах.
Мы видим здесь крылья, распростертые в титаническом полете, земной шар, поддерживаемый четырьмя аллегорическими фигурами, словно кружащимися в нечетком ритме вальса; эта композиция настолько гармонична, что создается иллюзия вращения земли; видим руки, воздетые к небу, словно для призыва, героически вздымающиеся фигуры, говорящие о смерти и бессмертии, продолжающие жить в истории, в легенде, в идеальном мире музеев, возбуждая любознательность и восхищение человечества.
Хотя бронзовая группа Фелиции уступала по размерам этим композициям, все же благодаря своим исключительным художественным достоинствам она по праву заняла место на одной из круглых площадок в середине зала. Столпившаяся здесь публика держалась в данную минуту на почтительном расстоянии от этой площадки, с любопытством рассматривая поверх голов сторожей и полицейских тунисского бея и его свиту в белых бурнусах, ниспадавших живописными, точно изваянными складками, – эти живые статуи среди мертвой скульптуры. Бей, находившийся в Париже уже несколько дней и привлекавший к себе внимание на всех премьерах, пожелал побывать и на открытии выставки. Это был «просвещенный государь, любитель искусств»; в Бордо у него была галерея удивительных турецких картин и цветных литографий всех битв Первой империи.
Как только он вошел, литая фигура большой арабской борзой сразу же привлекла его внимание. Это был слуги, стройный и резвый, настоящий слуги его родины, постоянный его спутник на всех охотах. Бей, чуть заметно улыбаясь, погладил спину борзой, провел рукой по ее мускулистым бедрам, словно стараясь подзадорить ее. Раздув ноздри, оскалив зубы, грациозно вытянув неутомимые, крепкие лапы, хищное аристократическое животное, страстное в любви и в охоте, опьяненное двойным хмелем, уже наслаждалось предвкушением победы, устремив взгляд в одну точку, высунув кончик языка и свирепо оскалившись. Когда вы смотрели только на борзую, вам казалось: сейчас она схватит свою добычу. Но вид лисицы вас тотчас же успокаивал. С бархатистым блестящим туловищем, с кошачьей повадкой, почти припав к земле, мчась без всяких усилий, она казалась каким-то сказочным существом, и ее хитрая мордочка с острыми ушами, которую она поворачивала на бегу к борзой, насмешливо на нее поглядывая, выражала уверенность в своей безопасности, ясно указывавшую на дар, полученный ею от богов.
В то время как инспектор изящных искусств, человечек с огромной плешью, запыхавшийся, в криво сидевшем на нем мундире, разъяснял Мухаммеду притчу о собаке и лисе, изложенную в каталоге под заглавием «И вот случилось, что они встретились» и с указанием «Принадлежит герцогу де Мора», толстый Эмерленг, сопровождавший его высочество, силился, пыхтя и потея, втолковать бею, что эта замечательная скульптура – произведение прекрасной амазонки, встреченной ими в Булонском лесу. Как могла женщина своими слабыми руками сделать такой гибкой твердую бронзу, придать ей вид живого тела? Из всех парижских чудес это чудо особенно поразило бея. Он осведомился у инспектора, выставлены ли другие работы этого мастера.
– Да, ваше высочество, есть еще одна работа, и тоже шедевр… Если вам будет угодно направиться в ту сторону, я вас к ней проведу.
Бей в сопровождении свиты двинулся за ним. Все это были красавцы – точеные профили, благородные черты. Смуглость их лиц подчеркивалась белизной бурнусов. В этих плащах, падавших роскошными складками, они составляли разительный контраст с бюстами, расставленными по обеим сторонам аллеи, по которой они шли. Эти бюсты на высоких постаментах, казавшиеся хрупкими в окружавшей их пустоте, вырванные из своей среды, из окружения, в котором они, наверно, напоминали бы о великих трудах, о нежной привязанности или о мужественной и деятельной жизни, казались здесь словно заблудившимися и опечаленными тем, что они сюда попали. За исключением двух-трех женских бюстов с дивными плечами, обрамленными окаменелым кружевом, с мраморными прическами, выполненными с той воздушностью, которая придавала им легкость пудреных волос, и нескольких детских головок, отличавшихся простотой линий, как бы сообщавшей отполированному мрамору влажную теплоту человеческого тела, все остальные человеческие изваяния представляли собой сплошные морщины, глубокие складки, судороги, гримасы, говорившие о непомерных трудах, о волнениях, тяжких раздумьях и душевных тревогах, столь противоречащих этому искусству, ясному, безмятежно спокойному.
В уродливых чертах Набоба чувствовались по крайней мере энергия, авантюризм с оттенком наглости и добродушия, превосходно переданные скульптором, который подкрасил гипс охрой, придав бюсту загар и смуглоту, свойственные оригиналу. Увидев этот бюст, арабы не могли удержаться от приглушенного восклицания:
– Бу-Саид!.. («Отец счастья»).
Таково было прозвище, данное Набобу в Тунисе и как бы отмечавшее его удачи. Решив, что над ним вздумали подшутить, подведя его к ненавистному «торгашу», бей подозрительно посмотрел на инспектора.
– Жансуле? – спросил он гортанным голосом.
– Да, это Бернар Жансуле, ваше высочество, депутат от Корсики…
Бей, нахмурив брови, повернулся к Эмерленгу.
– Депутат?
– С сегодняшнего утра, ваше высочество, но дело еще не кончено.
Понизив голос, банкир пробурчал:
– Французская Палата не потерпит в своих стенах этого авантюриста.
Пусть так! Но слепое доверие бея к своему финансовому советнику было поколеблено. Эмерленг так уверенно заявлял, что Жансуле никогда не будет избран, что с ним можно обращаться как угодно, действовать без опасений, и вдруг вместо запятнанного, поверженного в прах человека перед беем оказался представитель нации, депутат, изображением которого пришли полюбоваться парижане; бей, восточный человек, всякое изображение, выставленное напоказ, воспринимал как дань общественного уважения, этот бюст приобретал для него значение статуи, воздвигнутой на площади. Эмерленг сделался еще желтее, чем обычно. Он проклинал себя сейчас за свою оплошность и неосмотрительность. Но как мог он заподозрить что-нибудь подобное? Его уверили, что бюст не закончен. И в самом деле, он появился на выставке только сегодня утром и, по-видимому, чувствовал себя здесь отлично, словно трепеща от удовлетворенного самолюбия, посмеиваясь над своими врагами с добродушной улыбкой на оттопыренных губах. Безмолвная месть за сенроманскую катастрофу!
В течение нескольких минут бей, столь же холодный, столь же бесстрастный, как само изваяние, пристально, молча смотрел на него. На лбу у него появилась прямая складка, по которой только придворные могли угадать, что он разгневан. Потом он произнес несколько слов по – арабски – приказал подать экипажи и собрать свиту, которая разбрелась по залам, и, ничего больше не пожелав смотреть, величественно – направился к выходу… Кто скажет, что происходит в мозгу высочайшей особы, пресыщенной властью? Даже у наших западных монархов являются непонятные фантазии, но они несравнимые капризами восточных владык. Инспектор изящных искусств, рассчитывавший показать его высочеству всю выставку и этим заслужить красивую красную с зелеными полосками ленточку ордена Нишам-Ифтикара, так и не узнал причины этого бегства.
В ту самую минуту, когда белые бурнусы исчезали в подъезде, напоследок мелькнув развевающимися складками, Набоб торжественно входил в средние двери. Утром он получил сообщение: «Избран подавляющим большинством голосов!» После обильного завтрака, за которым было произнесено много тостов в честь нового депутата Корсики, он прибыл на выставку с несколькими сотрапезниками, чтобы себя показать, а также и посмотреть на себя, чтобы насладиться своей новой славой.
Первая, – кого он увидел, была Фелиция Рюис; она стояла, опершись на цоколь статуи, осыпаемая любезностями и комплиментами, к которым он поспешил присоединить и свои. Фелиция была скромно одета – в черном платье, расшитом черным стеклярусом; строгость ее костюма несколько смягчалась прелестной маленькой шляпкой из переливчато блестевших перьев райской птицы, а ее волосы, тонкими завитками падавшие на лоб и расходившиеся на затылке двумя широкими прядями, казались продолжением ее головного убора и ослабляли яркость его тонов.
Художники и светские любители искусства толпились вокруг нее и рассыпались в комплиментах, отдавая дань огромному таланту, сочетающемуся со столь редкой красотой. Дженкинс с непокрытой головой, еле сдерживая обуревавшие его чувства, подбегал то к одному, то к другому, стараясь еще сильнее разжечь их восторги и в то же время удержать на известном расстоянии от юной знаменитости, играя роль ее стража и вместе с тем запевалы хора ее почитателей. Его жена тем временем беседовала с Фелицией. Бедная г-жа Дженкинс! Ей было сказано тем жестким тоном, который известен был ей одной: «Подите поздравьте Фелицию». И она повиновалась, преодолевая волнение: ибо теперь она уже знала, что скрывается под личиной этой отеческой привязанности, но избегала всяких объяснений с доктором, словно опасаясь за их исход.
После г-жи Дженкинс к Фелиции устремился Набоб. Взяв в свои огромные лапы длинные, затянутые в тонкие перчатки руки художницы, он высказал ей свою благодарность с такой сердечностью, что у него самого выступили на глазах слезы.
– Вы оказали мне огромную честь, мадемуазель, связав мое имя с вашим, мою скромную особу с вашим триумфом и показав всей этой дряни, преследующей меня по пятам, что не верите распространяемой обо мне клевете. Я никогда этого не забуду. Если бы даже я покрыл золотом и алмазами этот великолепный бюст, я все же навеки остался бы вашим должником.
К счастью для милейшего Набоба, более чувствительного, чем красноречивого, ему пришлось уступить место тем, которых влечет к себе сверкающий талант, влечет чей-либо успех. Неистовые восторги, которые, не найдя выражения в слове, так же мгновенно исчезают, как и возникли; светские любезности, как будто чистосердечные, рассчитанные на то, чтобы доставить вам удовольствие, на самом деле обдают вас холодом; наконец крепкие рукопожатия соперников и товарищей, одни искренние, другое полные лицемерия… Вот подходит претенциозный глупец; он воображает, что приводит вас в восхищение своими дурацкими комплиментами, но, опасаясь, как бы вы не возгордились, сопровождает их некоторыми «оговорками». За ним – добрый приятель, который, расточая похвалы, в то же время доказывает вам, что вы понятия не имеете об искусстве. Затем – славный малый, вечно куда-то спешащий, останавливается на минуту, чтобы шепнуть вам на ухо, «что такой-то знаменитый критик, по-видимому, недоволен вашей вещью». Фелиция все это выслушивала с величайшим равнодушием: успех ставил ее выше мелкой зависти. Но когда какой-нибудь прославленный ветеран, старый товарищ ее отца, бросал ей мимоходом: «Отлично, малютка!» – эти слова преисполняли ее радостью, переносили ее в прошлое, в уголок, предоставленный ей в отцовской мастерской, когда она только начала приобщаться к славе великого Рюиса. В общем же она довольно холодно принимала любезности и приветствия, потому что, к ее удивлению, среди них не прозвучал еще голос того, чье поздравление было для нее более желанным, чем все остальные… В самом деле, она думала об этом молодом человеке больше, чем о ком-либо еще из мужчин. Неужели это пришла, наконец, любовь, великая любовь, столь редко рождающаяся в душе художника, неспособного целиком отдаться чувству? Или это была только мечта о размеренной буржуазной жизни, надежно огражденной от скуки, той томительной скуки, предшественницы бурь, которой она имела все основания опасаться? Как бы ни было, она обманывала себя, жила уже несколько дней в какой-то чудесной тревоге, ибо любовь так сильна, так прекрасна, что даже ее подобие, ее мираж способны увлечь нас и взволновать не меньше, чем она сама.
Случалось ли вам на улице, когда ваши мысли заняты кем-нибудь отсутствующим, близким вашему сердцу, предугадать его появление при встрече с человеком, который имеет с ним отдаленное сходство и который, как бы предвосхищая ожидаемый образ, выделяется из толпы и внезапно останавливает ваше чрезмерно напряженное внимание? Над этими явлениями гипнотического и нервного порядка не надо смеяться, ибо они часто являются источником страдания. Уже несколько раз Фелиции казалось, что в непрекращающемся потоке посетителей она заметила кудрявую голову Поля де Жери. И вдруг она радостно вскрикнула. Однако это был еще не он, но кто-то очень на него похожий, чье спокойное, с правильными чертами лицо теперь всегда появлялось в ее мыслях рядом с ее другом Полем, вследствие сходства, скорее нравственного, чем физического, и того благотворного влияния, какое они оба на нее оказывали.
– Алина!
– Фелиция!
Дружба светских дам, делящих между собою владычество в салонах и расточающих друг другу с ласковыми ужимками самые лестные эпитеты и знаки женской привязанности, весьма ненадежна, зато дружба детских лет навсегда сохраняет чистоту и искренность, которые отличают ее от других чувств женщины. Эти узы, сплетенные со всей душевной непосредственностью, можно сравнить со столь же прочным рукодельем маленьких девочек, не жалеющих ни ниток, ни узлов, или с саженцами в цвету, молоденькими, но с крепкими корнями, полными жизненных соков и пускающими новые ростки. Какая радость, взявшись за руки, – где вы, хороводы пансиона? – вернуться с веселым смехом на несколько шагов в прошлое, зная дорогу и все ее повороты! Отойдя немного в сторону, обе девушки, которым стоило только встретиться, чтобы позабыть пятилетнюю разлуку, не могут наговориться; они спешат поделиться своими воспоминаниями, в то время как румяненький старичок Жуайез в новом галстуке с гордостью смотрит на дочь, с которой так дружески беседует знаменитость. И он имеет полное право гордиться ею, потому что эта двадцатилетняя парижаночка, даже рядом со своей ослепительной подругой, блистает прелестью юности, грации и лучезарной чистоты и, одушевленная радостью встречи, кажется свежим, только что распустившимся цветком.