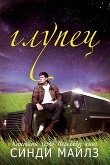Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Но куда же, в таком случае, ушли и продолжают уходить огромные суммы, внесенные г-ном Жансуле за пять месяцев, не считая тех денег, которые поступили от других лиц, привлеченных этим магическим именем? Я полагал, так же как и Вы, что все эти разработки, бурения скважин, покупка земель, отмечаемые каллиграфическим почерком в бухгалтерских книгах, непомерно раздуты. Но можно ли было заподозрить подобную наглость? Вот почему директор банка так неприязненно отнесся к моему участию в предвыборной поездке. Я не хочу разоблачать его немедленно: бедному Набобу и без того достаточно хлопот с выборами. Но как только мы возвратимся в Париж, я представлю ему подробный отчет о моем тщательном расследовании и волей или неволей вытащу его из этого вертепа…
Они покончили там, внизу. Старый Пьедигриджо переходит площадь, зажимая кольцо на своем туго набитом крестьянском кошельке. Сделка, очевидно, состоялась. Спешу закончить письмо, дорогой господин Жуайез. Прошу передать мое почтение Вашим дочерям, а также сохранить мне местечко за рабочим столом.
Поль де Жери».
Предвыборная горячка, охватившая их на Корсике, сопровождала их, подобно сирокко, и в море. Она ворвалась в Париж и вдохнула свое безумие в апартаменты на Вандомскои площади, где с утра до вечера наряду с завсегдатаями толпились все время прибывавшие бородатые человечки с правильными чертами лица, коричневые от загара, как сладкие рожки, одни – шумливые, болтающие с азартом, как Паганетти, другие – молчаливые, сдержанные и педантичные; две разновидности одного и того же племени, порождаемые одинаковыми природными условиями. Все эти голодные островитяне, являвшиеся из захолустных уголков своей родины, встречались за столом Набоба, дом которого превратился в постоялый двор, в гостиницу, в базар. В столовой, где стол целыми днями оставался накрытым, всегда можно было застать только что приехавшего корсиканца, который закусывал с растерянным и жадным выражением деревенского родственника.
Агенты по выборам, эта хвастливая и шумная порода людей, всюду одинаковы, но островитяне отличались особой горячностью, исключительной пылкостью и безграничной чванливостью индейских петухов. Жалкий письмоводитель, контролер, секретарь мэрии или сельский учитель говорили таким тоном, будто за ними стоит целый кантон и карманы их поношенных сюртуков набиты избирательными бюллетенями. Дело в том, что во всех корсиканских общинах – Жансуле имел возможность в этом убедиться – семьи столь древнего происхождения, они вышли из такой нищеты и так разветвились, что какой-нибудь бедняк, дробящий камни на дорогах, может установить свое родство с самыми именитыми гражданами острова и пользуется поэтому значительным влиянием. Свойственные им национальные черты – надменность, скрытность, мстительность и склонность к интригам – усугубляют трудность положения и заставляют в сложной обстановке резко противоречивых интересов с большой осторожностью ставить ногу, чтобы не попасть в раскинутые повсюду тенета.
Но страшнее всего была зависть, ненависть этих людей друг к другу, ссоры за столом по поводу выборов, когда при малейшем несогласии они обменивались мрачными взглядами, сжимая черенки ножей, когда все говорили разом, громко, кто на генуэзском наречии, звучном и твердом, кто смешно коверкая французский язык, давясь от невысказанных оскорблений, сыпля названиями никому не известных захолустных селений, датами местных событий, внезапно воскрешавшими между двумя сотрапезниками двухвековую семейную вражду. Набоб, боясь, чтобы такие завтраки не привели к трагической развязке, старался своей доброй, примиряющей улыбкой укротить страсти. Но Паганетти успокоил его. По его словам, хотя вендетта еще существует на Корсике, но к кинжалу и ружью корсиканцы прибегают лишь в очень редких случаях, и то только представители низших классов. Их заменяют анонимные письма. И действительно, на Вандомской площади ежедневно получались письма без подписи следующего содержания:
«Господин Жансуле! Вы так великодушны, что я не могу не довести до Вашего сведения, что Борналино (Анджело-Мария) – предатель, перешедший на сторону Ваших врагов. Совсем другой человек – его кузен Борналино (Луиджи-Томазо), глубоко преданный правому делу» и т. д.
Или же:
«Господин Жансуле! Боюсь, что на выборах Вас ожидает провал и все Ваши труды пропадут даром, если Вы и в дальнейшем будете пользоваться услугами некоего Кастирла (Джозуа) из Омесского кантона, тогда как его родственник Лучани именно тот человек, который Вам нужен…»
Хотя несчастный кандидат и перестал читать такого рода послания, все же, измученный сомнениями и страстями, попав в сети интриг, полный страхов, недоверия и тревоги, задерганный, изнервничавшийся, он чувствовал на себе всю справедливость корсиканской пословицы: «Если хочешь зла своему врагу, пожелай ему или кому-нибудь из его близких стать кандидатом на выборах».
Легко себе представить, что эта туча прожорливой саранчи, налетевшая на гостиные «мусью Жансуле», не пощадила его чековой книжки и трех ящиков комода красного дерева. Но до чего потешны были эти надменные островитяне, когда они с вызывающим видом, без всяких предразговоров, производили заем у Набоба!
И все же не они были самым страшным бичом, если забыть о ящиках с сигарами, которыми они так набивали свои карманы, словно каждый из них собирался, вернувшись на родину, открыть табачную лавочку. Подобно тому как в сильную жару краснеют и воспаляются раны, так во время предвыборной горячки пышным цветом расцвело вымогательство, и без того прочно обосновавшееся в этом доме. Огромные средства расходовались на прессу – на статьи Моассара, тюками в двадцать – тридцать тысяч экземпляров отправляемые на Корсику вместе с портретами, биографией кандидата и разными брошюрами, – на создание всей той шумихи в печати, какую только мыслимо поднять вокруг чьего-либо имени. А затем – обычная работа выкачивающих насосов, выстроившихся перед огромным резервуаром миллионов. Тут были и вифлеемские ясли – мощная машина, действующая с промежутками, но полновесными ударами. Земельный банк – превосходный, неутомимый механизм с тройным-четверным насосом в несколько тысяч лошадиных сил, насос Швальбаха, насос Буа-Ландри и столько еще других! Одни были огромные, с нагло громыхающим поршнем, другие действовали осторожно, бесшумно, с шестернями, смазанными маслом, с маленькими предохранительными клапанами, игрушечные насосы, тонкие, как хоботы насекомых, которые, желая утолить свою жажду, сильно жалят и заражают ядом то место, откуда они черпают жизнь. Но все эти насосы работали с полнейшим единодушием и роковым образом должны были если не полностью исчерпать живительную влагу, то привести к значительному понижению ее уровня.
Уже некоторые слухи, пока еще смутные, пробежали на бирже. Были ли тому причиной козни его врага Эмерленга, против которого Жансуле вел ожесточенную войну, стараясь противодействовать всем финансовым операциям толстого банкира и теряя на этом колоссальные суммы, потому ли, что против него была его собственная ярость, хладнокровие его противника и деловая беспомощность Паганетти, служившего ему подставным лицом. Как бы то ни было, золотая звезда потускнела. Поль де Жери знал это через старика Жуайеза, поступившего бухгалтером к биржевому маклеру и хорошо осведомленного обо всех биржевых операциях. Но больше всего пугало молодого человека крайне возбужденное состояние Набоба, его потребность чем-нибудь себя одурманить, пришедшая на смену спокойной уверенности в своих силах и ясности духа, утрата трезвости, свойственной южанину, манера, с какой его принципал опрокидывал перед каждой трапезой большие рюмки арака, громко при этом разговаривая и хохоча, как грубый матрос на корабле. Чувствовалось, что он перенапрягает силы, чтобы заглушить в себе тревогу. Все же иногда под влиянием неотвязной мысли она прорывалась: лицо Набоба вдруг искажалось, или же он начинал лихорадочно перелистывать свою истрепанную записную книжку. Но Жансуле упорно избегал решительного объяснения, того серьезного разговора, которого так добивался Поль. Он проводил ночи в клубе, утра – в постели, и как только он просыпался, спальня его наполнялась людьми, которые говорили с ним, пока он одевался, и которым он отвечал, уткнув нос в таз с водой. Если по счастливой случайности Полю удавалось поймать его на минуту, Набоб пытался бежать, прерывая молодого человека на полуслове:
– Только не сейчас, прошу вас….
В конце концов Полю пришлось прибегнуть к героическим мерам.
Однажды, вернувшись около пяти часов утра из клуба, Жансуле нашел на ночном столике письмо, которое он сначала принял за один из анонимных доносов, получаемых ежедневно. И действительно, это был донос, но только написанный без обиняков, со всей прямотой и серьезностью, свойственной его секретарю, и за его подписью. Де Жери с полной ясностью указывал на все мерзости, на все хищнические махинации, жертвою которых являлся Жансуле. Он называл мошенников по именам. Среди завсегдатаев дома не было ни одного, кто бы не внушал ему подозрения, кто бы не явился сюда, чтобы воровать и обманывать. Во всем доме сверху донизу – грабеж и расхищение. Лошади Буа-Ландри все были с изъяном, картинная галерея Швальбаха – одно надувательство, статьи Мовссара – бесстыдный шантаж. Де Жери составил длинный, подробнейший перечень этих наглых злоупотреблений, подкрепленный документами. Но особенно просил он Жансуле обратить внимание на деятельность Земельного банка, представлявшую собой серьезную опасность. В других случаях Набоб рисковал только деньгами, здесь же на карту была поставлена его честь. Привлеченные именем Набоба, его положением председателя совета, сотни акционеров, искатели золота, пустившиеся по следам счастливого рудокопа, попались в ловушку. Жансуле брал на себя страшную ответственность, в чем он мог убедиться, ознакомившись с отчетностью банка, с этой сплошной ложью и надувательством.
«Вы найдете упомянутый мною перечень, – писал де Жери, заканчивая письмо, – в верхнем ящике моего стола. К нему приложены расписки. Я не оставил его в Вашей спальне, потому что подозреваю Ноэля, как и всех в доме. Сегодня вечером, расставаясь с Вами, я передам Вам ключ от стола. Дело в том, что я покидаю Вас, мой дорогой покровитель и друг, покидаю Вас, преисполненный благодарности за все добро, которое Вы сделали мне, и глубоко опечаленный тем, что из-за Вашего слепого доверия к людям я лишен был возможности хотя бы отчасти Вас отблагодарить. Моя совесть честного человека упрекала бы меня, если бы я, не принося пользы, продолжал оставаться на своем посту. Я вынужден присутствовать при катастрофе, при разграблении волшебного дворца, чему я бессилен помешать, но сердце мое возмущается всем, что я вижу. Я пожимаю руки, прикосновение которых меня бесчестит. Я Ваш друг, а меня могут принять за соучастника этих негодяев. И кто может поручиться, что, живя в такой атмосфере, я не уподоблюсь им?»
Это письмо, которое Набоб медленно, с глубоким вниманием прочел, вникая в каждую букву, даже в пробелы между строками и словами, произвело на него такое сильное впечатление, что, вместо того чтобы лечь в постель, он направился к своему молодому секретарю. Поль занимал за рядом гостиных рабочий кабинет, где ему стелили на диване. Временно устроившись там, он решительно отказался перейти в другую комнату. Весь дом еще спал. Проходя через анфиладу гостиных, предназначенных только для дневных приемов, – в них никогда не задергивали гардин, и сейчас там брезжил свет раннего парижского утра, – Набоб остановился, пораженный печальным видом запустения, который являла его роскошь. В тяжелом воздухе, пропитанном табачным дымом и испарениями пролитого вина, новая мебель, расписные потолки и деревянные панели казались уже утратившими свою свежесть. Пятна на потрепавшейся шелковой обивке, пепел, бесцеремонно сброшенный на чудесные мраморные столики, следы сапог на коврах – все это напоминало огромный вагон первого класса, где на всем лежит печать праздности, нетерпения и скуки, порожденных продолжительным путешествием, где пассажиры, заплатившие за всю эту роскошь, смотрят на нее с презрительным безразличием. Среди этого убранства, в котором еще чувствовался привкус ежедневно разыгрываемой здесь отвратительной комедии, Набоб увидел в двадцати зеркалах, холодных и потускневших, свое изображение, мрачное и вместе с тем комическое, столь не соответствовавшее его щегольскому костюму, свое помятое и пылающее лицо с набухшими веками.
Какое отрезвляющее, полное разочарования пробуждение после безумной жизни, которую он вел!
Он на минуту погрузился в свои мрачные мысли, потом тряхнул плечами привычным для него движением, движением грузчика, словно желая сбросить с себя слишком тяжкие заботы, привести в равновесие свою ношу, которую тащит на себе каждый человек и которая в зависимости от его мужества и силы в большей или меньшей степени сгибает ему спину, и вошел к Полю де Жери. Тот уже поднялся с постели и, стоя перед раскрытым бюро, разбирал бумаги.
– Прежде всего, друг мой, – сказал Жансуле, притворяя за собой двери, чтобы никто не подслушал их беседу, – ответьте мне откровенно: действительно ли вы решили меня покинуть по причинам, указанным в вашем письме? Не придали ли вы веры тем гнусным слухам, которые, как я знаю, распространяются обо мне в Париже? Я убежден, что, как честный человек, вы от меня этого не утаите и дадите мне возможность… оправдаться перед вами.
Поль уверил его, что других причин для ухода у него нет, но что приведенных им вполне достаточно, так как это – дело его совести.
– В таком случае выслушайте меня, мой юный друг, и я не сомневаюсь, что мне удастся вас удержать. Из вашего письма, убедительного своей прямотой и искренностью, я не узнал ничего нового: все это было мне известно уже целых три месяца. Да, дорогой Поль, вы оказались правы. Париж сложнее, чем я полагал. По приезде сюда я не нашел честного и бескорыстного чичероне, который предостерег бы меня от излишней доверчивости к людям и делам. Вокруг меня оказались одни корыстолюбцы. Все, что было порочного в городе, все парижские мошенники оставили следы своих грязных сапог на моих коврах… Я сейчас смотрел на мои бедные гостиные. Из них надо вымести весь сор, и, клянусь вам, это будет сделано, черт возьми, и притом твердой рукой! Но для этого я должен стать депутатом. Я пользуюсь услугами этих подлецов, чтобы попасть в парламент, а депутатское кресло мне нужно, чтобы предотвратить малейшую возможность… Обрисую вам в двух словах мое положение. Бей не только не желает вернуть мне деньги, одолженные ему месяц тому назад, но на мое требование, поданное в суд, ответил встречным иском в восемьдесят миллионов – сумма, в которую он оценивает то, что я будто бы выманил у его брата. Но это грабеж среди бела дня, это наглая клевета! Состояние приобретено мною совершенно законно. Я нажил его своими комиссионными операциями. Я пользовался благоволением Ахмеда; он сам предоставил мне возможность разбогатеть… Не отрицаю, что иногда я слишком круто завинчивал гайку, это случалось. Но нельзя смотреть на это глазами европейца. На Востоке огромные барыши левантинцев не возбраняются и никого не поражают. Это дань дикарей за их приобщение к благам западной цивилизации. Негодяй Эмерленг, натравивший на меня бея, не то еще делал. Но что об этом толковать?.. Я попал сейчас волку в пасть. Еще до представления мною объяснений суду – а мне хорошо известно восточное правосудие – бей наложил арест на все мое имущество, на мои корабли, на мои дворцы и все, что в них находится. Дело проведено с соблюдением всех формальностей, на основании постановления Высшего совета. Во всем этом чувствуется рука Эмерленга-сына. Если я стану депутатом, все пойдет насмарку. Совет отменят свое постановление, мне вернут мое имущество и еще принесут извинения. В противном случае я потеряю все, шестьдесят, восемьдесят миллионов, даже самую возможность восстановить состояние, мне грозят разорение, бесчестие и гибель… Неужели же, милый мой мальчик, вы решитесь покинуть меня в такой критический момент? Подумайте: ведь, кроме вас, у меня нет никого на свете – Жена? Вы ее видели и знаете, какой поддержки, какого совета я могу ждать от нее! Дети? Но их у меня словно и нет. Я их никогда не вижу, и они с трудом узнали бы меня, встретив на улице. Проклятая роскошь помешала мне приобрести друзей, я окружен бесстыдными корыстолюбцами. Любит меня только мать, но она далеко, да еще вы, которого она же ко мне послала. Нет, вы не оставите меня в одиночестве, когда вокруг меня кишит клевета! Как это страшно, если бы вы только знали! В клубе, в театре, всюду, где я бываю, я вижу змеиную головку баронессы Эмерленг, слышу отзвук шипения этой гадюки, чувствую ее ядовитое жало. Везде меня встречают насмешливые взгляды, притворные улыбки или благосклонность с примесью жалости; при моем появлении разговоры замолкают. А затем это отступничество, когда люди от меня шарахаются, словно следом за мной идет беда. Вот хотя бы Фелиция Рюис: она уже совсем закончила мой бюст, а потом, только чтобы не посылать его на выставку, придумала, будто он пострадал от какого-то несчастного случая. Я промолчал, сделал вид, что поверил, но понял, что и тут какая-то каверза… И это было для меня большим разочарованием. В тяжелых обстоятельствах, в каких я нахожусь, каждая мелочь имеет значение. Появление на выставке моего бюста, вылепленного знаменитым мастером, могло бы принести мне большую пользу в Париже. Но нет, все рушится вокруг меня, все уплывает из рук… Вы сами видите, что не можете меня покинуть.
XIII. ДЕНЬ ХАНДРЫ
Пять часов пополудни. Дождь льет с утра, небо серое и такое низкое, что можно его коснуться зонтиком, сырость пронизывает насквозь, слякоть, жидкая грязь, сплошная грязь, которая собирается в стоячие лужи, стекает глянцевитыми струнками вдоль тротуаров. Эту грязь тщетно пытаются счистить метельщицы-машины и метельщицы в косынках, ее накладывают на огромные телеги с откидным кузовом, которые медленно вывозят ее по направлению к Монтреилю, торжественно двигаясь по улицам. Грязь эту все время ворошат, но она снова скопляется, вылезает из-под булыжников мостовой, забрызгивает дверцы карет, сбрую лошадей и одежду прохожих, пятнает окна, пороги домов и витрины магазинов. Можно подумать, что весь Париж погрузится в нее и исчезнет под унылой болотистой почвой, где все смешивается и растворяется. Тяжело видеть, как эта слякоть оставляет следы на белых фасадах новых домов, на парапетах набережных, на колоннадах каменных балконов. Но одно живое существо радуется этому зрелищу, одно несчастное создание, пресыщенное жизнью и больное, лежит, растянувшись на расшитом шелками диване, опершись головой на сжатые кулаки, и с удовольствием смотрит на улицу сквозь стекла, по которым струится вода, смотрит, наслаждаясь всем этим уродством.
– Понимаешь, моя добрая фея, такая погода мне сегодня как раз по душе. Погляди, как они шлепают по лужам… До чего они отвратительны, как они все перепачкались! Сколько грязи! Всюду грязь, и на улице и на набережной, даже в самой Сене, даже на небе. Ах, до чего приятна такая грязь, когда грустно на душе!.. Мне бы хотелось запустить в нее руки, вылепить из нее статую высотой в сто футов и назвать ее «Моя тоска».
– Отчего же ты тоскуешь, моя милая? – ласково спросила старая балерина, розовенькая и приветливая, сидевшая в кресле, не прислоняясь к спинке, чтобы не испортить прическу, сделанную аккуратней, чем обычно. – Разве ты не обладаешь всем, что нужно, чтобы быть счастливой?
Спокойным тоном она в сотый раз начала перечислять Фелиции все, чем та обладала: слава, талант, красота, поклонение самых обаятельных, самых могущественных мужчин, о да, самых могущественных, потому что еще сегодня… Но тут грозное мяуканье, душераздирающий вой шакала, истосковавшегося в унылой пустыне, огласил мастерскую. Стекла задребезжали, и насмерть перепуганная древняя куколка поспешила спрятаться в свой кокон.
Уже целую неделю Фелиция, закончив свою группу и отослав ее на выставку, находилась в подавленном и раздраженном состоянии духа; она испытывала ко всему глубочайшее омерзение, она не находила себе места. Бедной фее потребовалось все ее неистощимое терпение, вся чудодейственная сила воспоминаний, в которые она поминутно погружалась, чтобы наладить себе сносную жизнь подле девушки, снедаемой тревогой, злобой и гневом, клокотавшими в ней, даже когда она молчала, и внезапно находившими исход в горьких словах, в восклицаниях, полных гадливости ко всему на свете. Группа ее отвратительна… Никто о ней даже не упоминает… Все критики – идиоты… А публика – стадо баранов с трехэтажным зобом… Между тем в прошлое воскресенье, когда герцог де Мора вместе с главным инспектором изящных искусств приезжали в мастерскую, чтобы посмотреть ее работы, как она была счастлива, как была горда, выслушивая их похвалы, с каким восторгом смотрела на свою группу, любуясь ею со стороны, как если бы она была вылеплена не ее руками, ибо стека уже не создавала между нею и ее творением той связи, которая препятствует беспристрастному суждению художника.
Так повторялось каждый год. Как только из мастерской бывало вывезено последнее произведение и прославленное имя Фелиции еще раз отдано на капризный суд толпы, как только исчезала цель, на которой были сосредоточены ее мысли, страшная пустота воцарялась в ее сердце, в жизни женщины, выбитой из привычной колеи, и это длилось до тех пор, пока ее не захватывала новая работа. Она запиралась, не желала никого видеть. Можно было подумать, что она не доверяет самой себе. Только добрейший Дженкинс способен был выносить ее во время таких кризисов, казалось даже, что он ищет их, словно чего-то от них ожидая. А ведь одному богу известно, как она нелюбезна с ним. Еще вчера он два часа просидел у этой скучающей красавицы, и она ни разу с ним не заговорила. Если такой же прием она готовит сегодня вечером высокому гостю, который оказал им честь, приняв приглашение на обед… Тут кроткая Кренмиц, мирно предававшаяся этим мыслям, глядя на узкие носки своих туфелек с бантиками, вдруг вспомнила о своем обещании испечь для званого обеда с указанной выше особой венское печенье и на цыпочках вышла из мастерской.
Все так же льет дождь, всюду та же грязь, все так же лежит, опершись на лапы, прекрасный сфинкс со взором, устремленным в мутную даль. О чем думает он? Что он видит там, на этих грязных, неверных дорогах в надвигающихся сумерках, в которые он вглядывается, морща лоб и оттопырив губы от омерзения? Уж не судьбу ли свою он ждет? Печальная судьба, пустившаяся в путь по такой погоде, не убоявшись мрака и слякоти…
Кто-то вошел в мастерскую, но более тяжелыми шагами, чем скользящая бесшумно, как мышь, Констанция. Наверно, маленький слуга. Фелиция резко, не оборачиваясь, крикнула:
– Оставь меня в покое!.. Меня ни для кого нет дома!
– А мне все-таки хотелось бы поговорить с вами, – отзывается дружеский голос.
Она вздрагивает, выпрямляется и, смягчившись, почти весело говорит нежданному гостю:
– Ах, это вы, юная Минерва? Как же вы проникли ко мне?
– Очень просто. Все двери были открыты.
– Меня это не удивляет. Констанция с самого утра потеряла голову из-за обеда…
– У вас званый обед? Я так и думал. Передняя полна цветов.
– Никому не нужный, официальный обед!.. Сама не знаю, как я могла… Ну, садитесь же сюда, рядом со мной… Я вам очень рада.
Поль, слегка смущенный, сел. Никогда еще она не была так хороша. В полумраке мастерской, среди тускло поблескивавших произведений искусства, бронзы и тканых шпалер, мягко выступала матовая бледность ее лица, глаза искрились, как драгоценные камни, а длинная облегающая амазонка подчеркивала непринужденную грацию ее стана богини. И говорила она так приветливо! Казалось, она была рада, что он пришел… Почему он так долго не приходил? Вот уже месяц, как он не показывался. Разве они больше не друзья? Поль старался оправдаться: дела, поездка не давали ему возможности ее посетить. Впрочем, если он и не бывал у нее, то часто о ней говорил, да, очень часто, почти ежедневно.
– В самом деле? С кем же?
– С…
Он чуть было не сказал «С Алиной Жуайез», но какое – то необъяснимое чувство неловкости остановило его; он словно постыдился произнести это имя в мастерской, в которой обычно слышались совсем другие имена. Есть вещи несовместимые, трудно объяснить, почему. Поль предпочел солгать, и эта ложь позволила ему перейти к цели его посещения.
– С одним превосходным человеком, которого вы напрасно огорчили… Скажите, почему вы не закончили бюст бедного Набоба? Для него было бы большим счастьем, предметом его настоящей гордости, если бы его бюст оказался на выставке. Он очень на это надеялся.
При упоминании имени Набоба она слегка смутилась.
– Вы правы, – сказала она, – я нарушила данное слово. Что делать? Я ведь капризна. Но я хочу на днях снова приняться за его бюст. Вот, посмотрите, холст на нем совсем влажный, чтобы не высохла глина…
– Ах да, несчастный случай… Знаете, мы этому не поверили.
– И напрасно. Я никогда не лгу. Он упал плашмя и разбился вдребезги. Но глина была свежая. Мне легко было исправить. Смотрите!
Она сдернула холст, и перед ними предстала добродушная физиономия Набоба: он словно сиял от счастья, что его увековечили в глине, и был так похож – совсем как живой, – что Поль даже вскрикнул от восхищения.
– Ну что, удачно? – наивно спросила она. – Только немного подправить тут и еще вот тут.
Она взяла стеку и, в нескольких местах подправив, передвинула подставку туда, где еще было светло.
– Работы здесь на несколько часов. Но все равно бюст не успеет попасть на выставку. Сейчас у нас двадцать второе, все экспонаты уже давно отосланы.
– Пустяки!.. При связях…
Она нахмурила брови, горькая складка вновь появилась у губ.
– Ну, конечно! Ведь мне покровительствует герцог де Мора!.. Бросьте, не стоит оправдываться: я знаю, что обо мне говорят, и мне это так же безразлично, как вот это… (Она швырнула комок глины, который прилип к обоям.) Возможно даже, что такие ни на чем не основанные слухи в конце концов приведут… Но оставим все эти гнусности, – добавила она, вскинув свою аристократическую головку. – Я хочу доставить вам удовольствие, Минерва. Ваш друг попадет в ближайший Салон.
Но в тот момент по мастерской, куда все больше набивалась тонкая пыль сумерек, обесцвечивая предметы, внезапно распространился запах жженого сахара и горячего теста. Появилась фея с блюдом печенья в руках, настоящая фея, нарядная, помолодевшая, в белой тунике, отделанной пожелтевшими кружевами, покрывавшими ее руки, прекрасные руки старой женщины, красота которых еще сохраняется, когда все остальное уже увяло.
– Посмотри на мое печенье, душечка: удалось оно мне сегодня?.. Ах, извини, я не знала, что у тебя гости… Да это господин Поль! Как поживаете, господин Поль? Отведайте моего печенья…
Милая старушка, которой ее наряд, казалось, придавал особую живость, приблизилась, слегка припрыгивая и ловко поддерживая блюдо в равновесии на кончиках своих кукольных пальцев.
– Оставь господина де Жери в покое, – спокойно сказала Фелиция, – ты угостишь его за обедом.
– За обедом?
Балерина была так изумлена, что чуть не уронила блюдо с чудесным печеньем, таким же воздушным, нежным и прелестным, как она сама.
– Ну да, я его оставляю обедать с нами… О, прошу вас! – добавила она с необычайной настойчивостью, заметив отрицательный жест молодого человека. – Прошу вас, не отказывайтесь… Вы мне окажете большую услугу, если останетесь… Я ведь сразу согласилась исполнить вашу просьбу.
Фелиция взяла его за руку. Между ее просьбой и умоляющим, встревоженным тоном, каким она была высказана, чувствовалось какое-то странное несоответствие. Поль продолжал отговариваться: он не одет… Что же это будет? К обеду приглашены гости…
– Званый обед?.. Да я его сейчас отменю! Видите, какая я… Мы будем обедать втроем: вы, я и Констанция!
– Фелиция, дитя мое, это невозможно! Что ты выдумываешь? А… а твой гость, который должен сейчас явиться?
– Я напишу, чтобы он не приходил, вот и все.
– Да ты с ума сошла! Уже поздно…
– Совсем не поздно. Бьет шесть часов, обед назначен на половину восьмого… Вели отнести ему записку.
Она уже торопливо писала на краешке стола.
– Боже мой, боже мой, что за странная девушка! – шептала ошеломленная балерина, между тем как Фелиция, радостно возбужденная, вся словно преобразившись, запечатывала письмо.
– Вот я уже и нашла предлог! Врачи не напрасно выдумали мигрень, – заявила Фелиция, отдавая письмо. – Ах, как я рада! Какой чудесный вечер мы проведем! Поцелуй меня, Констанция…. Это не помешает нам оказать честь твоему печенью. И мы будем иметь удовольствие видеть тебя за столом в твоем прелестном наряде, в котором ты выглядишь моложе меня.
Большего и не требовалось, чтобы балерина простила своему дорогому «бесенку» новый каприз и «оскорбление принца крови», в котором она стала невольной соучастницей. Так бесцеремонно поступить с принцем крови – на это способна только Фелиция, только она одна. А Поль де Жери уж и не пытался сопротивляться, он опять почувствовал на себе путы, от которых, как ему казалось, он освободился за время разлуки, но которые, стоило ему переступить порог мастерской, вновь опутали его волю. Связанный по рукам и ногам, он оказался во власти своего чувства, которое перед тем решил твердо побороть.
Обед, действительно изысканный, обдуманный австриячкой до малейших подробностей, был явно предназначен для знатной персоны. Начиная от высокого кабильского канделябра резного дерева, сверкавшего своими семью свечами на сплошь вышитой скатерти, до кувшинов прелестной, причудливой формы, с длинными горлышками, в которых были поданы вина, роскошная сервировка стола, тонкие, остро и своеобразно приправленные блюда – все свидетельствовало о том, что ожидавшийся сегодня гость был птицей высокого полета и что ему всячески старались угодить. Сразу было видно, что вы в доме художника. Мало серебра, но зато превосходный фаянс. Вещи, хотя и разнородные, гармонировали между собой. Старый руанский фарфор, розовый севрский, голландский хрусталь в старинной чеканной оправе, соединенные на столе, как в витрине редкостей, собраны были знатоком, который руководствовался только своим вкусом. Хозяйству, зависевшему от случайных находок, безусловно, присущ был некоторый беспорядок. У чудесного судка не было пробок. Надтреснутая солонка еже* минутно опрокидывалась на скатерть. То и дело раздавались возгласы: