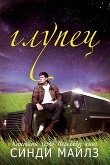Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– Как ты должна быть счастлива! Я еще ничего не видела, но со всех сторон только слышу восторженные отзывы о твоих работах…
– Я счастлива тем, что снова вижу тебя, милая моя Алина. Так давно…
– Еще бы! А кто в этом виноват, разбойница?
В самом печальном уголке своей памяти Фелиция находит дату разрыва с подругой, совпадающую с тем злосчастным днем, когда умерла ее юность, со сценой, которую она не может забыть.
– Что ты делала все это время, моя душенька?
– Я? Да все одно и то же… Разные пустяки, о которых не стоит и говорить…
– Знаем мы, знаем, что ты называешь пустяками, маленькая героиня! Жертвовать собой для других, не так ли?
Но Алина уже не слушала ее. Она ласково улыбалась, глядя прямо перед собой, и Фелиция, обернувшись, чтобы узнать, кому она улыбается, увидела Поля де Жери, который отвечал на сдержанное и нежное приветствие мадемуазель Жуайез.
– Вы знакомы?
– Знакома ли я с господином де Жери? Конечно, знакома! Мы часто говорим о тебе. Разве он тебе не рассказывал?
– Никогда. Он такой скрытный…
Фелиция смолкла; в ее мозгу, как молния, сверкнула догадка. Не слушая де Жери, который поздравлял ее с огромным успехом, она наклонилась к Алине и что-то сказала ей шепотом. Та покраснела, пыталась отрицать, смущенно улыбаясь, лепетала:
– Что это ты выдумала? В мои-то годы? Я ведь Бабуся…
Желая избежать насмешек подруги, она ваяла под руку отца.
Когда Фелиция посмотрела вслед молодым людям, удалявшимся ровным шагом, когда она поняла то, чего они сами еще не сознавали, – что они любят друг друга, она почувствовала, что все рушится вокруг нее. Ее мечта рухнула, разбилась на тысячу обломков, и она начала яростно топтать ее ногами… В конце концов он был совершенно прав, предпочтя ей Алину Жуайез. Разве порядочный человек решится взять в жены мадемуазель Рюис? Она-и очаг, семья? Какой вздор!.. Ты дочь распутницы, моя милая, и должна стать распутницей, если хочешь быть хоть чем-нибудь…
Было уже около четырех часов. Толпа, местами поредевшая, торопилась закончить осмотр. После толкотни перед лучшими произведениями нынешнего года, наглядевшись досыта, утомленные, наэлектризованные атмосферой, насыщенной искусством, посетители тянулись к выходу. Сноп лучей послеполуденного солнца падал на стеклянный купол, играл цветами радуги на посыпанных песком дорожках, освещал бронзу и мрамор статуй, оттеняя наготу прекрасного тела, уподобляя этот обширный музей саду, полному жизни и света. Фелиция, погруженная в свои печальные мысли, не заметила, что к ней приближался человек, величественный, элегантный, очаровательный среди почтительно расступавшейся публики, шепотом повторявшей его имя: «Перед ним Мара…».
– Что скажете, мадемуазель? Какой успех! Я только жалею об одном – о недобром значении, которое вы придумали вашему шедевру.
Увидев рядом с собой герцога, она затрепетала.
– Ах, да, его значение!.. – произнесла она и, взглянув на де Мора с безнадежной улыбкой, прислонившись к цоколю большой сладострастной статуи, возле которой они стояли, закрыв глаза, как закрывает их женщина, близкая к обмороку или готовая отдаться, прошептала тихо, совсем тихо: – Рабле солгал, как лгут все мужчины… На самом деле лисица уже едва дышит, она выбилась из сил, вот-вот готова упасть, и если борзая сделает еще одно усилие…
Де Мора вздрогнул и слегка побледнел, как будто вся кровь отхлынула у него к сердцу. Два тусклых огонька загорелись в глазах собеседников, несколько слов были ими произнесены еле слышно, затем герцог низко поклонился и отошел легкой, воздушной походкой, словно несомый богами.
В это мгновение на выставке был еще один столь же счастливый человек – Набоб. Сопровождаемый своими друзьями, он занимал, заполнял собою весь главный проход; он громко разговаривал, жестикулировал, до того упоенный успехом, что казался почти красавцем, словно, долго и простодушно любуясь своим скульптурным портретом, он заимствовал у него частицу той идеализации черт, которою скульптор смягчил вульгарность оригинала. Высоко закинутая голова, выступавшая из широкого полурасстегнутого воротника, вызывала противоречивые замечания относительно степени сходства между бюстом и его моделью. Имя Жансуле, уже повторенное счетчиками у избирательных урн, теперь повторялось самыми прелестными устами Парижа, голосами самых влиятельных людей. Всякий другой на месте Набоба смутился бы, если бы, проходя, услышал эти восклицания любопытных, не всегда доброжелательные. Но стоять на подмостках, красоваться на виду у всех было по душе этому человеку, становившемуся смелее под огнем направленных на него взглядов, подобно женщинам, которые бывают красивы и остроумны только в обществе и при каждом комплименте преображаются и расцветают.
Когда в нем радостное возбуждение утихло, когда ему казалось, что иссякает пьянящая его гордость, ему стоило только сказать себе: «Депутат! Я депутат!»-и снова победная чаша закипала пеной. Это означало снятие секвестра с его имущества, это было пробуждение после двухмесячного кошмарного сна, порыв мистраля, который разгонял все муки, все тревоги, даже тяжелую обиду, нанесенную ему в Сен-Романе, – воспоминание о ней до сих пор еще мучило его.
«Депутат!»
Набоб смеялся в душе, представляя себе, как исказилось лицо барона, когда он узнал эту новость, представляя себе изумление бея при виде его бюста. И вдруг при мысли, что он уже не просто авантюрист, купающийся в золоте, возбуждающий дурацкие восторги толпы, словно огромный золотой слиток на витрине менялы, но что в нем видят теперь одного из избранников нации, его добродушное подвижное лицо принимало выражение напускной важности. Он строил планы на будущее, думал коренным образом изменить свою жизнь, у него явилось желание воспользоваться уроками судьбы, полученными за последнее время. Вспоминая о своем обещании, данном Полю де Жери, он выказывал голодному стаду, униженно следовавшему за ним по пятам, презрительную холодность, говорил покровительственным, не терпящим возражений тоном. Обращаясь к Буа-Ландри, он называл его «старина», резко обрывал Паганетти, восторги которого становились непристойными, и давал себе слово избавиться как можно скорее от всей этой нищенствующей, компрометирующей его братии. И тут ему неожиданно представился превосходный случай начать действовать. Продираясь сквозь толпу, Моэссар, красавец Моэссар, в галстуке небесно-голубого цвета, с мертвенно-бледным, вспухшим, как большой нарыв, лицом, в плотно облегающем щегольском сюртуке, видя, что Набоб, несколько раз обойдя залу скульптуры, направляется к выходу, бросился к нему и, взяв под руку, заявил:
– Я еду с вами.
В последнее время, особенно в период избирательной кампании, журналист приобрел огромную власть на Вандомской площади, почти такую же, как Монпавон, и проявлял он теперь совершенно невероятную наглость, ибо по части наглости возлюбленный королевы не имел себе равного среди шалопаев, фланирующих по бульвару от улицы Друо до церкви св. Магдалины. Но на этот раз его постигла неудача. Мускулистая рука, которую он сжимал, резко стряхнула его руку, и Набоб сухо ответил ему:
– Мне очень жаль, милый мой, но у меня нет свободного места в карете.
Нет места в карете величиною с дом, в карете, в которой они приехали впятером!
Моэссар в изумлении уставился на Жансуле.
– Мне надо сказать вам несколько слов… По поводу моей записочки. Вы ее, конечно, получили?
– Получил, господин де Жери должен был вам ответить сегодня утром. Удовлетворить вашу просьбу я не могу. Двадцать тысяч франков? Черт побери, это уже слишком!..
– Однако мне кажется, что мои заслуги… – пробормотал покоритель женских сердец.
– …уже щедро оплачены. Мне тоже так кажется. Двести тысяч франков за пять месяцев! Этим, если позволите, мы и ограничимся. У вас слишком большой аппетит, молодой человек; надо его немного умерить.
Они разговаривали на ходу, в толпе, теснившейся к дверям. Моэссар остановился.
– Это ваше последнее слово?
Набоб колебался, охваченный недобрым предчувствием при виде влобного выражения бледных губ журналиста, потом, вспомнив обещание, которое он дал своему другу, ответил:
– Да, это мое последнее слово.
– Посмотрим!.. – сказал красавец Моэссар, взмахнув тросточкой, рассекшей воздух с шипением, похожим на шипение гадюки, и, повернувшись на каблуках, удалился большими шагами, как человек, которого ждет неотложное дело.
Набоб продолжал свое триумфальное шествие. В такой день нужно было нечто более серьезное, чтобы испортить его радужное настроение. Напротив, он испытывал некоторый душевный подъем оттого, что так быстро прибегнул к решительным действиям.
Огромный вестибюль был набит битком. Приближение момента закрытия выставки заставило публику устремиться наружу, но внезапно хлынувший ливень, без которого, по-видимому, не обходится ни один вернисаж Салона, задержал ее под навесом на посыпанной песком и хорошо утрамбованной площадке. Все это походило на выход в цирке, когда на арену важно выступают служители в жилетах с вырезом сердечком. Картина была любопытная, вполне парижская.
На улице длинные солнечные лучи пробивались сквозь дождь, который ловил в свою прозрачную сеть эти острые сверкающие клинки, подтверждавшие справедливость поговорки: «Дождь идет, словно сабли с неба падают». Молодой листве на Елисейских полях, пышным рододендронам, шуршащим и вымокшим от дождя, каретам, вытянувшимся в ряд на бульваре, клеенчатым плащам кучеров, богатой сбруе лошадей придавали особую яркость и блеск этот дождь, ласкающие солнечные лучи и всюду мелькающая синева – синева неба, которое между двумя порывами ливня внезапно озарялось улыбкой.
А под навесом раздавался смех, болтовня, приветствия, нетерпеливые возгласы, видны были приподнятые подолы платьев, атлас, вздымавшийся над плиссированными нижними юбками, нежные полоски шелковых чулок, волны бахромы, помятых кружев и оборок, с трудом сдерживаемые рукой… И, словно чтобы соединить две части общей картины: узников, столпившихся в темноте под навесом у входа, и огромный, залитый светом фон, – ливрейные лакеи метались под зонтиками, выкрикивая имена кучеров и имена господ, и шагом подъезжали кареты, в которые садились нетерпеливые пары.
– Карету господина Жансуле!
Все обернулись, но, как мы уже заметили, это не смущало Набоба. В то время как среди элегантных женщин и всем известных мужчин, среди представителей самых разных кругов Парижа, носящих громкие имена, Набоб, слегка рисуясь, ожидал слуг, нервная рука в узкой перчатке протянулась к нему, и герцог де Мора, собираясь сесть в свой экипаж, бросил, проходя мимо него, несколько слов с той горячностью, которую счастье придает даже самым сдержанным людям:
– Поздравляю вас, дорогой депутат!
Это было сказано громко. Каждый мог явственно расслышать слова: «Дорогой депутат!»
В жизни каждого человека бывает золотой час, когда он достигает сияющей вершины, где все, на что он мог надеяться, – счастье, радости, триумфы, – ожидает его и даруется ему. Вершина эта более или менее высокая, подъем более или менее извилист и труден, но она существует равно для всех – и для великих мира сего и для смиренных. Но, подобно самому длинному дню в году, когда солнце отдает все свое ослепительное тепло, а следующий день – это уже как бы первый шаг к зиме, зенит человеческого существования длится лишь один миг, которым дано насладиться, после чего начинается спуск вниз. Запомни, бедняга, этот послеполуденный час первого мая, отмеченный дождем и солнцем, запечатлей навсегда его изменчивый блеск в своей памяти! Для тебя этот час был разгаром лета, с распустившимися цветами, с золотистыми ветвями, гнущимися под тяжестью плодов, готовой для жатвы нивой, колосья которой ты так безрассудно расточал. Звезда, тебе светившая, отныне начнет меркнуть, постепенно отдаляться, клонясь к закату, и вскоре уже не сможет прорезать своим лучом темную ночь, которой завершится твоя судьба.
XV. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. В ПЕРЕДНЕЙ
В прошлую субботу на Вандомской площади был грандиозный прием.
Г-н Бернар Жансуле, новый депутат от Корсики, давал в честь своего избрания великолепный вечер – муниципальные гвардейцы у входа, весь особняк иллюминован, две тысячи приглашений разосланы высшему обществу Парижа.
Благодаря моим прекрасным манерам и звучному голосу, оцененным по достоинству председателем правления Земельного банка, я смог принять участие в этом пышном празднестве. В течение трех часов я стоял в передней среди цветов и драпировок, величественный, как и все полные люди, одетый в красную с золотом ливрею и впервые в моей жизни – в коротких штанах. Мой голос гремел, как пушечный выстрел, по всей анфиладе пяти гостиных каждый раз, когда я докладывал о новом госте, которого блистательный швейцар приветствовал, в свою очередь, звонким ударом булавы о каменные плиты.
Сколько любопытных наблюдений удалось мне сделать в этот вечер, сколько было острот и забавных шуток, которыми слуги обменивались по адресу проходивших гостей! Уж от виноделов Монбара я не услыхал бы столько занятного. Надо сказать, что досточтимый г-н Барро приказал сначала подать нам всем в буфетной, набитой до потолка замороженными напитками и всякими яствами, основательную закуску, обильно орошенную вином, которая привела каждого из нас в хорошее расположение духа, поддерживавшееся в течение всего вечера бокалами пунша и шампанского, хватаемыми на лету с проносимых мимо подносов.
Хозяева, однако, были, по-видимому, не так хорошо настроены, как мы. Уже в девять часов, заняв свой пост, я был поражен встревоженным, нервозным выражением лица Набоба, который прогуливался с г-ном де Жери по освещенным и еще пустым гостиным, оживленно беседуя и сильно жестикулируя.
– Я его убью, – говорил он. – Я его убью…
Де Жери пытался его успокоить, затем появилась хозяйка дома, и они заговорили о другом.
Великолепная женщина эта левантинка. Вдвое толще меня, она просто ослепительна в своей бриллиантовой диадеме, драгоценностях, отягощающих ее широкие белые плечи; спина у нее такая же круглая, как и грудь, стан затянут в зеленовато-золотую кирасу, спускающуюся длинными остриями вдоль туго накрахмаленной юбки. Ничего более внушительного, более богатого мне еще не доводилось видеть. Она была вроде красивого белого слона с башней на спине, – я о них читал в книгах о путешествиях. Когда она шла, тяжело опираясь на мебель, все тело ее тряслось, украшения звякали, словно железные. Вдобавок тонкий, пронзительный голосок и прекрасное багровое лицо, которое маленький негритенок беспрерывно овевал опахалом из белых перьев, широких, как павлиний хвост.
В первый раз эта ленивая и нелюдимая особа появлялась в парижском обществе, и г-н Жансуле, казалось, был счастлив и горд тем, что она согласилась быть хозяйкой на празднике. Это, впрочем, не слишком обременило его супругу: предоставив мужу принимать приглашенных в первой гостиной, она растянулась на диване в маленьком японском будуаре, утопая между двумя грудами подушек, и застыла в совершенно неподвижной позе… Издали она походила на идола под большим опахалом, которым негр помахивал мерно, будто заведенный. Как, однако, заносчивы эти иностранки!
Меня поразило раздражение Набоба. Завидя его камердинера, который спускался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, я остановил его и, наклонившись к самому уху, шепотом спросил:
– Что случилось с вашим хозяином, господин Ноэль?
– Статья в «Мессаже», – услышал я в ответ.
Больше мне ничего не удалось узнать, так как громкий звонок возвестил о прибытии первого экипажа, за которым вскоре последовало множество других.
Поглощенный своим делом, я старался правильно произносить сообщаемые мне имена, так, чтобы они перелетали из гостиной в гостиную, и не думал более ни о чем. Не такое уж это легкое занятие – докладывать надлежащим образом о людях, воображающих, что их имена должны быть известны всем; они бормочут их мимоходом, не разжимая губ, а потом удивляются, слыша, как вы, старательно выговаривая, коверкаете их, и сердятся на вас за неудавшееся эффектное появление, за улыбочки, вызванные неверно произнесенным именем. Увеличивало мои затруднения обилие иностранцев – турок, египтян, персов, тунисцев. О весьма многочисленных в этот день корсиканцах я уже и не говорю; за четыре года моего пребывания в Земельном банке я научился произносить эти трескучие, длиннющие имена, сопровождающиеся названием местности: «Паганетти из Порто-Веккьо, Бастелика из Бонифаччо, Пайаначи из Барбикальи».
Мне нравилось произносить нараспев эти итальянские слоги, подчеркивать их звучность, и я видел по ошеломленным лицам славных островитян, как приятно они были поражены, что их вводят таким образом в высшее общество континента. Но с турками, со всеми этими пашами, беями, эфенди, мне пришлось туго, и я, очевидно, несколько раз назвал их неверно, потому что г-н Жансуле дважды присылал мне приказание относиться внимательнее к сообщаемым мне фамилиям, а главное, произносить их более естественно. Это замечание, высказанное громко, в присутствии слуг в довольно резкой форме, было мне очень неприятно; должен признаться, что из-за этого я не пожалел толстого выскочку» когда я узнал, какие жестокие шипы пробились в его ложе из роз.
С половины одиннадцатого до полуночи, не переставая, звенел звонок, к подъезду подкатывали экипажи, один за другим появлялись гости: депутаты, сенаторы, государственные советники, муниципальные советники, производившие такое впечатление, словно они шли на собрание акционеров, а не на вечер. Чем это объяснить? Я никак не мог понять, но слова швейцара Никлауса открыли мне глаза.
– Вы замечаете, господин Пассажон, – скавал мне этот достойный слуга, стоя напротив меня с булавой в руке, – вы замечаете, как у нас мало дам?
Да, черт возьми! И не мы одни это заметили. Я слышал, как при появлении каждого нового лица Набоб, стоявшим у дверей, с горестным изумлением восклицал хриплым голосом простуженного марсельца:
– Вы один?
Гость извинялся вполголоса:
– М-м… м-м… м-м… Жена не совсем здорова… К великому сожалению…
Затем приходил другой, и на тот же вопрос следовал тот же ответ.
Слушая без конца это восклицание: «Вы один?»– в передней начали уже потешаться. Рассыльные и выездные лакеи перебрасывались им, когда входил новый гость:
– Один!
И все смеялись, все веселились… Но г-н Никлаус, с его знанием света, находил, что отсутствие женского пола неестественно.
– Это все, видимо, из-за статьи в «Мессаже», – уверял он.
Все говорили об этой наглой статье. У окруженного цветами зеркала, в которое каждый гость смотрелся перед тем, как войти, я улавливал обрывки приглушенных разговоров.
– Вы читали?
– Это ужасно.
– Вы считаете, что это возможно?
– Не знаю. Во всяком случае, я предпочел не брать с собой жену.
– Я тоже… Мужчина может бывать всюду, не компрометируя себя.
– Разумеется. Но женщина…
Затем гости входили в гостиную, с шапокляками под мышкой, с победоносным видом женатых мужчин, не сопровождаемых супругами.
О чем же говорила газета, что это была за страшная статья, угрожавшая влиятельному положению такого богатого человека? К несчастью, мои обязанности связывали меня; я не мог спуститься ни в людскую, ни в гардеробную, чтобы все разузнать, потолковать с кучерами, выездными лакеями, рассыльными, которые стояли внизу у лестницы, язвительно подшучивая над поднимавшимися наверх людьми… Что поделаешь! Господа чересчур важничают… Как не посмеяться при виде проходящего с заносчивой физиономией и пустым желудком маркиза де Буа-Ландри с супругой после всего того, что нам рассказали о его махинациях и ее туалетах! А чета Дженкинсов, такая нежная, такая дружная! Доктор заботливо набрасывает своей спутнице на плечи кружевную мантилью, боясь, как бы она не простудилась на лестнице. Она, улыбающаяся, нарядная, вся в бархате, с длиннейшим шлейфом, опирается на руку мужа, точно говоря: «Мне так хорошо!», – но я-то знаю, что после смерти ирландки, его законной супруги, доктор подумывает, как бы ему избавиться от старой надоеды и жениться на молоденькой, а старая надоеда проводит ночи в отчаянии, разрушая слезами остатки своей красоты.
Забавнее всего, что никто из этих особ не догадывался о лукавых прибаутках, насмешливых замечаниях, пущенных им вслед, о том, сколько грязи подбирали шлейфы их платьев на ковре передней. Они шествовали с такими презрительными минами, что можно было помереть со смеху.
Названные мною две дамы, затем супруга патрона, маленькая корсиканка, которой густые брови, белые зубы и лоснящиеся смуглые щеки придают вид чисто вымытой овернской крестьянки (славная, впрочем, бабенка, и все время смеется, но только не в те минуты, когда ее муж смотрит на других женщин); потом левантинки в золотых или жемчужных диадемах, не столь пышные, как наша, но в том же роде; жены обойщиков, ювелиров, постоянных поставщиков этого дома, с плечами, широкими, как витрины, в туалетах, на которые не пожалели материи; наконец, жены служащих Земельного банка, в жалких платьях и без гроша в кармане, – вот и все представительницы прекрасного пола в этом обществе. Около тридцати дам, затерявшихся среди тысячи черных фраков, – это все равно, как если бы их совсем не было. Время от времени Кассань, Лапорт, Гранварле, бегавшие с подносами, сообщали нам о том, что делается в гостиных.
– Ах, голубчики мои, если б вы видели! У всех лица мрачные, точно на похоронах. Мужчины не отходят от буфетов. Дамы собрались в дальней комнате, уселись в кружок, обмахиваются веерами и не раскрывают рта.
Толстуха – та ни с кем не разговаривает. Похоже, что дрыхнет. А поглядели бы вы на хозяина – какое у него лицо! Ну-ка, дядюшка Пассажон, стаканчик шато-лароэ: он вас подбодрит.
Вся эта молодежь была очень мила со мной; ей доставляло коварное удовольствие знакомить меня с погребом так часто и такими большими порциями, что язык у меня отяжелел и стал заплетаться, – словом, как мне говорили эти молодые люди, изъясняясь несколько вольно: «Дядюшка, вы несете вздор». К счастью, последний из эфенди уже пришел, и не о ком было больше докладывать, а то, как я ни боролся с этим, всякий раз, делая шаг вперед между портьерами, чтобы выкрикнуть громогласно чье-нибудь имя, я видел, как люстры в гостиных начинали вертеться, мелькая тысячами огоньков, а паркет полз то вверх, то вниз, скользкими и прямыми откосами, как американские горы. Да, я, наверно, нес вздор, это ясно.
Свежий ночной воздух и обливания холодной водой у насоса во дворе быстро устранили это легкое недомогание, и, когда я вернулся в гардеробную, от него не осталось и следа. Я нашел там многочисленную веселую компанию вокруг крюшона, в уничтожении которого все мои «племянницы», в полном параде, со взбитыми кудряшками и розовыми бантиками, принимали живейшее участие, – их легкие вскрикивания и очаровательные гримаски никого не вводили в заблуждение. Говорили, разумеется, о пресловутой статье, по-видимому, Моэссара, полной страшных разоблачений, касающихся всевозможных постыдных профессий, якобы испробованных Набобом лет пятнадцать или – двадцать тому назад, во время его первого пребывания в Париже.
Это была уже третья пилюля такого рода, которую «Мессаже» преподнес Набобу за последнюю неделю, и прохвост Моэссар каждый раз злорадно посылал номер газеты бандеролью на Вандомскую площадь.
Г-н Жансуле получал эти подношения по утрам вместе с чашкой шоколада, и в тот же час его друзья и враги – ведь такой человек, как Набоб, никому не может быть безразличен – читали, комментировали, намечали линию поведения по отношению к нему, боясь скомпрометировать себя. Надо думать, что последняя статья была все же ловко состряпана, потому что Жансуле, кучер, рассказал нам, что сегодня в Булонском лесу его хозяин почти ни с кем не обменялся приветствием, хотя объехал десять раз вокруг озера, тогда как обычно шляпа остается у него на голове не дольше, чем у монарха во время прогулки. А потом, когда они вернулись, произошла еще одна история. Три его мальчугана пришли домой растерянные, в слезах; их привел из коллежа Бурдалу один из патеров в интересах самих же малышей, временно отпущенных для того, чтобы им не пришлось ненароком услышать в приемной или на школьном дворе каких-нибудь злых толков или оскорбительных намеков. Это привело Набоба в такую ярость, что он расколотил вдребезги фарфоровый сервиз, и, говорят, что, если бы не г-н де Жери, он тут же отправился бы к Моэссару и размозжил ему голову.
– И хорошо бы сделал, – сказал г-н Ноэль, вошедший при последних словах, тоже сильно возбужденный. – В статье этого жулика нет ни одной строчки правды. До прошлого года мой хозяин никогда не бывал в Париже. Из Туниса в Марсель, из Марселя в Тунис – вот и все его путешествия. Но этот паршивый газетчик мстит нам за то, что мы не дали ему двадцать тысяч франков.
– Вы сделали большую ошибку, – заметил г-н Франсис, монпавоновский Франсис, старый щеголь, у которого всего один зуб во рту, да и тот шатается при каждом его слове, что не мешает девицам относиться к обладателю единственного зуба весьма благосклонно из-за его прекрасных манер. – Да, большую ошибку. Надо уметь обходиться с людьми, покуда они способны либо служить нам, либо вредить. Ваш Набоб слишком быстро повернул спину друзьям после своего успеха. Между нами говоря, дорогой мой, он не настолько силен, чтобы позволять себе подобные выходки.
Я тоже счел уместным вставить словечко:
– Это верно, господин Ноэль: вашего хозяина после избрания точно подменили. Он усвоил себе такой тон, такие манеры!.. Позавчера в Земельном банке он нас так переполошил, что вы себе и представить не можете! Мы слыхали, как он кричал на весь совет: «Вы меня обманули! Вы меня обокрали и сделали таким же вором, как вы сами!.. Покажите-ка мне ваши книги, пройдохи вы втакие!» Если он так же обращался с Мовссаром, то меня не удивляет, что Мовссар мстит ему в своей газете.
– О чем же в конце концов говорится в этой статье? – спросил г-н Барро. – Кто ее читал?
Никто ему не ответил. Многие хотели купить газету, но в Париже скандальные новости раскупаются, как хлеб. В десять часов утра уже нельзя было достать ни одного номера «Мессаже». Тут одной из моих «племянниц», весьма дошлой девице, пришла в голову мысль порыться в карманах одного из многочисленных пальто, заполнявших гардеробную ровными рядами на вешалках.
– Вот! – торжествующе заявила милая девушка, вытаскивая из первого же кармана, куда она засунула руку, смятый номер «Мессаже»; видно было, что его только что читали.
– А вот еще! – воскликнул Том Буа-Ландри, который тоже принял участие в поисках.
Третий карман – третий вкэемпляр. Во всех пальто одно и то же: засунутая поглубже или, наоборот, вылезающая наружу, газета; было ясно, что статья у всех в памяти. Представляете себе? Там, наверху, Набоб обменивается любезными фразами с гостями, которые могли бы пересказать ему наизусть все гадости, напечатанные про него. Эта картина нас всех очень насмешила. Нам самим не терпелось познакомиться с этой любопытной страничкой.
– А ну-ка, дядюшка Пассажон, прочитайте нам ее вслух.
Раз таково было общее желание, я подчинился ему.
Так же ли это получается у вас, не знаю, но только, когда я читаю вслух, я даю волю своему голосу, и в нем появляются такие оттенки, такие переливы, что я сам перестаю понимать, что произношу, на манер тех певцов, которым безразличен смысл слов, лишь бы была взята верная нота…
Статья была озаглавлена «Корабль цветов»… Какая – то запутанная история с китайскими именами, где шла речь о богатом мандарине, который недавно был возведен в первый ранг, а в прошлом содержал на краю города, у самой заставы, «корабль цветов», охотно посещавшийся военными. Дочитав статью до конца, мы были так же мало осведомлены, как и до начала чтения. Некоторые, как полагается, пытались подмигивать, хитро усмехаться, но, по правде говоря, повода для этого не было. Ребус без картинок. И мы все так бы и остались в дураках, если бы старина Франсис не объяснил нам, – чего только не знает этот бесстыдник! – что застава с военными означает военную школу, а «корабль цветов» на языке французского простонародья имеет другое, совсем не столь красивое название. И он произнес его вслух, несмотря на присутствие дам… Какой взрыв возмущения, какое тут пошло аханье, оханье! Одни заявляли:
– Так я и думал!
Другие:
– Не может этого быть!
– Позвольте, – снова вмешался Франсис, бывший трубач Девятого уланского полка, где когда-то служили Мора и Монпавон, – позвольте… Лет двадцать тому назад, когда я отбывал в армии последние полгода, мы стояли в казармах в военной школе, и я отлично помню, что возле заставы было грязное заведение под названием «Балы Жансуле», с маленькими меблирашками наверху и комнатами по пять су за час, куда заходили между двумя кадрилями…
– Вы бессовестный лгун, – вскричал вне себя г-н Ноэль, – жулик и лгун, как и ваш хозяин! Жансуле никогда раньше не жил в Париже.
Франсис сидел поодаль от того круга, который мы образовали вокруг крюшона; он потягивал сладкое винцо, потому что шампанское действует ему на нервы, и к тому же это недостаточно шикарный напиток. Он встал с важным видом, держа в руке бокал, и, подойдя к г-ну Ноэлю, хладнокровно заметил:
– Вы не умеете себя держать, дорогой мой. Уже на прошлом вечере у вас взятый вами тон показался мне грубым и непристойным. В оскорблениях мало толку, тем более что я помощник фехтмейстера, и если бы дело зашло у нас далеко, я мог бы всадить два дюйма стали в любое место вашего тела на выбор. Но я человек не злой. Вместо удара шпагой я предпочитаю дать вам совет, которым ваш хозяин может воспользоваться. Вот что я сделал бы на вашем месте: разыскал бы Моэссара и купил бы его, не торгуясь. Эмерленг дал ему двадцать тысяч, чтобы он заговорил, – я бы предложил ему тридцать тысяч за то, чтобы он замолчал.
– Никогда!.. Ни за что!.. – завопил г-н Ноэль. – Лучше я оторву голову этому подлому бандиту!
– Ничего вы не оторвете. Есть в этой клевете доля истины или нет, вы видели сегодня результат. Это лишь образчик тех прелестей, которые вас ожидают. Чего вы хотите, дорогой мой? Вы слишком рано отбросили костыли и попробовали ходить самостоятельно. Хорошо, если вы стоите прямо и крепко на ногах, но раз вы ступаете не совсем уверенно и раз по пятам за вами, на вашу беду, следует Эмерленг, дело плохо… Кроме того, вашему хозяину начинает не хватать денег: он выдал векселя старому Швальбаху, а что это за Набоб, который выдает векселя? Я знаю, что у вас там осталась куча миллионов, но чтобы получить их, надо, чтобы были утверждены ваши депутатские полномочия, а еще несколько статеек вроде сегодняшней – и я ручаюсь, что вам этого уже не добиться… Вы думаете, что можете помериться силами с Парижем, милый мой, но вам это не по плечу, вы ничего в этих делах не смыслите. Здесь у нас не Восток, и если людям, не угодившим нам, не сворачивают шею, не бросают их в воду в кожаном мешке, то существует много других способов стереть их с лица земли. Советую вашему хозяину быть осторожнее, Ноэль… В одно прекрасное утро Париж проглотит его, как я глотаю вот эту сливу, не выплевывая ни косточки, ни кожуры!