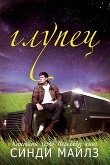Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Набоб, Моннавон, префект и один из генералов сели в первую из этих карет, остальные разместились во второй и в других, следовавших за ними экипажах. Священники и мэры, вдохновленные всей этой пышностью, поспешили стать во главе хоровых кружков своих приходов – певчие должны были идти впереди. Все пришло в движение по дороге в Жиффас.
Стояла прекрасная погода, только очень жаркая, наступившая на три месяца раньше положенного ей срока, что нередко случается в этом знойном крае, где буйная природа всегда спешит, где все зреет раньше времени. Хотя не видно было ни одного облачка, но неподвижность воздуха, ветер, внезапно улегшийся, как спущенный парус, ослепительное, словно раскаленное добела небо, безмолвная торжественность пейзажа – все говорило о том, что где-то, в каком-то уголке горизонта собирается гроза. Оцепенение, в котором пребывала природа, мало-помалу передалось и живым существам. Слышались только звон бубенчиков на мулах, двигавшихся медленной иноходью, и тяжелая, ритмичная поступь шагавших по хрустящей пыли певчих, которых Кардальяк расставил группами на некотором расстоянии одна от другой, и время от времени в гудевшей двойной изгороди, окаймлявшей уходившую в бесконечную даль дорогу, раздавались возгласы, детский гомон или крики продавцов свежей воды – постоянных спутников всех южных праздников под открытым небом.
– Да опустите же окно, генерал, ведь дышать невозможно! – проговорил, весь красный, Монпавон, опасавшийся за свои румяна.
Когда опустили окна, толпа улицезрела сановников, отиравших платками преисполненные величия, налитые кровью лица, встревоженных ожиданием бея, ожиданием грозы, ожиданием чего-то необыкновенного.
Еще одна триумфальная арка, а за ней Жиффас с его длинной, вымощенной крупным булыжником улицей, устланной пальмовыми ветками; грязные, ветхие домишки были украшены цветами и пестрыми тканями. В стороне от деревни белый прямоугольный вокзал, брошенный, как игральная кость, на краю дороги, типичный маленький деревенский вокзал, затерянный среди виноградных лоз, с единственным, всегда пустым залом для пассажиров, где изредка увидишь в углу старуху с узлами, пришедшую за три часа до отхода поезда.
В честь бея вокзал был убран знаменами, флагами, коврами, заставлен диванами, в нем был устроен роскошный буфет с закусками и шербетами, приготовленными для его высочества.
Набоб, выйдя из кареты, почувствовал, что безотчетная тревога, с некоторых пор овладевшая им, так же как и всеми остальными, понемногу рассеивается. Префекты, генералы и депутаты в черных фраках и расшитых золотом мундирах стояли группами на широкой платформе, величественные и торжественные, выпятив губы, покачиваясь на одном месте, многозначительно вскидывая голову, как это делают власть имущие, чувствующие, что на них устремлены все взгляды. Можете себе представить, как давили друг друга зеваки, прижав носы к окнам вокзала, чтобы поглазеть на расшитые мундиры сановников, на манишку Монпавона, вздымавшуюся, точно свежевзбитый яичный белок, на Кардальяка, который, запыхавшись, отдавал последние приказания, на добродушную физиономию Жансуле, их Жансуле! Его глаза, сверкавшие между загорелыми полными щеками, казались двумя большими золочеными гвоздями в складках кордовского сафьяна. Вдруг раздались звонки. Багроволицый начальник станции выбежал на полотно.
– Господа! – крикнул он. – Поезд вышел с соседней станции. Через восемь минут он прибудет сюда.
Все вздрогнули. Потом инстинктивно все, как один человек, вынули часы из жилетных карманов. Оставалось только шесть минут.
– Посмотрите туда! – нарушил кто-то всеобщее молчание.
Направо, с той стороны, откуда должен был появиться поезд, два высоких холма, сплошь усаженные виноградными лозами, образовали воронку, в которую спускался железнодорожный путь, исчезая из виду, словно падая в нее. Дали, омраченные огромной низкой тучей, стали иссиня-черными. Туча темной полосой прорезала небесную синеву, вздымались валы клубившихся облаков, похожих на гребни базальтовых скал, на которых, как лунные блики, мелькали потускневшие солнечные лучи. Все выстроились рядами вдоль безлюдного железнодорожного полотна и замерли в торжественном безмолвии, готовясь к приезду бея. А грозный воздушный утес все надвигался, бросая перед собой тени с такой игрой света, которая придавала туче плавное и величественное движение, а ее тени – быстроту несущегося галопом коня. «Какая сейчас разразится гроза!» Эта мысль возникла у всех, но никто еще не успел ее выразить, как раздался пронзительный свисток и из глубины темной воронки показался поезд. Настоящий королевский поезд, быстрый и короткий, украшенный французскими и тунисскими флагами. На переднем щите дымящего и рычащего паровоза, как на груди подружки невесты на свадьбе Левиафана, красовался букет роз.
Несшийся на всех парах поезд, приблизившись к станции, замедлил ход. Чиновники приосанились; они проверяли, на месте ли у них шпаги, поправляли крахмальные воротнички, а Набоб с заискивающей улыбкой шел вдоль полотна навстречу поезду, уже согнув спину для приветствия «салем алек». Поезд шел медленно, и Жансуле, думая, что он сейчас остановится, положил руку на дверцу королевского вагона, сверкавшего золотом на фоне черного неба. Однако поезд, набравший, по-видимому, слишком большую скорость, продолжал двигаться. Набоб, идя рядом с ним, одной рукой старался открыть проклятую дверцу, которая не поддавалась, а другою делал знаки машинисту остановиться. Но тот не повиновался.
– Да остановите же наконец!
Поезд не останавливался. В нетерпении Набоб вскочил на обитую бархатом подножку и с той дерзкой горячностью, которая так нравилась покойному бею, прильнув к окну вагона своей большой курчавой головой, крикнул:
– Станция Сен-Роман, ваше высочество!
Кому не знаком тот расплывчатый свет, какой бывает в сновидении, та пустая, бесцветная атмосфера, в которой все предметы кажутся призраками? Жансуле внезапно оказался охвачен ею, окутан, парализован. Он хотел что-то сказать, но не находил слов; его руки так ослабели, что он чуть не потерял точку опоры и не упал навзничь. Что же такое он увидел? Полулежа на диване в глубине салон-вагона, подперев рукой красивую, смуглую голову с черной шелковистой бородой, в восточном, наглухо застегнутом сюртуке, без всяких украшений, кроме ордена Почетного легиона на широкой ленте через плечо и бриллиантового султана на шапке, бей бесстрастно обмахивался маленьким плетеным опахалом, вышитым золотом. Подле него стояли два адъютанта и инженер железнодорожной компании. Напротив, на другом диване, сидели два филина – один жирный, другой тощий – в почтительной позе, но явно в привилегированном положении, ибо только они сидели в присутствии бея, – оба желтые, с длинными бакенбардами, спускавшимися на белые галстуки. Это были Эмерленги, отец и сын, вновь вавоевавшие благосклонность его высочества; они, торжествуя, везли его в Париж. Страшный сон!.. Все эти люди, прекрасно знавшие Жансуле, холодно смотрели на него, словно видели его впервые в жизни. Смертельно побледнев, с каплями холодного пота на лбу, Жансуле невнятно пробормотал:
– Ваше высочество! Вы разве не думаете сойти?..
Вспышка молнии, подобная взмаху сабли, сопровождаемая страшными раскатами грома, заставила его умолкнуть. Но молния, сверкнувшая в глазах бея, показалась ему еще страшнее. Поднявшись с дивана, вытянув руку, с гортанным выговором, свойственным арабам, но на чистейшем французском языке бей медленно произнес несколько заранее подготовленных, уничтожающих слов:
– Иди домой, торгаш! Нога идет туда, куда ведет ее сердце, – моя нога никогда не вступят в дом человека, ограбившего мою родину.
Жансуле хотел вымолвить слово, но бей сделал знак: «Едем!». Инженер нажал кнопку влектрического звонка, звонку ответил свисток паровоза, и поезд, перед тем лишь замедливший движение, напряг свои стальные мускулы так, что они затрещали, и пошел полным ходом, с развевающимися под напором предгрозового ветра флагами, среди столбов черного дыма и зловещих вспышек молнии.
Набоб стоял на железной дороге, шатаясь, точно пьяный, в полной растерянности и смотрел, как убегает и исчезает из виду его счастье, не чувствуя, что крупные капли дождя начали падать на его обнаженную голову. Все бросились к нему, окружили, засыпали вопросами:
– Значит, бей не остановится?
Жансуле пробормотал несколько бессвязных слов:
– Дворцовые интриги… Гнусные козни…
И внезапно, с налитыми кровью главами, с пеной у рта, показав кулак исчезавшему вдали поезду, проревел, как дикий зверь:
– Канальи! Прохвосты!
– Соблюдайте приличия, Жансуле, соблюдайте приличия…
Вы, конечно, догадываетесь, кто произнес эти слова и кто, взяв Набоба под руку, старался заставить его выпрямиться и выпятить грудь по своему образцу, потом повел его к экипажам среди остолбеневших чиновников в шитых золотом мундирах и усадил в коляску, уничтоженного, подавленного, как бывает подавлен близкий родственник усопшего, когда его сажают в траурную карету после погребальной церемонии. Хлынул дождь, раскаты грома следовали один за другим непрерывно. Все торопливо уселись в экипажи и двинулись в обратный путь. И тут произошло нечто прискорбное и вместе с тем комическое; разыгрался один из тех жестоких фарсов коварной судьбы, которая наносит удары поверженной в прах жертве. В набегающих сумерках, в нарастающей темноте урагана толпе, теснившейся у входа в вокзал, почудилось, что среди этих шитых золотом мундиров присутствует и его высочество, и как только экипажи двинулись, раздались оглушительные крики, невероятный рев, уже более часа сдерживаемый в груди скопившихся здесь людей, – разразился, поднялся, полетел, понесся с холма на холм и эхом отдался в долине:
– Да здравствует бей!
Как по сигналу, загремели первые фанфары, хоровые кружки присоединились к ним, шум постепенно распространился от Жиффаса до Сен-Романа, дорога превратилась в непрерывно гудящую людскую волну.
Кардальяк, все важные господа и сам Жансуле, высунувшись из окон карет, тщетно пытались знаками прекратить этот вой:
– Довольно, довольно!..
Жесты их терялись в страшной сутолоке и наступившей темноте, а то, что толпе удавалось разглядеть, еще сильней побуждало ее к оглушительным крикам. Но, клянусь вам, в таком поощрении вовсе не было надобности. Все эти южане, энтузиазм которых подогревался с самого утра, взвинченные к тому же грозой и усталостью от долгого ожидания, не жалея голосовых связок и легких, в бурном восторге распевали гимн Прованса, все время повторяя, как припев к нему, возглас:
– Да здравствует бей!
Большинство даже не знало, что такое «бей» и как он должен выглядеть, но все с необычайным старанием выкрикивали это незнакомое им слово – так отчетливо, как если бы в нем было три «б» и десять «й». Оно воодушевляло их, они поднимали руки, махали шапками, возбуждаясь от собственной жестикуляции. Женщины в умилении вытирали себе глаза. Вдруг с высокого вяза раздался пронзительный детский крик:
– Mama, mama, lou vise! (Мама, мама, я его вижу!)
Ребенок его увидел!.. Впрочем, его видели все, все поклялись бы, что видели его.
При таком возбуждении, при полной невозможности успокоить толпу, заставить ее умолкнуть людям, сидевшим в каретах, оставалось одно: предоставить все своему течению, поднять окна и понестись вскачь, чтобы сократить эту пытку. И тут наступило самое страшное. Видя, что лошади понеслись рысью, вся толпа, сгрудившаяся на дороге, припустилась за экипажами. Под глухой грохот тамбуринов барбантанские фарандолисты, взявшись за руки, живой гирляндой обвивали кареты. Члены хоровых кружков, запыхавшись от пения при таком беге, все же продолжали завывать, увлекая за собой знаменосца, несшего знамя на плече. Толстые краснолицые кюре, едва переводя дух и выпячивая свои туго набитые животы, еще находили в себе силы, чтобы, пригнувшись к уху мула,'кричать полным восторга и особой нежности голосом:
– Да здравствует наш добрый бей!
А дождь шел не переставая, лил как из ведра, струился потоками, смывая краску с розовых карет, еще усиливая давку, придавая этому триумфальному возвращению вид бегства с поля битвы, но бегства комического, при котором смех и звонкие поцелуи звучат вперемешку со смачными ругательствами и проклятиями, напоминая возвращение церковной процессии в разгар грозы, когда бегут с подоткнутыми сутанами, накрыв голову стихарями, в спешке засунув «тело господне» куда-нибудь под навес.
Глухой и мягкий стук колес возвестил бедному Набобу, безмолвному и неподвижному, забившемуся в угол кареты, что они проезжают по мосту. Процессия приближалась к замку.
– Наконец-то! – сказал он, глядя сквозь помутневшие стекла на пенящиеся волны Роны.
Бушевавшая на ней буря показалась ему отдыхом после той, которую он только что пережил. Но вдруг в конце моста, когда первая карета достигла триумфальной арки, взлетели ракеты, барабаны забили встречу, приветствуя прибытие монарха во владения своего верного вассала. И в довершение всего в сгустившемся сумраке внезапно вспыхнувшее над замком гигантское газовое пламя осветило верхнюю часть огненных букв, которые, несмотря на набежавшие на них от дождя и порывов ветра тени, складывались с достаточной ясностью в обрывки слов: «Да здр… ствует б…Й М…мед!»
– Это уже предел, – прошептал несчастный Набоб, будучи не в силах удержаться от смеха – жалобного и горького.
Но нет, он ошибался: ему предстояло еще одно испытание. Ами Фера с цветами вышла ему навстречу, отделившись от группы арлезианок, которые, поджидая первую карету, укрывались под навесом из боязни испортить переливчатые шелка своих юбок и узорчатый бархат чепцов. С букетом в руке, скромно потупив глазки, кокетливо выставляя ножку, хорошенькая актриса бросилась к дверцам кареты и застыла в смиренной, почти что коленопреклоненной позе, которую она изучала уже целую неделю. Но вместо бея из кареты вышел Набоб, злой, взволнованный, и прошел, даже не бросив на нее взгляда. А она осталась на месте с букетом в руке, оторопев, словно после провалившейся феерии.
– Убери свои цветы, крошка, твое дело не выгорело, – шутливо заметил ей Кардальяк, который, как истый парижанин, быстро примирился с создавшимся положением. – Бей не приедет… Он позабыл свой носовой платок, а так как, сама понимаешь, без платка он не может говорить с дамами…
Наступила ночь. Все спит в Сен-Романе после страшной дневной суматохи. Ливень продолжается, в огромном парке смутно виднеются размокшие остовы триумфальных арок и древки знамен, слышно* как несутся целые потоки по каменным ступеням, образуя водопады. Вода льется ручьями, стекает струйками. Повсюду шум воды, ужасающий шум воды. Один в своей роскошной спальне с царским ложем, обтянутым узорчатым китайским шелком, с красным бордюром, Набоб еще бодрствует; он ходит большими шагами взад и вперед, поглощенный мрачными думами. Сейчас уже не перенесенное только что унижение тревожит его, не публичное оскорбление перед лицом тридцати тысяч человек, не кровная обида, нанесенная ему беем в присутствии его смертельных врагов. Нет, этот южанин с чисто материальным подходом к вещам, у которого чувства сменяются с такой же быстротой, с какой стреляет новое ружье, уже подавил в себе злобу к своим недругам. А кроме того, придворные фавориты научились быть всегда готовыми к внезапной опале. Его страшит, что таится за этим оскорблением. Его терзает мысль, что все его богатства – дома, конторы, корабли – оставлены на милость бея, в восточной стране, где царят беззаконие и полный произвол владыки. И, прижав свой пылающий лоб к стеклу, по которому струится дождь, весь в поту, с похолодевшими руками, он вглядывается в темноту ночи, столь же мрачную и непроницаемую, как его собственная судьба.
Вдруг слышатся шаги, затем настойчивый стук в дверь.
– Кто там?
– Господин Жансуле! – говорит, входя, полуодетый Новль. – Вам срочная депеша, доставленная с телеграфа нарочным.
– Депеша? Что еще случилось!
Он берет голубой листочек и раскрывает его дрожащими руками. Божество, испытавшее укол уже два раза, начинает чувствовать себя уязвимым, теряет уверенность в себе; оно, как и прочие смертные, изведало страх и пляску нервов. Скорей посмотреть на подпись… «Мора»! Не может быть! Герцог, сам герцог телеграфирует ему! Да, это так: «М-О-Р-А»…
В телеграмме было написано:
«Пополаска умер. В Корсике объявлены новые выборы. Вы официальный кандидат».
Депутат! В этом спасение. Значит, бояться нечего. С представителем великой французской нации не обращаются как с простым «торгашом». Попалась, господа Эмерленги!
«О герцог, благородный герцог!»
Он был так взволнован, что не мог расписаться.
– Где человек, который принес депешу? – спросил он.
– Я здесь, господин Жансуле, – с добродушным знакомым ему акцентом южанина ответил ему голос из коридора.
Ему повезло, этому сельскому письмоносцу!
Отдавая ему расписку, Набоб вынул из карманов, всегда полных денег, столько золотых монет, сколько могли вместить обе его руки, и бросил их в фуражку бедного малого, что-то бормотавшего, ошеломленного, ослепленного богатством, которым его так неожиданно наградила судьба в этом волшебном дворце, погруженном в мрак.
XII. ВЫБОРЫ ПО-КОРСИКАНСКИ
Поццонегро, через Сартену.
«Наконец-то, дорогой господин Жуайез, у меня есть возможность написать Вам несколько слов. За те пять дней, что мы на Корсике, мы столько колесили по дорогам, столько ораторствовали, так часто меняли экипажи, столько ездили верхом, то на лошаках, то на ослах или даже на человеческих спинах, чтобы перебраться через горные потоки, столько написали писем, поддержали ходатайств, посетили школ, столько раз давали деньги на церковные облачения и на престольные покровы, на восстановление расшатанных колоколен, столько основали детских приютов, заложили столько зданий и памятников, провозгласили столько тостов, выслушали столько речей, выпили столько таланского вина и съели столько творожного сыра, что у меня не было времени послать сердечный привет маленькому семейному кружку за большим столом, где мое место пустует вот уже две недели. К счастью, мое отсутствие будет теперь уже недолгим, так как мы рассчитываем послезавтра отсюда уехать и прямым путем вернуться в Париж. Что касается выборов, мне кажется, что поездка наша оказалась удачной. Корсика – замечательная страна, где царят лень и бедность, где гордость уживается с нуждой, где дворянские и буржуазные семьи стараются поддержать видимость достатка ценою самых тяжких лишений. Здесь говорят серьезно о «богатстве» Пополаски, этого бедняка депутата, который, умерев, потерял сто тысяч франков, обещанных ему Набобом за отказ от депутатского кресла. Вдобавок все эти люди одержимы страстью к официальным должностям, своего рода административным восторгам, потребностью во что бы то ни стало надеть на себя мундир и плоскую фуражку с чиновничьей кокардой. Если вы предложите корсиканскому крестьянину на выбор богатейшую ферму в плодороднейшей французской области или самую скромную перевязь, присваиваемую сельским стражникам, он, ни минуты не колеблясь, отдаст предпочтение перевязи. При таком положении вещей, как Вы сами понимаете, кандидат, обладающий большими средствами и пользующийся поддержкой правительства, имеет все шансы на успех. Поэтому господин Жансуле добьется избрания, особенно если закончатся благополучно переговоры, которые он сейчас ведет и которые привлекли нас сюда, в единственную гостиницу местечка, именующегося Поццонегро (что значит Черный колодец). Это действительно настоящий колодец, совершенно черный от густой зелени, с пятьюдесятью домишками из красочного камня, которые жмутся друг к другу вокруг высокой колокольни в итальянском стиле, в глубине ложбины, окруженной круты ми холмами и утесами из разноцветного песчаника, покрытыми густыми лиственничными лесами и зарослями можжевельника. Из открытого окна, сидя у которого я пишу, виден лоскут голубого неба, похожий на отверстие черного колодца. Внизу, на маленькой площади, затененной огромным орешником – как будто бы и без него тени здесь недостаточно, – два пастуха в козьих шкурах играют в карты, прислонившись к камню, из которого бежит источник. Игра – болезнь этой родины лени, где для сбора урожая нанимают батраков из Лукки. У бедняков, которых я сейчас лицезрю, нет ни гроша в кармане: один играет на ножик, другой на творожный сыр, обернутый виноградными листьями. Обе эти ставки лежат на скамье рядом с игроками. Невзрачный кюре курит сигару, глядит на картежников и, по-видимому, с интересом следит за игрой.
Больше ничего не видно вокруг. Тишину прерывает лишь вода родника, стекающая в каменный водоем, и восклицания то того, то другого из игроков, которые клянутся «святыми заступниками», да еще из кабачка, расположенного под моей комнатой, доносятся приветливый голос нашего друга и бормотанье великого Паганетти, служившего переводчиком г-ну Жансуле в его беседе с не менее великим Пьедигриджо.
Г-н Пьедигриджо (Серая нога) – местная знаменитость! Это высокий семидесятипятилетний старик, еще совершенно прямой, в коротком непромокаемом плане, на который ниспадает его длинная белая борода, го седую голову прикрывает каталонский колпак из коричневой шерсти; на поясе болтаются ножницы, которыми он крошит прямо на ладони большие зеленые листья табака. В общем, у него весьма почтенный вид, и когда он, переходя площадь, обменялся рукопожатием с кюре и с покровительственной улыбкой посмотрел на игроков, я бы никогда не поверил, что это знаменитый бандит Пьедигриджо, который с 1840 по 1860 год грабил в лесах Монте Ротондо и вконец замучил таможенный кордон и жандармов. Получив амнистию за давностью преступлений, он теперь спокойно разгуливает по всей округе, где он с помощью огнестрельного и холодного оружия убил несколько человек, и пользуется значительным влиянием. И вот почему: у Пьедигриджо есть два сына, которые идут по стопам достойного родителя – не выпускают из рук ружья и тоже разбойничают в лесах. Сыновей так же невозможно выследить и поймать, как в течение двадцати лет невозможно было справиться с их отцом. Пастухи предупреждают их о малейшем передвижении жандармов, которым стоит только выйти из какой-нибудь деревушки, чтобы бандиты тотчас же там появились. Старший, Шипионе, в прошлое воскресенье присутствовал на обеде в Поццонегро. Сказать, что их любят, что пожатие кровавой руки этих мерзавцев доставляет кому-нибудь удовольствие, значило бы оклеветать мирных обитателей этой общины, но их боятся, их воля для всех – закон.
И вот, оказывается, семейству Пьедигриджо взбрело на ум оказать поддержку на выборах нашему конкуренту – это мощное покровительство может заставить два кантона голосовать против нас: ведь эти негодяи так же быстро бегают, как и метко стреляют. Жандармы, конечно, за нас, но у бандитов больше силы. Как сказал нам сегодня утром хозяин гостиницы, «жандармы уходят, a banditi всегда тут». Исходя из столь логичного рассуждения, мы решили, что остается одно: договориться с «Серыми ногами», подкупить их. Мэр шепнул пару слов старику, тот посоветовался с сыновьями, и сейчас внизу обсуждаются условия сделки. Из моей комнаты я слышу голос Паганетти: «Брось, дорогой приятель, ты же знаешь: я сам старый корсиканец…» А затем – спокойные, отрывистые ответы бандита, сопровождаемые раздражающим лязганьем ножниц, которыми он крошит свой табак. «Дорогой приятель», по-моему, не очень-то доверяет словам своего собеседника, и, пока золотые монеты не будут выложены на стол, дело, я думаю, не сдвинется с места.
Вся беда в том, что Паганетти хорошо знают на его родине. О том, чего стоят его слова, свидетельствуют площадь Корте, все еще дожидающаяся памятника генералу Паоли, огромные поля, которые он собирался засадить морковью, несмотря на каменистую, как на острове Итака, почву,[35]35
Остров Итака – родина Одиссея, о которой у Гомера сказано («Одиссея», IX, 27):
Почва на ней камениста, но юношей крепких питает…
(Перевод В. Вересаева.)
[Закрыть] тощие, дырявые кошельки всех этих бедных деревенских кюре, мелких буржуа и захудалых аристократов, чьи скудные сбережения он сумел вытянуть, ослепляя владельцев фантастическими combinazione. Для того, чтобы дерзнуть здесь показаться, нужен был весь его изумительный апломб, а также средства, которыми он сейчас располагает: их оказалось достаточно, чтобы зажать всем рты.
Итак, что же мы имеем на деле из всех сказочных предприятий Земельного банка?
Ничего!
Рудники, которые не разрабатываются и никогда не будут разрабатываться, потому, что они существуют только на бумаге; каменоломни, которые еще не видели ни кирки, ни пороха; бесплодные песчаные пустыри, на которые Паганетти указывает широким жестом. «Мы начнем отсюда… – говорит он. – А закончим вон там, далеко…» Что касается леса, то весь лесистый склон Мойте Ротондо как будто бы действительно принадлежит нам, но рубка леса там невозможна, если только воздухоплаватели не примут на себя обязанностей дровосеков. Не лучше дело обстоит и с курортами. Из них самый значительный – несчастная деревушка Поццонегро с железистым источником, целебные свойства которого неустанно восхваляет Паганетти. Пароходов нет и в помине, хотя над плотно запертым входом в старую полуразрушенную генуэзскую башню, расположенную на берегу залива Аяччо, и красуется надпись на металлической дощечке с облезшей позолотой: «Агентство Паганетти. Мореходная компания. Справочное бюро». Увы, жирные серые ящерицы да сова заведуют этим агентством! Что же касается железных дорог, то славные корсиканцы, когда я касался этого вопроса, лукаво улыбались, подмигивали и отвечали весьма таинственными намеками. Только сегодня утром я получил курьезное объяснение этих недомолвок.
Среди бумажек, которыми патрон время от времени машет, как веером, перед нашими глазами, чтобы придать убедительность своему краснобайству, я нашел купчую на мраморную каменоломню в местности, называемой Таверна, в двух часах ходьбы от Поццонегро. Пользуясь нашим пребыванием в этой деревне, я сегодня утром, не сказав никому ни слова, взобрался на мула и в сопровождении долговязого пройдохи с длинными, как у оленя, ногами, типичного корсиканского браконьера или контрабандиста, с большой красной трубкой в зубах и с ружьем на перевязи, отправился в Таверну. По трудной дороге, через скалы с глубокими расщелинами, одолевая страшные рытвины и бездонные пропасти, по самым краям которых, словно насмешливо очерчивая их своими копытами, осторожно ступал мой мул, мы добрались по почти отвесному спуску до цели нашего путешествия. Перед нами расстилались совершенно голые, пустынные утесы, побелевшие от помета чаек и других морских птиц. Море было внизу совсем близко, безмолвие нарушалось лишь прибоем и пронзительными криками птичьих стай, круживших в воздухе. Мой проводник, испытывающий священный трепет перед таможенниками и жандармами, остался на вершине утеса, потому что у самого берега моря находился маленький таможенный пост, а я направился к возвышавшемуся в этой уединенной знойной местности большому красному четырехэтажному зданию, с разбитыми стеклами, развалившейся черепичной крышей и огромной вывеской на источенной древоточцем двери: «Земельный банк… мрам… кам… 54». Северный ветер, солнце и дождь стерли остальное.
Несомненно, здесь были начаты разработки; об этом свидетельствовала большая четырехугольная яма, обнажавшая, словно пятна проказы, красные пласты в коричневых прожилках, а в самой глубине, между терновником, огромные глыбы мрамора, носящего в торговле название griotte. Однако мрамор оставался неиспользованным из-за отсутствия хорошей дороги, которая вела бы к каменоломне, или порта, удобного для причала к этому берегу грузовых судов, и прежде всего за неимением значительных денежных средств, необходимых для осуществления первого или второго из этих начинаний. Поэтому каменоломня остается заброшенной в нескольких сотнях метров от берега вследствие своего злосчастного местонахождения, обременительная и бесполезная, как лодка Робинзона. Подробности печального положения нашего единственного заключенного в земле богатства сообщил мне стучавший зубами от лихорадки несчастный надсмотрщик, которого я отыскал в полуподвальном помещении красного дома, где он пытался поджарить себе кусок козлятины на едком дыме чуть тлевшего мастикового кустарника.
Этот человек, являющийся единственным служащим Земельного банка на Корсике, – муж кормилицы Паганетти; в прошлом он был смотрителем маяка, и потому одиночество его не тяготит. Патрон держит его отчасти из милости, отчасти потому, что получаемые время от времени письма с пометкой «Тавернская каменоломня» производят на акционеров впечатление. Мне стоило большого труда добиться кое-каких сведений от этого почти совсем одичавшего субъекта, с недоверием смотревшего на меня из-под козьей шкуры своего реопе. Все же, сам того не желая, он разъяснил мне, что корсиканцы разумеют под словами «железная дорога» и почему, говоря о ней, они принимают такой таинственный вид. Когда я пытался узнать у него, что ему известно о постройке железной дороги в этой стране, старик без лукавой усмешки, появлявшейся в таких случаях на лицах его земляков, своим хриплым голосом, скрипучим, как ржавый замок, которым не часто пользуются, вполне откровенно ответил мне на довольно чистом французском языке:
– О, мусью, нам здесь не нужно железной дороги!
– Как так? Ведь это же превосходно, удобно, это так облегчает передвижение….
– Спору нет, штука хорошая, а только нам вполне хватит жандармов…
– Жандармов?
– Ну, конечно…
Недоразумение длилось по крайней мере пять минут, пока я в конце концов не понял, что тайная полиция здесь именуется «железной дорогой». Так как на материке много корсиканцев служит в тайной полиции, то их родные обозначают низкое ремесло, которым они занимаются, этим безобидным названием. Если вы спросите у них: «Где работает ваш брат Амброзини?» Или: «Чем занимается ваш дядя Барбикалья?» – они вам ответят, слегка при этом подмигивая: «Он служит на железной дороге…» И каждый поймет, что это значит. Люди простые, крестьяне, которые никогда не видели железной дороги и даже не представляют себе, что это такое, твердо убеждены, что секретная служба в императорской полиции не ^имеет другого наименования. Наш представитель в этой стране с трогательным простодушием разделяет общее мнение. Сказанного достаточно, чтобы дать вам понятие о том, как в действительности обстоит дело с железнодорожной линией «Аяччо – Бастиа через Бонифаччо и Порто – Веккьо», о которой говорят записи в бухгалтерских книгах с зеленым корешком торгового дома Паганетти. В сущности, все имущество Земельного банка заключается в нескольких вывесках и двух полуразрушенных домишках, едва ли достойных чести занять место среди пущенных на слом строений на улице св. Фердинанда, о которой каждый вечер, перед тем как заснуть, я вспоминаю, представляя себе, как там скрипят флюгера и хлопают от ветра старые двери.