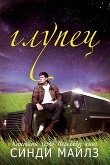Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Слова камердинера де Мора оказались для маркиза пророческими: «Мы можем умереть, лишиться власти. Тогда вас притянут к ответу – и уж вы пощады не ждите». И пощады ждать не пришлось. С большим трудом бывший главный податной инспектор получил отсрочку на две недели для возмещения денег казне; в качестве последнего шанса он рассчитывал на то, что Жансуле после своего утверждения в звании депутата, отвоевав свои миллионы, еще раз придет ему на помощь. Решение Палаты отняло у него последнюю надежду. Как только маркиз о нем узнал, он вернулся в клуб, очень спокойный, и поднялся в свою комнату, где Франсис ожидал его в величайшем нетерпении, чтобы передать какую-то важную бумагу, полученную днем. Это было извещение господину Луи-Мари-Аженору де Монпавону о том, что ему завтра надлежит явиться в кабинет судебного следователя. Было ли оно адресовано члену совета Земельного банка или бывшему главному податному инспектору, растратившему казенные деньги? Во всяком случае, резкая форма вызова к следователю, примененная сразу, вместо частного приглашения, достаточно ясно говорила о серьезности дела и о твердом решении судебных властей.
Эту крайнюю меру старый щеголь давно ждал и предвидел, поэтому его решение было принято заранее. Представитель рода Монпавонов – в исправительной тюрьме! Представитель рода Монпавонов – библиотекарь в Маза! Нет, ни за что!.. Он все привел в порядок, уничтожил некоторые бумаги, опустошил свои карманы и сунул в них несколько вещиц из туалетного прибора так спокойно и естественно, что, когда он, уходя, сказал Франсису: «Я хочу принять ванну… Проклятая Палата… Чертова пыль!..» – слуга поверил ему на слово. Впрочем, маркиз не лгал. После длительного, полного волнений пребывания там, наверху, в пыльной галерее, он чувствовал себя разбитым, как после двух ночей, проведенных в вагоне. Сочетая решение умереть с желанием хорошенько помыться, старый сибарит хотел уснуть в ванне, «как этот…[55]55
Имеется в виду философ Сенека (4 г. до н. э.– 65 г. н. э.), покончивший с собой по приказу Нерона: он вскрыл себе вены в ванне и спокойно продолжал диктовать своему рабу.
[Закрыть] как бишь, его… фф… фф… и другие прославленные герои древности». Надо отдать ему справедливость, ни один из этих стоиков не шел навстречу смерти с такой невозмутимостью, как он.
Воткнув в петлицу над своей орденской розеткой белую камелию, которую ему предложила мимоходом хорошенькая цветочница ив его клуба, он шел легкой походкой к бульвару Капуцинов, но встреча с г-жой Дженкинс на мгновение нарушила его безмятежное состояние духа. Ему почудился огонек у нее в глазах; она показалась ему такой моложавой, такой пикантной, что он остановился поглядеть на нее. Высокая, красивая, в развевающемся длинном черном газовом платье, облегающей плечи кружевной накидке, на которую спадала гирлянда осенних листьев с букета на ее шляпе, она удалялась, исчезала в ароматном воздухе среди других женщин, не менее элегантных. Мысль, что его глаза закроются навсегда и не увидят больше этого прелестного зрелища, которым он наслаждался, как знаток, слегка омрачала старого щеголя, заставила его замедлить шаги. Но спустя минуту встреча совершенно иного рода вернула ему утраченное было мужество.
Какой-то человек в потертой одежде, боязливый, ослепленный ярким светом, переходил бульвар. Это был старик Марестан, бывший сенатор, бывший министр, столь серьезно скомпрометированный в «деле о мальтийских крабах», что, несмотря на его возраст, на его заслуги, несмотря на скандальность судебного процесса, он был приговорен к двум годам тюрьмы и вычеркнут из списков кавалеров Почетного легиона, большой крест которого был ему когда-то пожалован. Бедняга, освобожденный досрочно за давностью дела, только что вышел из тюрьмы; он был растерян, не знал, что предпринять, не знал, чем скрасить свое жалкое существование, ибо ему пришлось вернуть все награбленное. Стоя на краю тротуара, он ждал, опустив голову, когда наконец можно будет перейти запруженную колясками улицу. Застряв между пешеходами и вереницей открытых экипажей, где сидело столько знакомых, он был явно смущен этой остановкой на самом людном месте. Монпавон, проходя мимо него, поймал его робкий, беспокойный взгляд, молящий о приветствии и в то же время избегающий его. Мысль, что и ему придется унизиться до такой степени, привела его в негодование. «Ну уж нет!..» Выпрямившись, выпятив грудь, он продолжал свой путь еще тверже и решительнее.
Г-н де Монпавон движется навстречу смерти. Он направляется к ней по длинным бульварам, сверкающим огнями в стороне церкви св. Магдалины, он в последний раз ступает на их упругий асфальт, он идет как праздношатающийся, задрав нос, заложив руки за спину. Время у него есть, ему некуда торопиться, он может явиться на свидание, когда ему заблагорассудится. Он ежеминутно кому-нибудь улыбается, посылает легкий снисходительный привет кончиками пальцев или высоко поднимает шляпу, как он это только что сделал. Все восхищает, все чарует его – грохот бочек для поливки улиц, тенты над дверями кафе, которые выставили свои столики до середины тротуара. Близкая смерть придает ему остроту чувств выздоравливающего, особую восприимчивость ко всей утонченной прелести, к скрытой поэзии чудесного летнего часа, пробившего в разгар парижской жизни, чудесного часа, который будет его последним часом. Ему хочется продлить его до ночи. Потому-то, вероятно, он и проходит мимо роскошного заведения, где он принимает обычно ванну; не останавливается он и у Китайских бань. Его здесь слишком хорошо знают. Be– чером происшествие станет известно всему Парижу. Его смерть вызовет пошлую сенсацию в клубах и гостиных, пополвет множество мерзких слухов, а г-н де Монпавон, натура утонченная, человек хорошего тона, хотел бы избавить себя от такого стыда, хотел бы нырнуть, погрузиться в небытие, совершив самоубийство незаметное и безмолвное, уподобиться тем солдатам, которые на другой день после крупных сражений числятся не ранеными, не живыми и не мертвыми, а пропавшими без вести. Вот почему он позаботился, чтобы при нем не было ничего такого, что позволило бы его опознать, что дало бы ясные указания полиции; вот почему он ищет в огромном Париже отдаленный, затерянный квартал, где произойдет это страшное, но успокоительное обезличение в общей могиле. Пока Монпавон идет, вид бульвара меняется. Толпа уплотнилась, стала более подвижной и озабоченной, дома не так велики, зато на них множество торговых вывесок. За воротами Сен-Дени и Сен-Мартен, через которые постоянно текут потоки людей из кишащих, перенаселенных предместий, провинциальный облик улиц становится заметнее. Старый щеголь уже не знает здесь никого; он может похвалиться тем, что и его тут никто не знает.
Лавочники, с любопытством глядящие на него, на его выставленную напоказ манишку, сюртук тонкого сукна, изгиб талии, принимают его за знаменитого актера, вышедшего перед спектаклем прогуляться по старинному бульвару – свидетелю его первых триумфов – и подышать воздухом. Ветер свежеет, сумерки заволакивают дали, длинная дорога, продолжая пылать огнями на уже пройденных поворотах, становится темнее с каждым шагом. Так бывает с прошлым, когда его сияние открывается тому, кто оглянулся назад и проникся сожалением… Монпавону кажется, что он входит в ночь. Он вздрагивает, но не слабеет и продолжает шагать, подняв голову, выпятив грудь.
Г-н де Монпавон идет навстречу смерти. Теперь он углубляется в сложный лабиринт шумных улиц, где грохот омнибусов сливается с гудением тысяч станков рабочих кварталов, где жар фабричных труб смешивается с лихорадочной борьбой народа с голодом. Воздух струится, от сточных канав идет пар, дома содрогаются, когда проезжают ломовики, тяжелые повозки сталкиваются на поворотах узких улочек. Внезапно маркиз останавливается: он нашел то, что ему нужно. Между черной лавочкой угольщика и заведением упаковщика, чьи сосновые доски, прислоненные к стене, вызывают у Монпавона легкую дрожь, открываются ворота; над ними вывеска-два слова: «Ванное заведение», написанные на тусклом фонаре. Монпавон проходит через сырой садик, где в раковину стекает струйка фонтана. Именно такой мрачный уголок он и искал. Кому может прийти в голову, что маркиз де Монпавон пришел сюда, чтобы перерезать себе горло? Дом стоит в глубине, низкий, с зелеными ставнями, стеклянной дверью; как у всех подобных учреждений, у него обманчивое сходство с виллой. Маркиз заказывает ванну поглубже, входит в узенький коридорчик и, пока ему приготовляют ее, пока вода с шумом льется за его спиной, курит сигару у окна, смотрит на тощую сирень, на высокую стену.
Рядом большой казарменный двор пожарной команды с гимнастическими принадлежностями; видны брусья, шесты, турники, похожие на виселицы. Во дворе трубит рожок, вызывая сержанта. Этот звук уносит маркиза на тридцать лет назад, напоминает ему алжирские походы, высокие стены Константины, приевд де Мора в полк, дуэли и веселые пирушки… Ах, как весело начиналась жизнь! Если б не эти проклятые карты! ФФ… фф… Хорошо, что хоть удалось соблюсти приличия.
– Сударь, ванна готова, – говорит служитель.
В этот момент г-жа Дженкинс, задыхающаяся, бледная, входила в ателье Андре, куда ее привел инстинкт, оказавшийся сильнее воли, потребность обнять свое дитя перед смертью. Открыв дверь – Андре дал ей запасной ключ, – она все же вздохнула с чувством облегчения, увидев, что он еще не вернулся, что у нее хватит времени овладеть своим волнением, которое только усилилось от долгой ходьбы, непривычной для изнеженной, богатой женщины. Никого. 'Но на столе записочка, которую он всегда оставлял уходя, чтобы его мать, чьи посещения из-за тирании этого гнусного человека становились все реже и короче, могла узнать, где ее сын, спокойно дождаться его или пойти к нему. Эти два существа не переставали любить друг друга, любить нежно, глубоко, несмотря на жестокость жизни, вынуждавшую их вносить в отношения между матерью и сыном предосторожности, скрытность и таинственность совсем иного рода любви.
«Я на репетиции моей пьесы, – гласила сегодня записка. – Вернусь к семи часам».
Это внимание ее сына, которого она не навещала три недели и который тем не менее упорно ее ждал, исторгло из глаз матери поток слез, давно уже душивших ее. Можно было подумать, что она вступила в новый мир. Комнатка была такая светлая, такая спокойная, она была так высоко над землей, она хранила на стеклах окон последний отблеск дня, пылая в лучах уже тускневшего солнца. Как и все мансарды, она казалась врезанной в небо; ее голые стены украшал лишь один большой портрет – ее портрет, улыбающийся, на почетном месте, а другой портрет стоял на столе в поволоченной рамке. Да, это скромное жилище, где было столько света в час, когда весь Париж погружался во мрак, произвело на нее впечатление чего-то сверхъестественного, несмотря на скудость обстановки, на жалкую мебель, разбросанную по двум комнатам, на простую ситцевую обивку и камин с двумя большими букетами гиацинтов – тех, что возят утром по улицам целыми грудами на тележках. Какую прекрасную, деятельную и достойную жизнь могла бы она вести здесь, подле своего Андре! И в одно мгновение, с быстротой, какая бывает свойственна людям только во сне, она мысленно поместила свою кровать в одном углу, рояль в другом и представила себе, как она дает уроки, заботится о домашнем очаге, в который она вносит свою долю средств и свою долю мужественной жизнерадостности. Как она раньше не поняла, что в атом ее долг, в атом гордость ее вдовства? Какое это было ослепление, какая недостойная слабость!..
Ошибка большая, несомненно, но ей можно было найти некоторое оправдание в мягкой, податливой натуре г-жи Дженкинс, в ловкости и коварстве ее сообщника, говорившего все время о браке и скрывавшего от нее, что он не свободен. Вынужденный наконец признаться, он настолько картинно описал свою безрадостную жизнь, свое отчаяние, свою любовь, что бедная женщина, и так уже скомпрометировавшая себя в глазах света, неспособная на героическое усилие, ставящее человека выше ложных положений, в конце концов уступила, согласилась на это двусмысленное положение, такое блестящее и такое жалкое, основанное на обмане, длившемся десять лет. Десять лет опьяняющих успехов и невыразимых волнений, когда, спев один романс и готовясь к другому, она трепетала, как бы ее не выдали, когда малейшее слово о незаконных связях ранило ее, как намек; десять лет, в течение которых ее лицо приобрело выражение смиренной покорности, как у преступницы, молящей о пощаде… Впоследствии уверенность в том, что он ее бросит, испортила ей даже эти поддельные радости, омрачила всю окружавшую ее роскошь. Сколько тревог, сколько молча перенесенных мучений, непрерывных унижений, вплоть до последнего, самого ужасного!
И вот сейчас она в вечерней прохладе и покое пустой квартиры с болью припоминает всю свою жизнь, а снизу до нее доносится звонкий смех, задорное веселье счастливой юности. Вспоминая признания Андре, его последнее письмо, в котором он сообщал ей большую новость, она пытается различить среди этих чистых молодых голосов голос ее дочери Элизы, невесты сына, которую она не знает, которую ей не суждено узнать. Эта мысль окончательно обездоливает женщину, еще усиливает тяжесть ее последних минут, наполняет их горечью сожалений, мучительными угрызениями совести, и, несмотря на все свое желание быть мужественной, она плачет, плачет…
Начинает темнеть. Тени огромными пятнами покрывают косые окна, в которых бездонно глубокое небо бледнеет, как бы исчезает во мраке. Крыши сгрудились к ночи, как солдаты перед атакой. От одной колокольни к другой несется медленный, торжественный звон отбиваемых часов, ласточки кружат около невидимого гнезда, ветер гуляет, как обычно, среди обломков снесенных зданий на строительной площадке. Сегодня вечером он несет с собой жалобный плеск воды и пронизывающий туман, он дует с реки, как бы напоминая несчастной женщине, что ей придется пойти туда. Ее уже заранее пробирает дрожь, хотя на ней кружевная накидка. Зачем она пришла в эту комнату, где к ней вернулось желание жить, когда жить нельзя после признания, которое она вынуждена будет сделать? На лестнице слышны быстрые шаги, дверь стремительно открывается… Это Андре, он напевает, он доволен, а главное, очень спешит, потому что его ждут к обеду у Жуайезов. Надо скорей зажечь свет, чтобы влюбленный мог принарядиться. Но сразу, чиркая спичками, он угадывает, что в ателье кто – то есть, какая-то тень движется среди неподвижных теней.
– Кто здесь?
Ему отвечают не то приглушенным смехом, не то рыданиями. Ему приходит в голову, что это какая-то детская шалость, проделка маленьких соседок, решивших подшутить над ним. Он идет на этот звук. Две руки сжимают его, обнимают.
– Это я…
Лихорадочно, торопливо, стараясь придать голосу твердость, она говорит, что отправляется в долгое путешествие, перед отъездом…
– В путешествие? Куда же ты едешь?
– Не знаю. Мы едем далеко, к нему на родину. По его делам…
– Как! Значит, ты не будешь на моей премьере? Ведь это же через три дня! А потом свадьба… Не может же он не пустить тебя на мою свадьбу!
Она придумывает оправдания, извинения, но по ее пылающим рукам, которые сжимают руки сына, по ее изменившемуся голосу он понимает, что она обманывает его. Он хочет зажечь свет, она удерживает его:
– Нет, нет, не надо. Так лучше… Мне нужно собраться, я должна идти.
Оба стоят, готовые к разлуке. Но Андре не отпустит ее, пока она не признается, что с ней, какое трагическое происшествие затуманило ее прекрасное лицо, на котором глаза – или это так кажется в полумраке? – горят мрачным огнем.
– Ничего, ничего, уверяю тебя… Только мысль о том, что я не смогу принять участие в твоем празднике, в твоем торжестве… Но ты же знаешь, что я люблю тебя, ты не сомневаешься во мне, правда? Не было еще такого дня, когда бы я не думала о тебе… И ты тоже береги свою любовь ко мне… А теперь поцелуй меня, и я пойду… Я и так задержалась.
Еще минута – и у нее не хватит сил уйти. Она устремляется к выходу.
– Нет, нет, ты не выйдешь отсюда… В твоей жизни происходит что-то необычайное, ты не хочешь мне сказать, но я это чувствую… Я уверен, что у тебя большое горе. Этот человек совершил подлость…
– Нет, нет… Пусти меня… пусти…
Но он удерживает ее, удерживает насильно.
– В чем дело? Скажи!
И совсем тихо, на ухо, нежным, настойчивым и приглушенным, как поцелуй, голосом спрашивает:
– Он бросил тебя, да?
Несчастная вздрагивает, вырывается:
– Не спрашивай меня ни о чем. Я не хочу ничего говорить. Прощай!
А он, прижимая ее к груди, продолжает: " – Да и что ты можешь сказать мне, чего бы я уже не знал, бедная моя мамочка? Разве ты не поняла, почему я ушел полгода назад?
– Ты знаешь?
– Все знаю. А что произошло сегодня – это я уже давно предчувствовал, давно этого желал.
– Несчастная я, несчастная! Зачем я пришла?
– Затем, что твое место здесь, затем, что за тобой долг – десять лет материнской любви… Вот видишь: ты обязана остаться у меня.
Он говорит ей это, стоя на коленях перед диваном, на который она упала, заливаясь слезами, с последним мучительным воплем уязвленной гордости. Она плачет долго-долго: сын у ее ног. Жуайезы, обеспокоенные тем, что Андре не спускается вниз, в полном составе отправляются за ним. Комната наполняется прелестными лицами, ясными улыбками, развевающимися локонами, скромными нарядами, и все это озарено светом большой лампы, доброй старой лампы с огромным абажуром, которую г-н Жуайез несет торжественно, высоко и прямо, как древние греки несли светильники. Они останавливаются как вкопанные, увидев бледную, убитую горем женщину, а та в глубоком волнении смотрит на эти улыбающиеся лица, на эти грациозные фигурки и особенно внимательно на Элизу, стоящую сзади и до того смущенную их нескромным вторжением, что это смущение мгновенно обличает в ней невесту.
– Элиза, поцелуй нашу маму и поблагодари ее. Она пришла, чтобы остаться жить со своими детьми.
И вот ее охватывают ласковые руки, прижимают к четырем женским сердечкам, которым давно уже не хватает материнской опоры, ее вводят – и так осторожно – в сияющий круг под семейной лампой, слегка расширенный, чтобы она могла занять в нем свое место, осушить глаза, согреть, озарить свою душу этим мощным пламенем, что поднимается, не колеблясь, даже в маленьком ателье художника, под самой крышей, где только что бушевали зловещие бури, которые надо забыть.
Тот, кто умирает там, в окровавленной ванне, не знал этого священного пламени. Эгоистичный и черствый, он всегда жил напоказ, с высокомерным тщеславием выставляя свою манишку. И это тщеславие было еще лучшим из его свойств. Именно оно так долго поддерживало в нем мужество и стойкость, и оно помогло ему теперь стиснуть зубы, чтобы подавить предсмертную икоту. В сыром садике тоскливо журчит фонтан. Рожок у пожарных играет сигнал к гашению огней.
– Сходите в седьмой, поглядите, что там такое, – говорит хозяйка. – Засиделся он в ванне.
Служитель идет. Раздается крик изумления, ужаса:
– Сударыня, он умер! Но это не тот, это другой…
Все сбегаются, и никто не хочет признать изящного господина, недавно вошедшего сюда, в этой зловещей мертвой кукле, с головой, свисающей через край ванны, с лицом, на котором грим слился со смывающей его кровью. Он лежит, раскинув руки и ноги, безмерно усталый от роли, сыгранной до конца, сыгранной так, что она убила актера. Два пореза бритвой поперек великолепной негнущейся манишки – и все его искусственное величие обмякло, растворилось в этом безымянном ужасе, в этой груде грязи, крови, жалких накрашенных останков, в которых никак нельзя узнать человека хорошего тона, маркиза Луи-Мари-Аженора де Монпавона.
XXIII. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ
Записываю наспех, дрожащим пером, страшные события, игрушкой которых я являюсь вот уже несколько дней. На этот раз с Земельным банком и всеми моими честолюбивыми мечтами покончено… Векселя опротестованы, на имущество накладывается арест, полиция производит обыски, все наши книги у судебного следователя, патрон сбежал, член нашего совета Буа-Ландри – в Маза, член нашего совета Монпавон исчез. Есть от чего потерять голову. И подумать только, что если б я внял тому, что мне подсказывал вдравый смысл, я бы уже с полгода сидел спокойно в Монбаре, возделывал свой виноградничек, ни о чем не заботясь, и только глядел бы, как наливаются и золотятся грозди под добрым бургундским солнышком, или собирал бы после ливня на лозах маленьких серых улиток, превосходных в жареном виде. На свои сбережения я построил бы себе на краю участка, на холмике, в местечке, которое так и стоит у меня перед глазами, каменный павильончик, как у г-на Шальмета, такой удобный для послеполуденного отдыха, когда кругом в винограднике посвистывают перепелки. Но нет! Непрестанно соблазняемый обманчивыми мечтами, я хотел разбогатеть, спекулировать, заниматься крупными банковскими операциями, приковать свою судьбу к колеснице сегодняшних триумфаторов – и вот вернулся к самым печальным страницам моей жизни: я всего лишь мелкий служащий в прогоревшем банке, мне поручено отвечать полчищам обезумевших от ярости кредиторов и акционеров, которые осыпают меня тягчайшими оскорблениями, не щадя моих седин, и хотят сделать меня ответственным за разорение Набоба и бегство патрона. Как будто я сам не пострадал ужаснейшим образом, снова потеряв свое жалованье, не выплаченное мне за четыре года, и мои семь тысяч, истраченные на патрона и на банк, – все, что я доверил этому проходимцу Паганетти из Порто-Веккьо.
Но мне, видимо, было на роду написано испить чашу унижений и неприятностей до дна. Я предстал перед судебным следователем, я, Пассажон, бывший служитель филологического факультета, тридцать лет работавший безупречно и награжденный академическим значком… Когда я поднимался по лестнице Дворца правосудия, такой большой, такой широкой, без перил, за которые можно было бы ухватиться, у меня закружилась голова и ноги отказались двигаться. У меня было время предаться размышлениям, пока я проходил через залы, где было полно адвокатов и судей в черных мантиях, отделенные один от другого высокими зелеными дверями, из-за которых доносился внушительный гул судебных заседаний. Да и там, наверху в коридоре, пока я битый час ждал, сидя на скамье, и мне уже казалось, что по моим ногам ползают тюремные насекомые, пока я слушал, как бандиты, жулики, девки из Сен-Лазар весело болтают с муниципальными гвардейцами, как стучат ружейные приклады, а во дворе дребезжат арестантские кареты. Тут я понял, как опасны combinazioni, понял, что не всегда следует смеяться над простаками.
Меня успокаивало, однако, то, что я никогда не принимал участия в совещаниях в Земельном банке и потому не играл никакой роли в сделках и грязных делишках. Но как это объяснить? Очутившись в кабинете следователя, прямо против человека в бархатной ермолке, смотревшего на меня через стол маленькими острыми глазками, я почувствовал, что меня пронизывают, обшаривают, выворачивают наизнанку, и, несмотря на свою невиновность, я, представьте себе, ощутил желание сознаться. В чем? Не знаю! Но таково воздействие правосудия. Этот дьявол в человеческом образе добрых пять минут разглядывал меня, ничего не говоря и перелистывая исписанную крупным почерком тетрадь, которая показалась мне знакомой, и вдруг обратился ко мне насмешливо и в то же время строго:
– Ну-с, господин Пассажон, давно вы не проделывали трюка с возчиком?
Воспоминание об одной скверной проделке, в которой я принимал участие в трудные дни, было уже таким далеким, что сначала я ничего не понял. Но эти слова показали мне, насколько следователь был в курсе дел нашего банка. Этот ужасный человек знал все до мельчайших подробностей, вплоть до тайных махинаций.
Кто же мог его так хорошо осведомить?
При всем том он был весьма лаконичен и сух. Я попытался разъяснить кое-что представителю судебной власти, сделав несколько метких замечаний, но он довольно дерзко обрывал меня всякий раз:
– Прошу без громких фраз.
Это было тем более оскорбительно – да еще в моем возрасте, с моей репутацией остроумного человека! – что мы были в кабинете не одни. Сидевший возле меня секретарь записывал мои показания; сзади слышался шелест переворачиваемых листов бумаги. Следователь задавал мне самые разные вопросы относительно Набоба, о том, когда он делал свои взносы, о месте, где мы хранили наши книги, и вдруг, обращаясь к человеку, которого мне не было видно, сказал:
– Позвольте кассовую книгу, господин эксперт.
Маленький человечек в белом галстуке положил на стол толстую книгу. Это был г-н Жуайез, бывший кассир банкирской конторы «Эмерленг и сын». Но я не успел засвидетельствовать ему свое почтение.
– Кто это сделал? – спросил меня следователь, открывая книгу в том месте, где из нее была вырвана страница. – Только не лгите…
Я не лгал; я просто ничего не знал, так как никогда не занимался отчетностью. Однако я счел долгом упомянуть о г-не де Жери, секретаре Набоба, который часто приходил по вечерам в нашу контору и подолгу сидел один в бухгалтерии. Тут коротышка Жуайез покраснел от злости:
– Это чепуха, господин следователь. Де Жери – тот самый молодой человек, о котором я вам говорил. Он заходил в Земельный банк, только чтобы контролировать его операции, он был на страже интересов бедного господина Жансуле, и он не мог уничтожать записи о получении от него взносов, являющиеся доказательством его слепой, но безукоризненной честности. К тому же господин де Жери, задержавшийся в Тунисе, сейчас уже на пути в Париж и скоро представит необходимые разъяснения.
Я почувствовал, что мое усердие может повредить мне.
– Смотрите, Пассажон! – строго сказал мне следователь. – Пока вы только свидетель, но если вы будете пытаться ввести следствие в заблуждение, то можете оказаться обвиняемым. (У этого чудовища был такой вид, словно ему этого хотелось!) Ну-ка, подумайте: кто вырвал эту страницу?
Тогда я весьма кстати припомнил, что за несколько дней до отъезда ив Парижа наш патрон велел мне принести книги к нему домой, н там они оставались до утра. Секретарь записал мои показания, после чего следователь знаком отпустил меня, предупредив, что я в его распоряжении. Когда я был уже у двери, он вернул меня:
– Постойте, господин Пассажон, возьмите вот это. Мне эти бумаги больше не нужны.
Он протянул мне тетрадь, в которую заглядывал, допрашивая меня. Каково же было мое изумление, когда я увидел на обложке слово «Записки», выведенное мною старательно, красивыми буквами! Я сам дал в руки суду оружие, драгоценные сведения. Быстрота случившейся катастрофы Помешала мне скрыть тетрадь при обыске в нашем банке.
Вернувшись к себе, я хотел первым долгом разорвать на мелкие клочки эти нескромные бумажки, но, поразмыслив и убедившись, что в моих записках не было ничего компрометирующего, я решил продолжать их: я убежден, что когда-нибудь они мне еще пригодятся. В Париже немало сочинителей романов, которые лишены воображения и способны рассказывать в своих книгах только о том, что происходит в действительности. Они охотно купят у меня эту тетрадку со всякими полезными для них сведениями. Так я отомщу этой шайке первостатейных разбойников, в которую я затесался на горе и на позор себе.
Потом надо же мне хоть чем-то занять досуг. В конторе, совершенно пустой после вторжения судебных органов, делать нечего, разве только складывать груды судебных повесток различных цветов. Я снова начал вести запись расходов для кухарки с третьего этажа, мадемуазель Серафины, от которой получаю взамен съестные припасы; я храню их в несгораемом шкафу, который опять стал моей кладовой.' Жена патрона тоже очень добра ко мне и каждый раз, когда я прихожу в их великолепную квартиру на Шоссе д'Антеи проведать ее, набивает мне полные карманы. Там ничего не изменилось. Та же роскошь, тот же комфорт; вдобавок еще трехмесячный младенец, седьмой по счету, и превосходная кормилица, нормандский чепец которой вызывает восторг у всех гуляющих в Булонском лесу. Видно, людям, устремившимся вперед по путям фортуны, чтобы убавить ход или совсем остановиться, требуется некоторое время. И то сказать, бандит Паганетти, предвидя беду, все перевел на имя жены. Вот почему эта вечно лопочущая по-своему итальянка от него в восхищении, которое ничто не может поколебать. Он сбежал, он прячется, но она по-прежнему уверена, что ее муж невинен, как Иоанн Креститель, и стал жертвой своей доброты, своей доверчивости. Ее стоит послушать:
– Вы-то его знаете, мусью Пассажон. Вы знаете, какой он шипитильный. Но говорю вам, – и это так же правда, как то, что есть бог, – если бы мой муж делал все такие нечестности, как говорят кругом, я бы сама – вы слышите, сама – вложила ему пистолю в руку и сказала: «На, Чекко! Взорви себе голову!»
Глядя, как она, вздернув носик, раздувает ноздри и широко раскрывает глаза, черные и круглые, словно два агатовых шарика, можно поверить, что эта корсиканочка с Иль-Русс действительно так бы и поступила. Каким же он должен быть ловким, этот проклятый Паганетти, чтобы надувать даже свою жену, играть комедию у себя дома – там, где даже самые большие пройдохи показывают себя в настоящем свете!
Покуда вся эта компания лакомится деликатесами, а Буа-Ландри доставляют в Маза обеды на Английского кафе, дядюшка Пассажон дошел до того, что вынужден питаться объедками из чужих кухонь. Ну, мне еще грех жаловаться. Есть люди куда более несчастные, чем я: взять хотя бы г-на Франсиса. Сегодня утром он зашел в Земельный банк – худой, бледный, в грязном до безобразия белье, с обтрепанными манжетами, которые он все еще выпускает по привычке.
Я как раз поджаривал в этот момент славный кусочек сала у камина в зале совета, поставив себе прибор на уголке столика с инкрустациями и подостлав газету, чтобы его не запачкать. Я пригласил камердинера Монпавона разделить со мной скромную трапезу, но, побывав на службе у маркива, он вообразил, что и сам сделался аристократом, и потому отказался с важным видом, просто нелепым, если поглядеть на его впалые щеки. Он начал с того, что по-прежнему ничего не знает о своем хозяине, что его выставили из клубной квартиры на Королевской улице, что все бумаги маркиза опечатаны и куча кредиторов налетела, как саранча, на его скудные пожитки.
– Так что сейчас у меня с деньгами туговато, – добавил г-н Франсис.
Проще говоря, у него нет ни гроша в кармане, и он уже два дня спит на бульваре, где его поминутно будят полицейские и ему приходится вставать, делать вид, что он загулявший пьянчужка, и искать себе другое пристанище. А по части того, чтобы пожевать чего-нибудь, ему, видно, давно уже ничего не перепадало: он глядел на еду такими голодными глазами, что тяжело было на него смотреть, а когда я сунул ему под нос ломтик жареного сала и стакан вина, он набросился на них, как волк. У него сразу прилила кровь к лицу, и, уплетая за обе щеки, он принялся болтать без умолку.