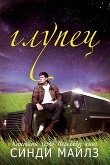Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Матушка Жансуле смотрела на сына.
– Я уже говорил о чести Палаты, господа. Я хочу сказать о ней еще несколько слов.
Лемеркье уже не читал. После докладчика настала очередь оратора, вернее, полноправного судьи. Лицо его потухло, взгляд стал неуловимым, ничто не жило, ничто не двигалось в этой огромной фигуре, кроме правой руки, длинной, узловатой руки в коротком рукаве, которая опускалась механически, как меч правосудия, заканчивая каждую фразу свирепым и неумолимым жестом, как бы отсекающим голову. И в самом деле, собравшиеся присутствовали при смертной казни. Оратор уже не касался скандальных легенд, тайны, витавшей над колоссальным богатством, приобретенным в дальних странах, вдали от всякого контроля. Но были в жизни депутата непонятные моменты, непонятные подробности… Он колебался, делал вид, что ищет, выбирает слова, затем, не имея возможности сформулировать прямое обвинение, произнес:
– Не будем снижать уровень, на котором протекают наши прения, господа. Вы меня поняли, вы знаете, на какие гнусные слухи я намекаю, на какую клевету, желал я сказать. Но истина вынуждает меня заявить, что, когда от господина Жансуле, призванного в Третье отделение, потребовали опровержения выдвинутых против него обвинений, его объяснения были столь туманны, что, оставаясь убежденными в его невиновности, мы все же должны, тщательно оберегая вашу честь, отвергнуть эту кандидатуру, запятнанную подобными подозрениями. Нет, этот человек не должен сидеть здесь, среди вас. Да и что бы стал он тут делать? Прожив столько лет на Востоке, он отвык от законов, от нравов, обычаев своей страны. Он верит в правосудие, которое вершат на месте, в палочную расправу на улице, он опирается на злоупотребления властью и, что еще хуже, на продажность, предельную низость человеческой натуры. Это откупщик, воображающий, что все можно купить, если дать надлежащую цену, даже голоса избирателей, даже совесть своих коллег…
Надо было видеть, с каким наивным восторгом славные толстяки-депутаты, осовевшие от благополучия, слушали этого аскета, этого человека из другой эпохи, подобного святому Иерониму,[54]54
Иероним (330 или 347–420) – один из «отцов церкви», переводчик Библии на чатинский язык. В 382 г. был вызван папой Дамасием в Рим, где стал духовным наставником многих знатных римлян.
[Закрыть] явившемуся из своей пустыни на собрание сенаторов Римской империи времен упадка, чтобы заклеймить яростным красноречием бесстыдную роскошь корыстных нарушителей долга и лихоимцев. Как понятно было нм теперь прекрасное прозвище «Моя совесть», которое дали ему во Дворце правосудия и которое так соответствовало его высокому росту и повелительным жестам!.. Энтузиазм на галереях все возрастал. Хорошенькие головки наклонялись, чтобы видеть оратора, чтобы упиться его словами. Шепот одобрения проносился по рядам, заставляя колыхаться эти прелестные букеты всех оттенков, подобно тому, как ветер колышет цветущий луг. Женский голос с легким иностранным акцентом восклицал:
– Браво!.. Браво!..
А мать?
Застыв на месте, вся превратившись в слух, силясь хоть что-нибудь понять в судебной фразеологии, в этих таинственных намеках, она была как глухонемая, которая улавливает то, что ей говорят, лишь по движению губ, по мимике. Но ей достаточно было взглянуть на своего сына и на Лемеркье, чтобы понять, какое зло причинял адвокат Бернару, какие коварные, ядовитые стрелы пускал он в несчастного во время своей длинной речи. Можно было подумать, что Жансуле, закрывший лицо руками, спит, если бы его мощные плечи не вздрагивали, а пальцы в ярости не теребили волосы. Как хотелось ей крикнуть с места: «Не бойся, сын мой! Пусть все они презирают тебя-твоя мать тебя любит! Уйдем отсюда… На что они нам?» На одно мгновение ей показалось, что эти слова, произносимые ею в душе, каким-то таинственным путем дошли до него. Он встал, тряхнул своей курчавой головой; его по-детски пухлые губы дрожали от слез, к щекам прилила кровь. Но вместо того, чтобы покинуть свою скамью, он словно прирос к ней; его огромные пальцы вдавились в дерево пюпитра. Адвокат кончил, настала очередь Жансуле отвечать.
– Господа!.. – начал он и тут же остановился, сам испугавшись хриплого, до ужаса глухого и грубого звука своего голоса, который он впервые слышал в общественном месте.
Эта пауза, сопровождавшаяся мучительными гримасами, поисками верных интонаций, которые он никак не мог найти, была ему необходима, чтобы собраться с силами для самооправдания. И если его тревога производила тяжелое впечатление в зале, то там, наверху, на лице старухи матери, которая, наклонившись вперед, задыхаясь, шевелила губами, как бы помогая ему отыскивать слова, пытка его отражалась, как в зеркале. Хотя он и не видел матери, как и во время доклада, он старался не смотреть на галерею, ее дыхание, магнетизм ее горящих черных глаз вдохнули в него жизнь, и его слова и жесты внезапно утратили скованность.
– Прежде всего, господа, я должен заявить, что я пришел сюда не для того, чтобы отстаивать свое избрание. Если вы думаете, что предвыборные нравы в Корсике не были такими же и прежде, что все имевшие место нарушения правил следует приписать растлевающему влиянию моего золота, а не пылкому и необузданному темпераменту корсиканского народа, отвергните меня, это будет справедливо, я не скажу ни слова. Но во всем этом деле, кроме моего избрания, есть и нечто другое – против меня выдвинуто обвинение, задевающее мою честь, жестоко на нее посягающее, и вот на это я и хочу ответить.
Голос его постепенно становился увереннее; он звучал надтреснуто, глуховато, но в нем теперь появились трогательные нотки, его врожденная грубость несколько сгладилась. Кратко и сжато Жансуле рассказал о своей жизни, о своих первых шагах, об отъезде на Восток. Все это походило на старинные предания восемнадцатого века, на рассказы о берберийских корсарах, носящихся по латинским морям, о беях и об отважных провансальцах, коричневых, как сверчки, которые всегда кончают тем, что женятся на какой-нибудь султанше и, по сохранившемуся с давних времен выражению марсельцев, «надевают чалму».
– Мне, – говорил Набоб с добродушной улыбкой, – не понадобилось «надеть чалму», чтобы разбогатеть. Я ограничился тем, что принес в эти края лени и беспечности деятельность, гибкость француза-южанина, и за несколько лет мне удалось нажить состояние, какое можно нажить только в этих дьявольски жарких странах, где все огромно, стремительно, несоразмерно, где цветы вырастают за одну ночь, где одно дерево легко превращается в целый лес. Оправдать подобные богатства можно лишь способом их использования, и я смею думать, что ни один баловень судьбы не пытался так, как я, заставить людей простить мне размеры моего состояния. Но мне это не удалось.
Нет, ему это не удалось. С безумной щедростью разбросав столько золота, он встретил лишь презрение или ненависть. Ненависть! Кто бы мог похвастаться тем, что возбудил столько ненависти в людях, уподобившись большому кораблю, всколыхнувшему тину, когда его киль коснулся дна? Он был слишком богат – это заменяло ему все пороки, все преступления, отдавало его в жертву безымянной мести, жестокой и нескончаемой неприязни'.
– Ах, господа! – восклицал бедный Набоб, подняв судорожно сжатые кулаки. – Я знал нужду, я боролся с ней один на один, и это была страшная борьба, клянусь вам. Но бороться с богатством, отстаивать свое счастье, честь, покой, плохо защищенные грудой золотых монет, которые сыплются на вас и давят вас, – это нечто еще более мерзкое, еще более отвратительное. Никогда, в дни самого мрачного отчаяния, я не знал таких горестей, тревог, бессонных ночей, какие принесло мне богатство, ужасное богатство, которое я ненавижу и которое душит меня! Меня прозвали в Париже Набобом. Нет, меня надо было прозвать не Набобом, а Парией, Парией, – он простирает руки к обществу, а оно отталкивает его!..
Эти слова, изображенные с помощью печатных знаков, могут показаться холодными. Но там, перед собранием, на самозащите этого человека лежала печать величавой красноречивой правдивости, и эта правдивость неотесанного мужлана, необразованного выскочки, ничего не читавшего, с голосом ронского лодочника и манерами грузчика, сначала поразила, а затем глубоко взволновала аудиторию всем, что было в ней невежественного, дикого, чуждого парламентским обычаям. По рядам людей, привыкших к монотонному, серому проливню канцелярских речей, пробежал шепот одобрения. В ответ на вопль ярости и отчаяния, обращенный неудачником к богатству, которое его засасывало, крутило, топило в своих золотых волнах, в то время как он отбивался, взывая о помощи, из водоворота своей золотоносной реки, вся Палата поднялась с мест, разразившись аплодисментами, протягивая к нему руки, как бы выражая этим несчастному Набобу свое уважение, которого он так жаждал, и в то же время спасая его от крушения. Жансуле почувствовал это и, согретый дружелюбием, продолжал, подняв голову и глядя уверенно перед собой:
– Вам только что сказали господа, что я недостоин занять место среди вас. Меньше всего я мог ожидать этих слов от того, кто их произнес, потому что он один знает горестную тайну моей жизни, он один мог заступиться за меня, оправдать меня и убедить вас. Но он не захотел. Что ж, попытаюсь сделать это сам, хотя мне это и дорого стоит. Меня так жестоко оклеветали перед страной, что я обязан ради самого себя, ради своих детей оправдаться публично, и я на это решаюсь.
Он повернулся резким движением к галерее, где, как он знал, его подстерегал враг, и в ужасе смолк. Там, как раз напротив него, за бледным, полным ненависти личиком баронессы, его мать – его мать, которая, как он думал, была за двести миль от опасной грозы, – смотрела на него, прислонясь к стене, обратив к нему свое священное для него лицо, залитое слезами, но все же сияющее и гордое успехом ее Бернара. О, это был подлинный успех искреннего чувства, такого человеческого чувства! Еще несколько слов – ион мог бы превратиться в триумф.
– Говорите!.. Говорите!.. – кричали ему со всех концов, чтобы успокоить его, ободрить.
Но Жансуле молчал. А ведь ему надо было сказать в свою защиту совсем немного: «Клеветники умышленно спутали два имени. Меня зовут Бернар Жансуле. А того звали Луи Жансуле». И больше ничего…
Но это было слишком много для матери, все еще не знавшей о бесчестии старшего сына. Этого было слишком много для его чувства почтения к ней, для семейной чести. Ему почудился голос старика: «Я умираю от стыда, дитя мое…» Разве она тоже не умрет от стыда, если он расскажет?
Он бросил навстречу материнской улыбке последний взгляд – взгляд отчаяния, затем глухим голосом, с жестом отчаяния произнес:
– Простите меня, господа, но это объяснение выше моих сил – Прикажите произвести расследование моей жизни, открытой всем, выставленной, увы, напоказ, так что каждый волен толковать по-своему все мои действия. Клянусь вам, что вы не найдете там ничего, что помешало бы мне находиться среди представителей моей страны.
Как все были ошеломлены, как все были разочарованы этим отступлением! Оно показалось внезапным провалом безмерной наглости, у которой не оставалось никакого выхода. На скамьях произошло движение, депутаты быстро проголосовали. В неясном свете, падавшем из окон, Набоб видел все это, как в тумане, словно осужденный, глядящий с эшафота на волнующуюся толпу. Затем, после долгого, как вечность, ожидания, за которым должна наступить решающая минута, председатель произнес в полной тишине:
– Избрание господина Бернара Жансуле признано недействительным.
Никогда еще жизнь человека не была пресечена с меньшей торжественностью и шумом.
Там, наверху, на галерее, матушка Жансуле ничего не понимала; она только видела, что скамьи кругом пустели, что люди вставали, уходили. Вскоре с ней остались лишь толстяк и дама в белой шляпке, которые перегнулись через перила, с любопытством глядя на Бернара. Тот, видимо, тоже собирался уходить и спокойно засовывал толстые пачки бумаг в большой портфель. Сложив их, он встал. Да, люди, живущие на виду, попадают порой в убийственное положение… Медленной, тяжелой походкой под взглядами всего собрания он спустился по ступеням, на которые он взбирался ценой таких усилий и такого количества денег, но неумолимый рок столкнул его вниз.
Этого-то и ждали Эмерленги, провожавшие его взглядом до двери, следившие за его скорбным, унизительным уходом, напоминавшим постыдное изгнание. Как только Набоб исчез, они посмотрели друг на друга с безмолвной улыбкой и вышли из галереи. Старуха мать так и не решилась попросить у них разъяснения, инстинктивно ощущая их глухую враждебность. Оставшись одна, она обратила все свое внимание на следующий доклад, – она была уверена, что все еще говорят о ее сыне. Речь шла о выборах, о баллотировке, и бедная мать, наклонив голову в желтом чепце, хмуря густые брови, благоговейно слушала бы до самого конца доклад об избрании Сарига, если бы не пришел дежурный пристав, проводивший ее сюда. Он сказал ей, что все кончено, что ей лучше уйти. Старуха была очень удивлена.
– Правда? Уже все кончено? – спросила она, поднимаясь как бы с сожалением.
И совсем тихо, робко добавила:
– Скажите, он выиграл?
Это было до того наивно, до того трогательно, что пристав даже не улыбнулся.
– К сожалению, нет, сударыня. Господин Жансуле не выиграл… Но почему он запнулся на середине такой прекрасной речи? Если это правда, что он никогда не бывал в Париже и что другой Жансуле проделывал все, в чем обвиняют его, почему же он этого не сказал?
Страшно побледнев, старуха мать оперлась на перила. Теперь она поняла все…
Она вспомнила, как, увидев ее, Бернар внезапно прервал свою речь, она поняла, какую жертву принес он ей – и так просто, глядя на нее неотразимым взглядом затравленного животного. В одну минуту позор Старшего, любимого ребенка, смешался в ее сознании с жизненной катастрофой другого сына. Боль ее материнского сердца была подобна ножу с двумя лезвиями, который впивался в нее, в какую сторону она бы ни повернулась. Да, да, это из-за нее он не захотел говорить. Но она не примет такой жертвы. Надо, чтобы он сию же минуту вернулся, объяснился перед депутатами.
– Мой сын! Где мой сын?
– Внизу, сударыня, в своем экипаже. Он послал меня за вами.
Сопровождаемая приставом, она быстро шагала, говорила вслух, расталкивала на пути черных бородатых человечков, жестикулировавших в кулуарах, миновала за длинным залом громадный круглый вестибюль, где почтительный ряд лакеев образовал живой пестрый бордюр у высокой голой стены. Из вестибюля были видны стеклянные двери, решетчатая ограда, собравшаяся у здания толпа и среди прочих экипажей карета ожидавшего ее Набоба. Проходя, крестьянка увидела в одной из групп своего тучного соседа, разговаривавшего с тем самым бледным человеком в очках, который метал громы и молнии против ее сына, – теперь его все поздравляли и жали ему руки. Услыхав имя Жансуле, произнесенное среди издевательских и довольных смешков, она замедлила свой стремительный шаг.
– В конце концов, – говорил красивый молодой человек с лицом продажной женщины, – он так и не доказал, в чем была ложность наших обвинений.
Услыхав это старуха пулей пролетела сквозь толпу и, подскочив к Моэссару, заявила:
– То, чего не сказал он, скажу вам я. Я его мать, и я должна сказать все.
Она схватила за рукав собиравшегося улизнуть Лемеркье.
– Прежде всего вы должны выслушать меня, алой вы человек… Что сделал вам мой сын? Разве вы не знаете, кто он? Погодите, сейчас вы узнаете.
И, обернувшись к журналисту, она продолжала:
– У меня было два сына, сударь…
Моэссар уже скрылся. Она обернулась к Лемеркье.
– Два сына, сударь…
Лемеркье исчез.
– Да выслушайте же меня! – твердила бедная мать, размахивая руками и не жалея слов, только чтобы удержать слушателей.
Но все ускользали, исчезали, улетучивались – депутаты, репортеры, незнакомые насмешливые лица… А она хотела рассказать свою историю во что бы то ни стало, невзирая на их равнодушие, в котором тонули ее горести и радости, ее гордость и материнская нежность, которые она выражала на понятном только ей одной наречии.
Со сбившимся чепцом, растерянная, смешная и величавая одновременно, как все дети природы, переживающие трагедию цивилизации, она волновалась, горячилась, уверяла окружающих в честности своего сына и в несправедливости к нему всех людей, вплоть до ливрейных лакеев, чье презрительное бесстрастие было особенно жестоко, а в это время Жансуле, обеспокоенный тем, что ее не видно, бросился ее разыскивать и вдруг очутился подле нее.
– Возьмите меня под руку, матушка… Пойдемте отсюда.
Он сказал это громко и так спокойно и твердо, что смешки прекратились, и старуха, сразу успокоенная, опираясь на его крепкую руку и все еще продолжая дрожать от гнева, прошла к выходу между двумя шеренгами почтительно расступившихся перед нею людей. Удивительная пара, в которой величественность сочеталась с крайней простотой, – миллионы сына, озарявшие крестьянское обличье матери, рубище святой в золотой раке!.. И наконец они исчезли в ярком дневном свете улицы, в великолепии сверкающей кареты, которое казалось злобным издевательством над их безмерным отчаянием. Какой яркий символ ужасающей нищеты богачей!..
Они сидели в глубине кареты и, опасаясь, что их увидят, сначала не говорили друг с другом. Но как только экипаж тронулся, как только исчезла Голгофа, где на кресте осталась его честь, Жансуле, в изнеможении положив голову на материнское плечо, спрятав лицо в складках старой зеленой шали, дал волю жгучим слезам, и все его мощное тело содрогалось от рыданий. Внезапно у Жансуле вырвался крик, какой вырывался у него в детстве, жалобный крик мальчика из простонародья:
– Ма-ам! Ма-ам!..
XXII. ПАРИЖСКИЕ ДРАМЫ
Мой друг! Зачем так краток час
Любви, что обольщает нас
Как будто на одно мгновенье,
Как бы не дольше сновиденья?
В большой, погруженной в полумрак гостиной, убранной по-летнему, – много цветов, штофная мебель в белых чехлах, люстры обернуты кисеей, шторы опущены, окна открыты, – г-жа Дженкинс, сидя за роялем, разбирает новую песенку модного композитора: несколько звучных музыкальных фраз, сопровождающих изысканные стихи, печальную песню, разделенную на неравные строфы, как будто написанную для ее мягкого, низкого голоса, в соответствии с тревожным состоянием ее души.
Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье…
Растроганная жалобной песней, бедная женщина вздыхает. Звуки улетают во двор особняка, обычно тихий, где струится фонтан среди рододендронов. Певица останавливается, руки ее лежат на клавишах, взор как будто бы устремлен на ноты, а на самом деле блуждает далеко. Доктор в отъезде. Заботы о делах, о своем здоровье заставили его на несколько дней покинуть Париж, и, как это случается в одиночестве, мысли прекрасной г-жи Дженкинс приняли серьезный оборот, проявили ту склонность к анализу, которая иногда делает краткую разлуку роковою для самого согласного супружества… А согласия уже давно не было между ними. Они виделись только за столом, в присутствии слуг, почти не разговаривали друг с другом, если только этот елейный человек не позволял себе какого-нибудь грубого, обидного замечания о ее сыне, о ее возрасте, который уже давал себя знать, или о ее платье, когда оно было ей не к лицу. Внешне спокойная, кроткая, она сдерживала слезы и выслушивала все, делая вид, что не понимает. Не то чтобы она еще любила его после стольких жестокостей, после такого пренебрежения, но это было именно то, о чем рассказывал их кучер Джо: история «старой надоеды, которая добивалась, чтобы хозяин женился на ней». До сих пор это позорное положение не могло измениться из-за ужасного препятствия – жива была законная супруга. Теперь же, когда этого препятствия больше не существовало, она хотела покончить с этой комедией из-за Андре – ведь в нем со дня на день могло вспыхнуть презрение к матери, – из-за света, который они обманывали десять лет: каждый раз, когда она бывала в обществе, у нее отчаянно билось сердце при мысли о том, как к ней отнесутся, когда все откроется.
На ее намеки, на ее просьбы Дженкинс сначала отвечал громкими фразами: «Неужели вы во мне сомневаетесь? Разве наши обеты не священны?..» Он ссылался также на трудность сохранить в тайне такой важный акт. Наконец он замкнулся в злобном молчании, чреватом приступами холодного бешенства и внезапными беспощадными решениями. Смерть герцога, крах безудержного тщеславия нанесли последний удар их семейной жизни, ибо катастрофы, часто сближающие сердца, способные понять друг друга, довершают разрыв людей разобщенных. А это была подлинная катастрофа. Мода на пилюли Дженкинса внезапно прошла, и когда положение, в котором очутился врач – иностранец и шарлатан, – было четко обрисовано стариком Бушро в журнале Академии наук, светские люди стали поглядывать друг на друга растерянно, бледнея больше от страха, чем от принятого мышьяка. Ирландец начал уже испытывать на себе действие сокрушительных перемен: ветер изменил направление, а эти перемены опасны для всех, кем увлекается Париж.
Вот почему, вероятно, Дженкинс и счел уместным исчезнуть на некоторое время, предоставив своей «супруге» посещать еще открытые для нее салоны, чтобы прощупать общественное мнение и удержать людей в рамках почтительности. Трудная задача для бедной женщины, встречавшей почти всюду такой же холодный и сухой прием, какой был оказан ей у Эмерленгов! Но она не жаловалась, рассчитывая добиться таким образом бракосочетания, привязать Дженкинса к себе горестными узами жалости, переносимых сообща испытаний, – это было последнее средство, которое еще оставалось в ее распоряжении. Она знала, что в свете ею дорожат главным образом из-за ее таланта, из-за удовольствия, которое она, как певица, доставляла на вечерах, всегда готовая положить на рояль веер, длинные перчатки и исполнить что-нибудь из своего богатого репертуара. Для этого она работала непрерывно, целыми днями просматривая новинки, отдавая предпочтение печальным и сложным мелодиям, той современной музыке, которая, не довольствуясь тем, что она искусство, хочет быть наукой, отвечать на нашу внутреннюю тревогу, успокаивать не столько наши чувства, сколько нервы.
Как будто на одно мгновенье,
Как бы не дольше сновиденья?
Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье…
Поток света ворвался в дверь, которую отворила горничная, подавшая хозяйке визитную карточку: «Эрте, частный поверенный».
– Этот господин ждет. Он настаивает на том, чтобы его приняли.
– Вы сказали ему, что доктор в отъезде?
– Да, ему сказали, но он хочет поговорить с супругой доктора.
– Со мной?
Встревоженная, она рассматривала грубый, шершавый кусок картона с написанной на нем незнакомой фамилией: Эрте. «Кто это может быть?»
– Хорошо, просите.
Частный поверенный Эрте, попав после яркого дневного света в полумрак гостиной, неуверенно щурился, пытаясь что-нибудь увидеть. А она, наоборот, хорошо рассмотрела его топорное лицо с седеющими бакенбардами и выдающеюся нижнею челюстью. То был один из подозрительных ходатаев, вертящихся возле Дворца правосудия. Эти люди словно так и родились – пятидесяти лет, с горькими складками у рта, завистливым взглядом и кожаным портфелем под мышкой. Посетитель уселся на край указанного ему стула, обернулся, чтобы удостовериться, вышла ли горничная, затем методическим движением раскрыл портфель, как бы для того, чтобы поискать в нем бумагу.
– Я должна вас предупредить, сударь, что моего мужа нет, а я совсем не в курсе его дел, – с нетерпеливой ноткой в голосе заявила г-жа Дженкинс.
Нисколько не смутившись, посетитель ответил, перебирая свои бумажонки:
– Я знаю, что господин Дженкинс отсутствует, сударыня. – Он подчеркнул эти два слова: «господин Дженкинс». – Я и пришел от его имени.
– От его имени?
– Увы, сударыня! Положение доктора – вам это, вероятно, известно – в настоящее время крайне затруднительно. Неудачные операции на бирже, крах большого финансового предприятия, в которое он вложил свои капитал, – Вифлеемские ясли – ноша слишком тяжелая для одного человека, – все эти потери, вместе взятые, вынудили его принять героическое решение. Он продает свой особняк, лошадей, все, что имеет, и дал мне на это доверенность…
Поверенный нашел наконец то, что искал, – одну из тех гербовых бумаг, усеянных сносками и приписками, в которых бесстрастный закон нагромождает порой столько гнусностей и обманов. Г-жа Дженкинс хотела сказать: «Но ведь я здесь. Я бы выполнила все его желания, все его распоряжения…» – но вдруг поняла по бесцеремонности посетителя, по его уверенному, почти дерзкому тону, что ее тоже включили в этот разгром, в эту ликвидацию дорогостоящего особняка, бесполезной роскоши, и что ее отъезд послужит сигналом к распродаже.
Она порывисто встала. Продолжая сидеть, поверенный добавил:
– То, что мне остается сообщить вам, сударыня (о, она это знала, она могла сама сказать то, что ему оставалось еще сообщить!), столь тягостно, столь щекотливо… Господин Дженкинс покидает Париж надолго и, боясь подвергнуть вас случайностям, превратностям новой жизни, которую он собирается начать, боясь отдалить вас от нежно любимого сына, в чьих интересах, может быть, лучше…
Она больше не слушала его и не видела. Он разматывал клубок своих тягучих фраз, а г-жа Дженкинс, почти обезумев от отчаяния, прислушивалась к поющей в ней назойливой мелодии, преследовавшей ее в момент, когда все вокруг нее рушилось, подобно тому как в глазах человека, который тонет, запечатлевается последнее, что он видит:
Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье…
И вдруг чувство гордости вернулось к ней.
– Довольно, сударь! Все ваши хитросплетения и громкие слова – только лишнее оскорбление. На самом деле меня просто выгоняют, выбрасывают на улицу, как служанку.
– Сударыня, сударыня!.. Положение и без того тяжелое, не будем обострять его еще словами. Изменив свой modus vivendiгосподин Дженкинс расстается с вами, но сердце у него при этом обливается кровью, и предложения, которые мне поручено вам передать, являются доказательством его чувств к вам. Во-первых, что касается обстановки и носильных вещей, я уполномочен дозволить вам взять…
– Довольно!
Она бросилась к звонку.
– Я ухожу! Скорее шляпу, накидку, что-нибудь! Я очень спешу…
Пока горничная выполняла ее приказание, она успела добавить:
– Все, что здесь, принадлежит господину Дженкинс у. Пусть он этим распоряжается по своему усмотрению. Мне от него ничего не надо… Не настаивайте… Это бесполезно…
Ходатай и не настаивал. Он выполнил свое поручение, остальное его не интересовало.
Она спокойно, неторопливо, старательно надела шляпу перед зеркалом; горничная прикрепила вуаль, поправила на плечах складки накидки; затем г-жа Дженкинс осмотрелась вокруг, припоминая, не забыла ли она что – нибудь ценное. Нет, ничего, письма сына были у нее в кармане; она никогда не расставалась с ними.
– Прикажете подать карету?
– Нет, не надо.
И она ушла.
Было уже около пяти часов вечера. В эту минуту Бернар Жансуле выходил из Законодательного корпуса, ведя под руку мать. Как ни была тяжела драма, разыгравшаяся там, эта драма, внезапная, непредвиденная, лишенная всякой торжественности, глубоко интимная, была еще тяжелее, – такие драмы случаются в Париже в любое время дня и ночи, и, быть может, именно это придает его воздуху ту наэлектризованность, тот трепет, который так возбуждает нервы. Погода была прекрасная.
1 Образ жизни (лат.).
Улицы богатых кварталов, широкие и ровные, как проспекты, блистали в уже тускневшем свете дня. Их оживляли открытые окна, балконы, полные цветов, зелень бульваров, такая легкая, такая трепетная среди прямых и суровых рядов каменных зданий. Г-жа Дженкинс шла быстро, шла наугад, в каком-то горестном забытьи. Какое ужасное, какое стремительное падение! Пять минут назад она была богата, окружена уважением и комфортом, она жила на широкую ногу. А теперь у нее ничего нет. Нет даже кровли над головой, даже имени. У нее есть только улица.
Куда идти? Что делать?
Сначала она подумала об Андре. Но признать свою ошибку, краснеть в присутствии почтительного сына, плакать при нем, сознавая, что она не имеет права на утешение, – это было свыше ее сил… Нет, ей оставалась только смерть. Умереть как можно скорее, избавиться от позора, исчезнуть навсегда, воспользоваться роковой развязкой всех безвыходных положений… Но где умереть? Как? Есть столько способов уйти из жизни! И она мысленно перебирала их, продолжая идти. Вокруг нее бурлила жизнь, такая жизнь, которой не хватало зимнему Парижу: на свежем воздухе расцветала вся его роскошь, все его изящество, которые можно наблюдать в этот час дня, в это время года возле церкви св. Магдалины и ее цветочного базара, там, где воздух насыщен ароматом гвоздик и роз. На широком тротуаре, где выставлялись напоказ наряды, шуршанье которых сливалось с шелестом обновленной листвы деревьев, что-то напоминало приятную встречу в гостиной – знакомые лица гуляющих, улыбки, сдержанные приветствия. И вдруг г-жа Дженкинс с беспокойством подумала о том, что лицо ее искажено мукой, что у людей могут возникнуть всевозможные предположения при виде того, как она бежит, озабоченная, никого не замечая, и она пошла медленнее, словно гуляя, задерживаясь у витрин. Цветистые, воздушные вещи в окнах говорили о путешествиях, о жизни за городом – легкие юбки для прогулок по песчаным дорожкам парка, шляпы, окутанные газом для защиты от солнца на пляже, веера, яркие зонтики, большие сумки. Она пристально рассматривала эти ухищрения моды, не видя их. Вглядываясь в свое смутное, бледное отражение на светлых стеклах, она видела себя лежащей неподвижно на кровати в меблированных комнатах, спящей тяжелым сном от принятого снотворного, или нет: она лежит под лодкой, причаленной к берегу, и медленно погружается в тину. Что лучше?
Она колебалась, думала, сравнивала. Затем, приняв решение, быстро пошла дальше решительными шагами женщины, неохотно отрывающейся от искусных соблазнов витрин. В ту самую минуту, когда она двинулась вперед, маркиз де Монпавон, изысканный и элегантный, с цветком в петличке, приветствовал ее издали щегольским поднятием шляпы, столь приятным женскому самолюбию: то был высший шик приветствия на улице – не наклоняя головы, высоко поднять шляпу. Г-жа Дженкинс ответила ему, как истая парижанка, еле заметным движением – слегка повернула корпус и улыбнулась глазами. При виде этого обмена светскими любезностями среди праздника весны никто бы никогда не заподозрил, что одна и та же зловещая мысль руководила этими случайно встретившимися людьми, шедшими в разные стороны, но к одной и той же цели.