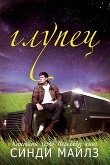Текст книги "Набоб"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Вдруг прямо перед ними выделились на светлом фоне фигуры всадников, вначале смутные, с трудом различимые; мужчина и женщина на прекрасных лошадях въезжали в таинственную аллею среди золотистых полос, среди теней от листьев, среди солнечных бликов, усеявших землю; эти блики двигались, играя и образуя прихотливые узоры на приближавшихся всадниках, от сбруи лошадей до синей вуали амазонки. Всадники ехали медленно, неровным аллюром, и Алине и Полю, скрытыми за густыми деревьями, было видно, как, поскрипывая новой кожаной сбруей и звякая гордо встряхиваемыми удилами, белыми от пены, точно после бешеного галопа, прошли два породистых коня; сидевших на конях мужчину и женщину сближала узкая тропинка. Одной рукой он поддерживал ее гибкую талию, затянутую в корсаж темного сукна; она положила руку на плечо спутника и нежно склонила к нему маленькую головку, скрытую тюлем вуалетки.
Этого любовного объятия, убаюкиваемого нетерпеливым шагом придерживаемых горячих лошадей, этого поцелуя, спутавшего поводья, этой страсти, которая блуждала по лесу, среди бела дня, с таким пренебрежением к тому, что скажет общество, было бы достаточно, чтобы выдать герцога и Фелицию, если бы их и так нельзя было узнать по гордому и чарующему облику амазонки и по аристократической непринужденности ее спутника, по бледности его лица, лишь слегка порозовевшего от скачки и чудодейственных пилюль Дженкинса.
Герцога всегда можно было встретить в Булонском лесу в воскресенье. Он любил, так же как и его повелитель, показываться парижанам, поддерживать свою популярность во всех слоях общества. К тому же герцогиня никогда не сопровождала его в этот день, и он мог, не стесняясь, сделать привал в сельском домике Сент – Джемс, известном всему Парижу; на его розовые башенки, вырисовывавшиеся между деревьями, показывали друг другу, перешептываясь, школьники. Но надо было быть такой сумасшедшей, такой дерзкой, как Фелиция, чтобы выставить себя напоказ, погубить навсегда свою репутацию… Заглушенные расстоянием стук копыт, шорох задетых кустарников, смятая и вновь распрямившаяся трава, раздвинутые и вновь сомкнувшиеся ветви – вот все, что осталось от этой встречи.
– Вы видели? – спросил Поль.
Она видела и все поняла, несмотря на свою душевную чистоту; краска стыда покрыла ее лицо – стыда за ошибки тех, кого любишь.
– Бедная Фелиция! – прошептала Алина; она жалела не только промелькнувшую перед ними несчастную девушку, забывшуюся до такой степени, но и того, кого этот поступок должен был поразить в самое сердце.
Однако Поля де Жери ничуть не удивила эта встреча – она подтверждала уже возникшие у него ранее подозрения и оправдывала его инстинктивное отдаление от очаровательницы, начавшееся во время их недавнего совместного обеда. И все же ему было приятно, что Алина его жалеет, приятно уловить сочувствие в ее голосе, ставшем еще более нежным, в этой руке, которая крепче оперлась на его руку. Как дети, притворяющиеся больными, чтобы испытать радость материнской ласки, он позволял утешительнице отвлекать его от горестных мыслей, говорить ему о его братьях, о Набобе и о предстоящем путешествии в Тунис – в чудесный край, если верить бывавшим там.
– Вы должны почаще писать нам длинные письма обо всем интересном, что увидите в дороге, о местах, где будете жить… Гораздо яснее видишь тех, кто вдали, когда отчетливо представляешь себе окружающую их обстановку…
Продолжая беседовать, они дошли до конца тенистой аллеи, выходившей на огромный луг, запруженный колясками, всадниками, сменявшими друг друга, и толпой, которая отсюда казалась топчущейся в пушистой пыли, смутно напоминая сбившееся в кучу стадо. Поль замедлил шаги; последние минуты уединения придали ему смелости.
– Знаете, о чем я думаю? – сказал он, взяв руку Алины. – Так приятно чувствовать себя несчастным, если утешать будете вы!.. Но как ни драгоценна для меня ваша жалость, я не могу позволить вам сочувствовать воображаемому горю. Нет, мое сердце не разбито, напротив, в нем теперь еще больше сил, еще больше желания жить. И если бы я сказал вам, какое чудо спасло его, какой талисман…
Он протянул ей маленькую овальную рамку, окружавшую профиль без теней, простой контурный набросок карандашом, – она узнала себя и удивилась, что она так хороша, словно это было ее отражение в волшебном зеркале Любви. На глаза ее навернулись беспричинные слезы, вырвался на волю источник, скрытый в ее девичьей груди.
Поль продолжал:
– Этот портрет принадлежит мне. Он был сделан для меня. Однако перед отъездом на меня нашло сомнение… Я хочу получить его от вас… Возьмите его, и если найдете более достойного друга, человека, который полюбит вас более глубокой, более преданной любовью, я разрешаю вам отдать ему этот портрет…"
Она оправилась от смятения и, глядя де Жери прямо в глаза, сказала серьезно и ласково:
'– Если бы я слушалась только сердца, я знала бы, что вам ответить: я ведь тоже люблю вас. Но я не свободна, я не одна – Взгляните туда…
Она показала на отца и сестер; подавая им издали знаки, они догоняли их.
– Ну, а я? – живо спросил Поль. – Разве на мне не лежат такие же обязанности, такие же заботы? Мы оба – вдовствующие главы семейств. Разве вы не хотите полюбить моих родных так, как я люблю ваших?
– Правда? Правда? Вы оставите меня с ними? Я буду Алиной для вас и по-прежнему Бабусей для всех наших детей?.. О, тогда! – воскликнула девушка, сияя радостью. – Вот мой портрет, возьмите его… а с ним и всю мою душу, навеки…
XVIII. ПИЛЮЛИ ДЖЕНКИНСА
Примерно через неделю после происшествия с Моэссаром, внесшего новое осложнение в ужасающую путаницу его дел, Жансуле, выйдя в четверг из Палаты, велел отвезти себя в особняк де Мора. Он еще не был там после стычки на Королевской улице, и при мысли, что он встретится с герцогом, по его толстой коже бегали мурашки, словно у школьника, отправляющегося к директору после драки в классе. И тем не менее надо было вынести всю тяжесть этой встречи. В Палате ходили слухи о том, что Лемеркье закончил свой доклад, доказывавший необходимость кассации выборов, – шедевр логики и злобы, который поможет ему легко одержать победу над Набобом, если только де Мора, всесильный в Палате, не пожелает призвать его к порядку. Дело, как видите, принимало серьезный оборот, и недаром щеки Набоба пылали в то время, как он изучал, глядя в зеркальные стекла кареты, разные выражения своей физиономии, улыбки придворного льстеца, стараясь придумать, как бы половчее ему войти, как бы пустить в ход одну из тех добродушных и нахальных выдумок, которые помогали ему снискать благоволение Ахмеда и теперь еще оказывались полезными во дворце французского сановника. Все это сопровождалось у него сердцебиением и тем легким ознобом, который предшествует решительным действиям, хотя бы и предпринятым в раззолоченной карете.
Подъехав к особняку со стороны Сены, он был очень удивлен, увидев, что швейцар этого подъезда, как в дни больших приемов, направляет экипажи на Лилльскую улицу, чтобы ворота оставались свободными для выезда. «Что тут происходит?» – подумал слегка встревоженный Набоб. Может быть, концерт у герцогини, благотворительный базар, какое-нибудь празднество, на которое де Мора не пригласил его из-за недавно учиненного им скандала? Беспокойство Жансуле усилилось, когда, проехав парадный двор среди стука захлопывающихся дверец и непрерывного шуршанья колес по песку, а затем, войдя в подъезд, он очутился в огромном вестибюле, где было полно народу. Все эти люди не входили ни в одну из внутренних дверей и лишь в беспокойстве расхаживали взад и вперед вокруг стола швейцара, где записывались прославленные имена знатного Парижа. Казалось, над домом пронесся порыв разрушительного ветра, который унес какую-то долю его величественного покоя и позволил тревоге и опасности вторгнуться в его безмятежность.
– Какое несчастье!
– Это ужасно…
– И так внезапно!..
Люди встречались и расходились, обмениваясь отрывистыми замечаниями. У Жансуле мелькнула страшная мысль.
– Герцог болен? – спросил он одного из слуг.
– Ах, сударь!.. Он при смерти… До утра не протянет…
Если бы крыша дворца свалилась на голову Жансуле, то и она не оглушила бы его сильнее. В глазах у него замелькали красные пятна, он пошатнулся и опустился на одну из длинных, обитых бархатом скамеек около большой клетки с макаками. Обезьяны, до крайности возбужденные этой сумятицей, зацепившись хвостами и маленькими лапками с длинным большим пальцем за перекладины, висели на них гроздьями и, озадаченные, полные любопытства, усердно строили презабавные гримасы ошеломленному толстяку, уставившемуся на каменные плиты пола и громко повторявшему вслух:
– Я погиб… Я погиб…
Герцог умирал. Он почувствовал себя плохо внезапно, в воскресенье, когда вернулся из Булонского леса. У него начались невыносимые, жгучие боли внутри, словно там кто-то водил раскаленным железом; боли сменялись летаргическим холодом и длительным забытьём. Дженкинса вызвали немедленно, он не сказал ничего определенного, прописал болеутоляющие средства. На следующий день боли возобновились с еще большей силой, сопровождаясь тем же ледяным оцепенением, только выраженным еще резче, как будто жизнь, вырываемая с корнем, яростными толчками выбивалась наружу. Никого из окружающих это не тревожило. «Последствия вчерашней прогулки в Сент-Джемс», – шептали в передней. Красивое лицо Дженкинса было совершенно спокойно. Во время своих утренних визитов он сказал в двух-трех домах о болезни герцога, и то вскользь, так, что никто не обратил на это особого внимания.
Сам де Мора, несмотря на крайнюю слабость и ощущение какой-то удивительной пустоты в голове («полное отсутствие мыслей», – как он выражался), не подозревал всей серьезности своего положения. И только на третий день, когда он проснулся утром, вид тонкой струйки крови, вытекшей у него изо рта и окрасившей подушку, заставил содрогнуться этого изнеженного, изящного вельможу, питавшего отвращение ко всякому человеческому страданию, особенно к болезням, и вдруг заметившего, что коварный недуг подкрался к нему, со всей неопрятностью, слабостью, последствием которой является то, что человек теряет над собой власть – делает первую уступку смерти. Монпавон, войдя вслед за Дженкинсом, уловил взгляд министра, внезапно омрачившийся пред лицом страшной истины, и ужаснулся разрушительным переменам, происшедшим за несколько часов в изможденном лице де Мора, на котором морщины, свойственные его возрасту и только что появившиеся, слились со страдальческими складками; вялость мышц говорила о серьезных внутренних поражениях. Он отвел Дженкинса в сторону, пока герцогу, верному светским привычкам, несли все, что было нужно для утреннего туалета в кровати, целое сооружение из хрусталя и серебра, составлявшее разительный контраст с желтоватой бледностью больного.
– Гм… Послушайте, Дженкинс!.. Герцог, видимо, очень плох?
– Боюсь, что да, – шепотом ответил ирландец.
– Но что же такое с ним?
– То, чего он добивался, черт возьми! – со злобой ответил тот. – В его годы нельзя безнаказанно быть молодым. Эта страсть ему дорого обойдется.
Дженкинс был полон злорадства, но он все же сумел его скрыть и, изменив выражение лица, надув щеки так, словно голова у него была налита водой, глубоко вздохнул, сжимая руки старому маркизу:
– Бедный герцог!.. Бедный герцог!.. Ах, друг мой, я в отчаянии!..
– Смотрите, Дженкинс, – холодно сказал Монпавон, высвобождая руки, – вы берете на себя большую ответственность. Герцогу так плохо… фф… фф… А вы никого не приглашаете. Ни с кем не советуетесь?
Ирландец воздел руки к нему, словно говоря: «К чему?»
Монпавон настаивал: необходимо вызвать Бриссе. Жуслена, Бушро, всех светил.
– Вы испугаете его.
Монпавон выпятил грудь – единственную гордость одряхлевшего боевого коня.
– Дорогой мой! Если б вы видели Мора и меня в траншеях Константины…[47]47
крепость в Алжире, 11 месяцев оборонявшаяся от войск французских колонизаторов (1836–1837).
[Закрыть] фф… фф… Мы никогда не опускали глаз… Мы не знали страха… Сообщите своим коллегам, а я беру на себя предупредить его.
Консилиум состоялся вечером, в глубокой тайне – этого потребовал герцог, стыдившийся своей болезни, своих страданий, которые как бы развенчивали его, низводили до уровня обыкновенных людей. Подобно африканским царькам, которые прячутся, умирая, в глубине своих дворцов, он хотел бы, чтобы его сочли вознесенным на небо, преобразившимся, превратившимся в бога. К тому же он не выносил жалости, соболезнований, выражений сочувствия, которыми окружат его изголовье, не выносил плача, подозревая, что он притворен, а если даже он и был искренен, то тем сильнее раздражал его своей обнаженной уродливостью.
Он всегда ненавидел сцены, преувеличенные проявления чувств – все, что могло взволновать его, нарушить его душевное равновесие. Окружающие знали это. Вот почему было дано распоряжение не доводить до него отчаянные, трагические призывы, которые шли к де Мора со всех концов Франции, как к одному из пристанищ, чьи огоньки горят в лесу во тьме ночи, в чьи двери стучатся странники. Не то чтоб он был жесток к несчастным, – он даже ощущал в себе склонность к жалости, но он смотрел на нее как на мелкое чувство, как на слабость, недостойную сильного человека, и, отказывая в жалости другим, он опасался вызвать ее по отношению к себе, опасался поколебать свое мужество. Никто во дворце, кроме Монпавона и камердинера Луи, не знал, зачем пришли три человека, таинственно введенные к министру. Даже герцогиня не знала об этом. Отделенная от своего мужа теми преградами, какие политика и высший свет ставят между супругами в высокопоставленных семьях, она считала, что у него легкое недомогание, болезнь, вызванная главным образом его мнительностью, и в ту самую минуту, когда врачи поднимались по главной лестнице, погруженной в полумрак, ее половина ярко осветилась для одного из тех девичьих балов, которые начала вводить в моду изобретательность праздного Парижа.
Консилиум был обычный – торжественный и зловещий. Врачи не носят более огромных париков, как во времена Мольера, но они по-прежнему облекаются все в то же глубокомыслие жрецов Изрды, астрологов, изрекающих кабалистические формулы и покачивающих головами; им не хватает лишь для вящего комического аффекта старинных остроконечных шапок. Здесь благодаря окружающей обстановке картина приобретала внушительный вид. В просторной комнате, преображенной и как бы увеличенной неподвижностью хозяина, строгие, важные фнгуры окружали кровать, на которой сосредоточивался свет, падавший среди белизны простынь и пурпура занавесей на изможденное, побледневшее лицо, окутанное спокойствием, как покрывалом, как саваном. Медики говорили шепотом, украдкой бросали друг на друга взгляды, перекидывались тарабарскими словами, оставались бесстрастными, невозмутимыми. Но в атом немом, замкнутом выражении лица, какое бывает у врача и судьи, в этой торжественности, которыми наука и правосудие окружают себя, чтобы скрыть свою слабость или свое невежество, не было ничего, что могло бы взволновать герцога.
Сидя на кровати, он продолжал спокойно говорить, глядя вверх. Казалось, что в его взгляде мысль поднималась ввысь, чтобы улетучиться. Монпавон холодно отвечал ему, не поддаваясь волнению, – он брал у своего друга последний урок выдержки. А Луи, прислонившись в глубине к двери, ведущей в апартаменты герцогини, стоял, как призрак молчаливого слуги, обязанного хранить небрежное равнодушие.
Лихорадило только Дженкинса; он один был встревожен.
Полный угодливого рвения по отношению к своим «высокочтимым коллегам», как он выражался, сложив губы бантиком, Дженкинс бродил вокруг торжественного сборища, пытаясь присоединиться к нему, но коллеги держали его на расстоянии и отвечали ему надменно, так, как Фагон – Фагон Людовика XIV – мог говорить с лекарем, призванным к королевскому изголовью. Особенно косился на изобретателя пилюль старик Бушро. Наконец, тщательно обследовав, расспросив больного, они удалились на совещание в маленькую гостиную, обставленную лакированными китайскими вещицами, с блестящими, расписанными стенами и потолком, наполненную тщательно подобранными безделушками, ничтожность которых составляла странный контраст с важностью совещания.
Торжественная минута! Тревога обвиняемого, ожидающего решения суда – жизнь или смерть, отсрочка или помилование!
Де Мора все время поглаживал длинными белыми пальцами усы – это был его излюбленный жест, – продолжал беседовать с Монпавоном о клубе, об артистическом фойе театра Варьете, расспрашивал, какие новости в Палате, как обстоит дело с избранием Набоба, – все это холодно, без малейшей рисовки. Затем, вероятно, устав или опасаясь, как бы его взгляд, беспрестанно возвращающийся к висящей напротив портьере, из-за которой должно сейчас появиться решение его судьбы, не выдал волнения, таившегося в глубине его души, он откинул голову, закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда вернулись врачи. Все те же лица, холодные и зловещие, лица судей, с чьих уст готово слететь роковое слово, решающее участь человека, смертный приговор, – в суде его оглашают безбоязненно, а врачи, чью науку он зачеркивает, избегают его произносить и лишь намекают на него.
– Ну что ж, господа, каково мнение науки? – спросил больной.
В ответ послышались неясно произносимые, фальшивые, подбадривающие фразы, неопределенные советы; затем трое ученых поспешили удалиться, торопясь покинуть больного, чтобы избежать ответственности за трагический исход. Монпавон бросился за ними. Дженкинс остался около постели, сраженный жестокими истинами, которые он услышал во время консилиума. Сколько он ни прижимал руку к сердцу, сколько раз ни повторял свой знаменитый девиз, Бушро не пощадил его. Это был не первый пациент ирландца, который внезапно погибал на глазах ученого-медика, но он надеялся, что смерть де Мора послужит высшему обществу спасительным предостережением и что префект полиции после этого ужасного несчастья отправит «торговца шпанскими мушками» сбывать свои возбуждающие средства по ту сторону пролива.
Герцог понял сразу, что ни Дженкинс, ни Луи не передадут ему подлинного заключения консилиума. Он не настаивал и отнесся терпеливо к их наигранному спокойствию, даже сделал вид, что разделяет его, верит в благополучный исход, который они ему возвестили. Но когда вернулся Монпавон, он подозвал его к себе и, разглядев обман даже сквозь румяна, покрывшие эту развалину, сказал:
– Только, пожалуйста, без притворства… Ты-то мне должен сказать всю правду. Что они говорят? Надежды мало, да?
Ответу Монпавона предшествовало многозначительное молчание, затем он грубо, боясь расчувствоваться, сказал:
– Дело дрянь, мой бедный Огюст…
Герцог выслушал это, не изменившись в лице.
– AI – сказал он просто.
Он машинально дотронулся до усов, но черты его оставались неподвижными. И он немедленно принял решение.
То, что какой-нибудь несчастный, умирающий в больнице, без крова и без близких, не имея другого имени, кроме номера на изголовье, принимает смерть как избавление или переносит ее как последнее испытание, то, что старый крестьянин, засыпающий навсегда, скрюченный, разбитый, одеревенелый, в своей кротовой норе, закоптелой и темной, уходит без сожаления, что он заранее ощущает вкус свежей земли, на которую положил столько труда, – это понятно. Но как много среди них и таких, которых привязывает к жизни нужда, таких, которые кричат, цепляясь за свой скарб, за свои лохмотья: «Я не хочу умирать»… – и уходят, до крови расцарапав себе руки, обломав себе ногти этим последним усилием. Здесь же дело обстояло иначе.
Все иметь и все потерять – это катастрофа!
В наступившем молчании грозной минуты, в то время как из гостиных герцогини до него доносились приглушенные звуки бальной музыки, все, что привязывало этого человека к жизни, – власть, почести, богатство, – все это великолепие должно было уже казаться ему далеким, отошедшим в безвозвратное прошлое. Нужно было обладать исключительным мужеством, чтобы устоять перед таким ударом, не утратив чувства собственного достоинства. Рядом не было никого, кроме Друга, врача и слуги – трех близких людей, знавших все его тайны. Отодвинутые лампы оставляли постель в тени, и умирающий мог отвернуться к стене и растрогаться, думая о своей судьбе. Но нет! Ни одной секунды слабости, никаких бесполезных проявлений чувств. Не сломав ни одной ветви у каштанов в саду, не заставив увянуть ни один цветок на парадной лестнице дворца, приглушая свои шаги мягкими коврами. Смерть пришла, заглянула к этому могущественному сановнику и сделала ему знак: «ПойдемI» И он ответил просто: «Я готов». Уход светского человека, неожиданный, быстрый и благопристойный…
Светский человек! Де Мора был именно светским человеком. Всегда в маске, в перчатках, в манишке, белой атласной манишке, какую носят учителя фехтования в дни больших состязаний, сохраняя незапятнанным, чистым свой боевой убор, все принося в жертву безупречной внешности, которая заменяла ему доспехи, он вкспромтом стал политическим деятелем и, перейдя из гостиных на более широкие подмостки, превратился в политического деятеля высшего ранга благодаря одним лишь своим качествам светского человека, искусству слушать и улыбаться, приобретенному опытом знанию людей, скептицизму и стойкости. Стойкость не покинула его и в смертный час.
Упорно вглядываясь в оставшееся ему короткое время, ибо черная гостья спешила, и он уже ощущал на своем лице дуновение на дверей, которых она не закрыла за собой, он думал лишь о том, чтобы, воспользовавшись этим временем, выполнить все обязанности, связанные с кончиной человека, занимавшего высокое положение, когда ничья преданность не должна остаться невознагражденной и никто из друзей не должен быть скомпрометирован. Он назвал людей, которых он хотел видеть, за ними сразу же послали: велел предупредить правителя его канцелярии и, когда Дженкинс заметил, что это утомит его, спросил:
– Вы ручаетесь, что я проснусь завтра утром? Сейчас у меня подъем… Надо этим воспользоваться.
Луи спросил, сказать ли герцогине. Прежде чем ответить, герцог прислушался к аккордам; они улетали с бала в открытые окна, и там, в ночи, их еще длил незримый смычок.
– Подождем. Мне надо кое-что закончить.
Он велел пододвинуть к кровати маленький лакированный столик, чтобы самому отобрать письма, подлежащие уничтожению. Чувствуя, что его силы слабеют, он подозвал Монпавона.
– Сожги все, – сказал герцог упавшим голосом и, видя, что тот подошел к камину, где, несмотря на приближение лета, пылал огонь, добавил: – Нет, не здесь. Их слишком много… Могут прийти…
Монпавон вынул легкий ящичек из стола и сделал знак камердинеру, чтобы тот посветил ему. Дженкинс рванулся вперед.
– Останьтесь, Луи, вы можете понадобиться герцогу.
Он взял у Луи лампу. Осторожно двигаясь по большому коридору, оглядывая приемные, галереи, где в уставленных искусственными растениями каминах не было заметно ни искры огня, они блуждали, подобно призракам, в тишине и тьме огромного здания, оживавшего только там, справа, где радость пела, как птица на кровле, которая вот-вот обрушится.
– Нигде нет огня. Что нам со всем этим делать? – в полном замешательстве спрашивали друг друга Монпавон и Дженкинс.
Они были похожи на воров, которые тащат шкатулку с ценностями, не зная, как ее взломать. В конце концов Монпавон, потеряв терпение, направился к единственной еще не открывавшейся ими двери.
– Ну что ж!.. Раз мы не можем их сжечь, мы их утопим.
И они вошли.
Куда они попали? Только Сен-Симон, который рассказывает о гибели одного из державных властителей,[48]48
Герцог Луи де Рувруа де Сен – Симон (1675–1755) – французский писатель, автор сорокатомных «Мемуаров о царствовании Людовика XIV и о Регентстве» (впервые изданы в 1829–1830 гг.), являющихся ценнейшим источником по исюрии эпохи. Доде имеет в виду описание смерти Людовика XIV.
[Закрыть] о путанице, которую вносит в этикет, в чины и ранги смерть, особенно смерть внезапная, мог бы дать вам на это ответ… Маркиз де Монпавон своими изнеженными, холеными руками спускал воду. Доктор передавал ему разорванные письма, пачки писем, шелковистых, переливавшихся всеми цветами радуги, надушенных, украшенных вензелями, гербами, девизами, листки, исписанные разными почерками – мелкими, торопливыми, цепкими, опутывающими, убеждающими. И все эти странички крутились одна над другой в водоворотах, которые мяли их, пачкали, которые растворяли слабые чернила, перед тем как дать им исчезнуть в сточной трубе, урчавшей в глубине зловонной клоаки.
Это были любовные письма всех сортов, начиная с записки авантюристки: «Я видела, как вы вчера проезжали в Булонском лесу, ваша светлость…» – и кончая аристократическими упреками предпоследней любовницы, жалобами покинутых и еще свежей страницей недавних признаний. Моипавон знал все эти тайны, ставил имя на каждой из них:
– Это госпожа Моор… Ба! Госпожа д Атис!..
Смесь корон и инициалов, прихотей и старых привычек, загрязненных в эту минуту фамильярной взаимной близостью, – все это тонуло в отвратительном уединенном уголке, при свете лампы, под прерывающийся шум ливня, уходя в забвение постыдным путем. Вдруг Дженкинс приостановил свою разрушительную работу. Два серых атласных конверта затрепетали в его пальцах…
– Кто это? – спросил Моипавон, видя незнакомый почерк и заметив смятение ирландца. – Ах, доктор! Если вы будете все читать, мы никогда не кончим…
Лицо Дженкинса пылало, он держал в руке оба письма, обуреваемый желанием унести их, чтобы упиться ими на свободе, доставить себе сладостные мучения, а быть может, и заготовить себе оружие против неосторожной женщины, поставившей свое имя. Но строгость маркиза смущала его. Как отвлечь Монпавона, как его удалить? Случай представился сам собой. Затерянная в этих же листках крошечная страничка, исписанная дрожащей старческой рукой, привлекла любопытство шарлатана.
– О-о, вот это уже не похоже на любовную записку! – сказал он с наивным видом.
«Герцог, на помощь, я тону! Высшая счетная палата снова сует нос в мои дела…»
– Что это вы читаете? – резко спросил Монпавон, вырывая письмо у него из рук.
И в ту же минуту, изумившись беспечности де Мора, столь небрежно хранившего интимные письма, он представил себе весь ужас положения, в которое поставит его смерть покровителя. Маркиз совсем забыл об этом, весь уйдя в свое горе. Подумав о том, что герцог, готовясь к смерти, может даже не вспомнить о нем, он оставил Дженкинса одного топить шкатулку Дон Жуана и поспешил вернуться в спальню. Но, услыхав громкий разговор, он остановился за портьерой. До него донесся слезливый, как у нищего на паперти, голос Луи, пытавшегося разжалобить герцога своим отчаянием и просившего позволения взять несколько свертков золотых монет, валявшихся в каком-то ящике. О, каким хриплым голосом ответил ему герцог, голосом слабым, едва слышным, в котором чувствовалось усилие больного, вынужденного повернуться, оторвать глаза от дали, уже раскрывавшейся перед ним:
– Да, да… возьми… Но, ради бога, дай мне уснуть… Дай мне уснуть…
Ящики отпирались, запирались, слышалось короткое, прерывистое дыхание… Монпавон не зашел в комнату. Свирепая алчность слуги пробудила в нем гордость. Все что угодно, лишь бы не унижаться!
Сон, которого де Мора так настойчиво требовал, вернее, летаргия длилась всю ночь и утро, с неполными пробуждениями, с мучениями, которые каждый раз успокаивали снотворным. Его уже не лечили, ему пытались лишь облегчить последние минуты, чтобы он проскользнул по этой страшной последней ступени, которая преодолевается так болезненно. Он открывал глаза, уже помутневшие, уставившиеся на витающие тени, на туманные очертания, подобные тем, что встают, дрожа, в волнах перед ныряющим пловцом. В четверг днем, около трех часов, он проснулся окончательно и, узнав Монпавона, Кардальяка и еще двух-трех близких людей, улыбнулся им и выдал одной фразой единственное, что его беспокоило:
– Что говорят об этом в Париже?
Об этом ходили слухи разные и противоречивые, но все говорили только о нем. Распространившаяся с утра по городу весть о том, что герцог де Мора тяжело болен, волновала улицы, гостиные, кафе, мастерские художников, возбуждала споры в редакциях газет, в клубах, в каморках консьержей, в омнибусах – всюду, где развернутые газетные листы сопровождали комментариями эту ошеломляющую последнюю новость.
Де Мора был самым блестящим олицетворением империи. В здании мы видим издали не фундамент, прочный или шаткий, не общий его облик, а позолоченный тонкий шпиль, разукрашенный, ажурный, добавленный для полноты картины. Из всей империи Франции и Европе был виден только де Мора. Шпиль упал – и здание утратило всю красоту форм, дало глубокую, непоправимую трещину. А сколько жизней увлек за собой этот внезапный обвал, сколько огромных состояний поколебали отзвуки сотрясений, вызванных этим крушением! Но ни одно состояние не пострадало так сильно, как у дельца, неподвижно сидевшего внизу, на длинной скамейке возле обезьянника.
Для Набоба эта смерть была его собственной смертью, его разорением; то был конец всему. Он так ясно сознавал это, что, узнав при входе в особняк о безнадежном состоянии герцога, не выразил сожаления, ничего не изобразил на своем лице, а произнес лишь два яростных слова, выражавших всю глубину человеческого эгоизма:
– Я погиб.
Эти слова все время вертелись у Набоба на языке, повторялись им машинально каждый раз, когда весь ужас его положения представлялся ему при внезапных вспышках сознания, как это случается во время опасных гроз в горах, когда неожиданно сверкнувшая молния освещает пропасть до дна, со всеми угрожающими зубцами скалистых стен и щетиною кустарника, который изорвет вас в клочья при падении.
Эта кратковременная острота зрения, какая бывает в момент катастрофы, позволила ему увидеть все подробности. Он видел кассацию своих выборов, почти несомненную теперь, когда нет де Мора, который выступил бы в его защиту; видел последствия этого провала, банкротство, нищету и нечто худшее, ибо когда рушатся неисчислимые богатства, они неизменно погребают под обломками частицу доброго имени человека. Но сколько терний, сколько шипов, царапин и жестоких ран, пока долетишь до дна! Через неделю срок векселям Швальбаха, то есть восемьсот тысяч франков, которые надо заплатить; возмещение убытков Моэссару, который требовал сто тысяч франков, грозя в противном случае потребовать от Палаты разрешения подать на Жансуле жалобу в суд; еще более жуткий процесс, который семьи двух маленьких мучеников Вифлеемских яслей намеревались затеять против основателей этого благотворительного учреждения, и вдобавок осложнения с Земельным банком. Единственная надежда на хлопоты Поля де Жери у бея, но такая смутная, такая несбыточная, такая далекая…