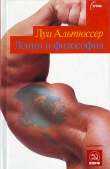Текст книги "Средневековое мышление"
Автор книги: Ален Либера
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава III. Философия и интеллектуалы
Появление интеллектуала в XIII веке явилось решающим моментом в истории Запада. Этот феномен, социологически хорошо описанный историками, заслуживает также и философской оценки. Говорят, что Средние века изобрели новый тип человека – «университетского» человека. Однако средневековый университет более не существует, изменились теоретические занятия и игры. С какой еще стороны нас может интересовать данное изобретение? Что доступно здесь для прочтения и понимания? История предлагает нам ответ, который нужно оценить со всей строгостью. Изложим вкратце этот ответ.
УНИВЕРСИТЕТ НИЩЕТЫ, НИЩЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Средневековый университет был исходным пунктом того разделения труда, реальность которого сегодня легко охарактеризовать: функция современного интеллектуала – критика, что и отличает его от современного университетского преподавателя. Интеллектуал является действующим лицом, актером социальных изменений, университетский профессор предстает как, их безразличный наблюдатель. Пребывая в университете, средневековый интеллектуал предвосхищал это разделение функций, ибо сами условия его появления были в то же время и условиями его отрицания, его отступничества.
«Горожанин», «работник городской стройки», но неразрывно «связанный с привилегиями клерикалов и с латинским языком»; человек, «верящий в прогресс и в разум», но неспособный «освободиться от иерархии дисциплин»; человек культуры, которая соединяла в себе недостатки как классической, так и церковной культуры, – его деятельность имела «узкий социальный базис» и зачастую сводилась «к размерам касты». Связанный корпоративной солидарностью и поддающийся искушениям власти, тогдашний интеллектуал уже нес в себе все будущие прегрешения: непродуктивность памяти и заколдованность знаний, бесполезную автономию и склонность клерков к предательству [32]32
Этот диагноз мы находим в работе: J. Verger, «Condition de lintellectuel aux XIII et XIVе siecles», in Philosophes medievaux…, ed. cit., pp. 47–48. Выражение «городская стройка» (приводимое Верже на с. 40) заимствовано у Ж. Ле Гоффа, определяющего «новый труд интеллектуала как единство исследования и преподавания в городском, а не в монастырском пространстве» (Les Intellectuels…, р. IV).
[Закрыть].
С этой точки зрения, история средневекового университета становится изначально двусмысленной: она предстает как неразумно заключенный брак, последствия которого (развод) целиком ощутимы сегодня. Философский смысл этой авантюры ясен и печален: не имея социальной цели, философы Средних веков поместили философию в социальное узилище, расположившись в удобном для них, но неудобном по своей двусмысленности институте, они обрекли философию на блуждания и пережевывание одного и того же. Вопрос, однако, в том, стоит ли принимать этот диагноз, разделяемый Ж. Ле Гоффом и Ж. Верже?
Во всяком случае, он нуждается в уточнениях.
Философия преподается сегодня во Франции, Италии и Германии точно так же, как она преподавалась в Средние века: имеются auctores и textus, и как прежде – в Афинах, Александрии, Багдаде – их читают и комментируют. Сказать, что Средние века были веком комментирования текстов, значит сказать не все. Следует добавить, что преподавание философии всегда является средневековым, всегда представляет собой текстуализм.
Школьные отсылки к тексту, однако, не единственная долговременная тенденция, восходящая к средневековью. Философская жизнь в университете есть, прежде всего, распорядок дня. Жизнь философа – это curriculum, в нее не вставишь ничего, кроме того, что вкладывалось и в средневековье, – список книг, которые следует прочитать одну за другой.
Существуют ли различия? Они насчитываются тысячами, но достаточно отметить одно. Перед средневековым магистром вставала проблема перехода с факультета искусств на богословский факультет; проблема сегодняшнего магистра заключается в том, что он, став выпускником университета, покидает его. Социальные притязания современного интеллектуала отражают потребность в новых знаниях окружающей социальной среды. Такое стремление к «расширению», по мнению историков, отсутствовало у средневековых университетских преподавателей, которые предпочитали «глубже копать» на собственном поле, даже не мечтая об изменении его границ, полученных в наследство от поздней античности и раннего средневековья. Здесь не могло быть того феномена, которым все объясняется сегодня, – «утечка мозгов» из университетов является расплатой за прежнюю закостенелость.
Тем не менее, Средние века все же не свести к трудолюбивой подготовке исхода интеллектуалов. Идея чуть ли не изначального самоотрицания средневековых интеллектуалов, отстаиваемая Верже («едва возникнув, они соединяют в себе условия собственного отрицания»), представляет собой развитие интуиции Ле Гоффа, следующего за Грамши. Применение схемы Грамши для характеристики университетского интеллектуала как «интеллектуала органического», «высокопоставленного функционера» на службе церкви и государства, парадоксальным образом приводит к результату, состоятельность которого мы считаем своим долгом опровергнуть. Речь идет, во – первых, о переносе в Средние века явления, изобличенного в 1927 г. Жюльеном Бендой, и получившего название «предательство клерков», то есть подчинение «интеллектуала» воле к власти, жажда им денег, его сервильность по отношению к «господам» мира сего, отказ от незаинтересованного исследования. Во – вторых, из Средних веков делают тем самым особую эпоху, в которой интеллектуал, едва появившись, тут же от себя отрекается, – эпоху, в которой неизбежно расходятся интеллектуал и породивший его университет, поскольку университетский преподаватель органичен, а «интеллектуал» избирает критику. Этот диагноз в немалой степени ложен не только для средневековья, но и для «нашей» эпохи: интеллектуала не стоит изображать как ловкача, умело меняющего свои воззрения, что почти автоматически дает критическому интеллектуалу некую социологическую привилегию. Что касается «предательства», «отступничества», то параллели между средневековыми и нынешними университетскими кадрами следует проводить осторожнее: именно сегодня университетский преподаватель стал мелким функционером, от которого «заботливая» власть требует социального оправдания (ныне это именуется «ответом на общественный запрос») всякий раз, как его специальность не вмещается в рамки непосредственной «экономической рентабельности». На языке нынешних министров это означает помимо прочего то, что для института высшего образования «прошлое, богатая традиция могут в иных условиях сделаться препятствием», а потому прошлое теперь должно «доказать свою ценность», обретя новый «социальный вид». Если так называемый «органический интеллектуал» должен большую часть времени социально легитимировать свою дисциплину (коли отсутствуют экономические доводы), то исчезает сама возможность выбора между «органической» и «критической» позициями, «органическому интеллектуалу» остается подбирать крохи и выбирать между выживанием его дисциплины и дурным настроением. Возьмем такой пример. Если существуют соответствующие схеме Грамши бюрократические организации, то профессор философии будет никак не «органическим интеллектуалом», агрессивно рвущимся к власти, а критическим функционером, пытающимся выйти сухим из воды. Меня могут спросить: в чем состоит мой тезис? Как раз в том, что было высказано во Введении. Он заключен в гипотезе, которую я пытаюсь подтвердить на протяжении всей этой книги: вопреки мнению Ле Гоффа противопоставление органического интеллектуала критическому является слишком общим, чтобы быть операциональным; не следует путать интеллектуальную критику с критическим интеллектуалом, университетского преподавателя с «высокопоставленнымфункционером», человека власти с не знающим господ слугой. Короче говоря, не надо считать интеллектуала отрекающимся от самого себя только оттого, что он трудится в университете, как не достаточно «дистанцироваться» от университета, чтобы сделаться интеллектуалом.
С точки зрения истории средневековой философии в способе чтения социологически ориентированного историка отсутствует нечто важное: признав всемогущей идею «карьеры», последний забывает о том, что добровольный отказ от нее в Средние века был столь же реален, сколь и поиск церковных пребенд и бенефициев. Верно, конечно, что «переход к теологии» был целью многих средневековых магистров, а социальное подкрепление теологии способствовало увековечению иерархии дисциплин, но мы знаем, что многие средневековые мыслители отказывались совершать этот переход, предпочитая факультет искусств теологии.
Эти зачастую малоизвестные магистры избирали бенефиций, который им не могла предоставить церковь, – бенефиций наслаждения. Они изобрели состояние – status, – выступавшее и как стабильное ремесло, и как остановка в курсе философии, ими даже был выдвинут своего рода лозунг, выражавший и стремление держаться этого пути, и цель интеллектуальной аскезы, – ibi statur («остановимся на этом»). Дойдя до философии, следует остановиться, все дальнейшее зависит от вкуса (sapor) к мудрости (sapientia). Как писал Альберик Реймсский:
Когда знаешь, что дошел до конца, то нечего уже испробовать, не от чего вкусить удовольствия. Это и называется мудростью – вкус, который можно любить ради него самого, если сумеешь его обрести. Такова философия, на ней и следует остановиться [33]33
Об Альберике Реймсском и его «философском энтузиазме» см.: R. – A. Gauthier, «Notes sur Sieger de Brabant. II. Siger en 1272–1275. Aubry de Reims et la scission des Normands», Rev. Sc. ph. th., 68 (1984), pp. 3—49.
[Закрыть].
Подобный добровольный отказ от дальнейшего движения был лишен санкции, когда Этьен Тампье осудил тезис, согласно которому «нет лучшего статуса, чем занятие философией» (Quod non est excellentior status, quam vacare philosophiae). Парижские осуждения 1277 г. стали крупным интеллектуальным событием XIII века; мы еще вернемся к этому в следующей главе. Пока же позволим себе лишь обыграть двусмысленность термина status в философском «отрицании» сверхъестественного измерения человеческой судьбы. Этот status противоречивым образом объединял университетского преподавателя, философа и интеллектуала, доказательством чему служит то сомнение, которое возникает при передаче значения этого термина, достигая своих крайних точек: от «условий жизни» – через «состояние», «сословие» – к «ремеслу».
Избирая преданность философии (vacare philosophiae), корпорация «артистов» отстаивала право на досуг древних греков прямо в своем Соломенном проулке, ибо философствовать можно и на соломе. К тому же речь идет о стратегии защиты, причем защищаться нужно было не столько от теологии, сколько от богатства и власти. Говоря, что ремесло философа выше всякого другого, имели в виду не «выше богослова», но «выше короля»: Status philosophi perfectior est statu principis, – написал Жак из Дуэ накануне оглашения Syllabus [34]34
Слово для защиты Жака из Дуэ, взятое из его пролога к Метеорологике (ms. Paris, Nat. lat. 14698, f. 62p), было опубликовано в кн.: R. – A. Gauthier, Magnanimite. L’idial de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la thiologie chretienne, Paris, 1951, pp. 468–469 (в примечаниях).
[Закрыть].
Философ утверждает свое место между князем и епископом. Вопрос о местоположении этой по man’s land подразумевает институциональный ответ – на факультете искусств, то есть в сообществе магистров и студентов философии. Этот ответ обрисовывает мир философа не более, чем ссылки на поиски им почестей. Он так же наивен, как сегодняшнее суждение, согласно которому отечеством философии является философский класс лицея. Но проведение подобной параллели все же важно. Перед тем, как слиться с деонтологией общественных функций, светская мораль стала вырисовываться у клириков XIII века, занятых естественной теологией. Стремление к философскому созерцанию оказало воздействие на язык городских коммун и породило форму социальной связи, последствия которой ощущаются и поныне. Независимо от статусных требований и горьких условий жизни, университетский преподаватель и сегодня находит смелость повторять: іЫ statur!
РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕОЛОГИИ
Умаление средневековой философии (скажем, критика со стороны интеллектуалов) имеет долгое историографическое прошлое. В этом пункте современная историческая мысль солидарна с гуманизмом: обладая свободой взгляда на различные аспекты средневековой реальности – социальный, экономический, ментальный, она интериоризировала взгляд Ренессанса лишь в этой области. Мнение о неспособности университетского философа «ответить на вызов эпохи» стало общим местом в литературе, которое почти не изменилось со времен, описанных в романе Гаргантюа и Пантагрюэль, в частности, истории с кражей часов на башне Нотр – Дам. Этот topos – не единственный, мы без труда приведем несколько других:
– приложение ко всей совокупности интеллектуальных стратегий и возможностей эпохи одной модели – конфликта факультетов;
– нейтрализация агонистического измерения университетского образования, будь оно философским или богословским;
– некритическое воспроизведение различия между разумом и верой и институциональное распределение этого различия в отвлечении от многообразия форм рационального и взаимопроникновения этих форм;
– автоматическое приписывание сугубо негативных ценностей предполагаемой «богословской реакции», словно теология по существу чинила препятствия на пути прогресса наук и роста рациональности;
– придание единообразия формам интеллектуальной деятельности, маргинализация групп, не репрезентирующих те идеи, которые образовали «главные течения средневековой мысли»;
– использование рассечения времени на отрезки, троичная периодизация, проектирующая на Средние века ненаучный образ «череды веков», приводящий к развертыванию неумолимой и необратимой последовательности периодов: от обещаний (XII век) к свершениям (XIII век) и от них к упадку (XIV век);
– упорное употребление историографических категорий, теоретическое содержание которых становится все более спорным, а то и более загадочным: томизм, аверроизм, номинализм, августинианство, волюнтаризм, мистицизм, аристотелизм, неоплатонизм.
История философии постепенно освобождается от такого рода подсказок. Тем не менее, сохраняется самая вредная из них – резкое противопоставление разума философов вере богословов, крайнее выражение сценария, унаследованного от времен, намного предшествовавших средневековью, характерного для последних веков поздней античности, когда столкнулись еще живая греческая философия и пытавшееся завоевать ее богословие отцов церкви. Очевидно, что в XIII веке «философия» умерла: прошло уже семь столетий с тех пор, как император Юстиниан закрыл последнюю философскую школу в Афинах. Факт важный, но недостаточный, чтобы охарактеризовать Средние века, – тогда им столь же успешно можно было бы определять и XX век, добавив еще несколько столетий.
Основательная ревизия существующих конвенций требует принятия иной шкалы, где рубеж XII–XIII веков предстанет скорее как «период окультуривания». Известно, что средневековые мыслители до XIII века не знали большей части трудов Аристотеля и практически игнорировали Платона. Конфронтация эллинизма и христианства была для них, как и для нас, одним лишь воспоминанием: их взгляд с высоты веков был обременен и деформирован свидетельствами победителей – отцов церкви, Sancti. Это расстояние, отдалившее философию, было преодолено одним махом, когда на Запад обрушилась масса переводов Аристотеля. Но историческая и культурная дистанция не была тем самым отменена. Возвратившаяся философия пришла в христианский мир извне, явившись из стран ислама. В производстве ввозимого на Запад составного продукта участвовало все Средиземноморье: евреи, мусульмане (арабы и неарабы), христиане Востока – как византийцы, так и схизматики (несториане, якобиты). Перед лицом такого вторжения латиняне заняли различные позиции, спектр которых простирался от простого отрицания до столь же полной ассимиляции импортируемого материала. Но от эітого философия не стала для них снова «греческой».
Средневековая конфронтация философии и веры протекала в культурном контексте, бедном на подлинные документы, лишенном прямой исторической традиции и помогавших памяти подпорок. По нашему мнению, у латинян эта конфронтация была опытом, перенятым у арабов: оппозиция philosophia – theologia действительно может до определенного момента рассматриваться как продолжение борьбы между сторонниками фалъсафы и приверженцами калама. При этом, правда, полного прививания не произошло.
Исламская теология не была однородной: прямого эквивалента мутазилитской критике калама ашаритов (известной латинянам по трудам Маймонида) на Западе не существовало. К тому же, если исключить Аверроэса, который полагал себя лишь последователем Аристотеля, то у арабо – мусульманских философов имелась достаточно широкая область согласия относительно того, в чем Аристотель сочетался с Платоном, как и достаточное число расхождений на этот счет. Поэтому то, что мы назвали «арабизмом», представляло собой конструкцию, созданную путем согласования внешне расходящихся высказываний.
Получая одновременно труды Аристотеля и исламских философов, средневековые схоласты не располагали средствами для сортировки приходящих к ним материалов. У них на глазах история ускорила свой бег, тогда как они не могли уловить ни ее внутреннюю связь, ни управляющие ею законы. Чтобы организовать «приемку» материалов, одни из них перенимают патристические модели, стараясь найти – прежде всего у Августина – некую таблицу соответствий как необходимую предпосылку всякой конфронтации, другие кидаются к арабской доксографии, пытаясь отыскать – прежде всего у Аверроэса – способ превращения философии в естественную историю мышления.
В таких отчасти враждебных условиях возникновение философского идеала и экзальтация vita philosophi в годы, переходные от XIII века к XIV веку представляют собой феномен разрыва, который мог заявить о себе только в университете – институте с унифицирующей структурой и противоположными стремлениями. Сказочники вдруг сами сделались персонажами рассказываемых ими историй.
Именно узнавая в философах себя, некоторые средневековые мыслители смогли заниматься философией. Поэтому ассимиляция философии в латинском мире отчасти проходила через коллективную идентификацию с исчезнувшим сообществом. Но при этом не следует забывать, что парижским магистрам искусств не меньше нашего приходилось напрягать свое воображение, дабы представить себя философами.
Такое изображение философии не Исчерпывает, во всяком случае, всей суммы ее функций в Средние века. Иные «артисты» выдумывали себе тип университетского преподавателя, вещающего о философии, и считали, что они тем самым философствуют, но вопреки всем ожиданиям сама философия, будучи формой концептуального мышления (дискурсивной формацией), охватила все сферы университетской деятельности.
В этом и заключается парадокс: если под «философией» подразумевается практика аргументации, то средневековые богословы философствовали ничуть не меньше, чем философы по «ремеслу». Сегодня это кажется совершенно очевидным: аналитическая философия родилась в Средние века, причем среди теологов. Действительно, логико – лингвистическая трактовка вопросов, манера мышления, формальная и критическая, вышли не из чтения «специализированных» текстов, мы находим их, – по крайней мере, вначале – не в университетской интерпретации Аристотеля, а в том, что составляет квинтэссенцию процедуры средневековой теологии, – в комментариях на Сентенции Петра Ломбардского.
Здесь хорошо видна полная неадекватность исторических моделей, в которых все раскладывается по ячейкам тех или иных институтов. И если у схемы интеллектуального прогресса вообще есть смысл, то искать движение вперед нужно там, где оно происходило. В данном случае оно заключалось в рациональном подходе к парадоксальным объектам и проблемам, предложенным разуму Откровением.
Теологи продвигали философию вперед, размышляя над головоломкой, вроде движения ангела или «точного момента транссубстанциации», то есть развивая нестандартные логики, которые требовались для разъяснения иных процессов, чем в философии Аристотеля, ориентированной на природные процессы. И философия не сводилась к претензиям философов, включая напыщенность Альберика Реймсского, прославлявшего свой брак с Мудростью. Английские богословы XIV века, calculatores, не отождествляли себя с античными философами. Вводя понятия интенсивной величины и пропорции в поле физики, математизируя качества, систематизируя практику воображаемого рассуждения (средневековый набросок «опыта мышления»), они, сами того не желая, вносили немалый вклад в то, что мы сегодня называем философией.
Как интеллектуалы парижские «аверроисты» XIII века и оксфордские «калькуляторы» XIV века жили в разных духовных мирах, как «ученые» они сталкивались с разными проблемами. Общим для них оставался университетский ритуал дискуссий и ораторских поединков. Объединяющим началом всех философских позиций в средневековье был порядок disputatio. Расписанный вплоть до мельчайших деталей университетской конституцией (статутами), диспут позволял процветать и философии идентифицирования, и философии игры – этической идентификации с античными мудрецами (в Париже) и аналитическим языковым играм (в Оксфорде) [35]35
Одной из главных характеристик философской педагогики в Оксфорде было то, что наряду с направляемыми мэтром образовательными диспутами, практиковавшимися в Париже, здесь существовали отличные от них тренировочные диспуты. Первоначальная форма training – так называемый диспут in parviso – свободно сталкивал друг с другом бакалавров (конечно, не без предписаний по части аргументов). Следует заметить, что «посещение паперти» (скорее всего, портика ближайшей к «школе» церкви), то есть участие в не контролируемом магистрами диспуте, поначалу было просто игрой, но в 1409 г. такое участие стало обязательным для кандидата на звание магистра. Не вызывает сомнений то, что это упражнение – свободное от всякого принуждения и институциональной цензуры – способствовало развитию метода воображаемого рассуждения, secundum imaginationem, что и привело к расцвету английской физики и типичной для Оксфорда практики «исчисления». Возможно, эта оппозиция педагогических методов не осталась без последствий для дальнейшего расхождения английской и континентальной философии, что сказалось и на манере философствования. О disputatio in parviso см.: J. М. Fletcher, «Some problems of collecting terms used in medieval academic life as illustrated by the evidence for certain exercises in the faculty of arts at Oxford in the later middle ages», in CIVICMA. Actes du «Workshop» Terminologie de la vie intellectuelle au moyen age. Leyde – La Haye, 20–21 septembre 1985. Ed. O. Weijers, La Haye, 1986, pp. 43–44; его же «The teaching of arts at Oxford, 1400–1520», Paedagogica Historica, 7/1, 1967, pp. 431–434. О взаимоотношениях Calculatores и об особенностях оксфордского обучения см.: Е. Sylla, «The Oxford Calculators», in The Cambridge History…, ed. cit., pp. 540–563, и «The Fate of the Oxford Calculatory Tradition», in L’Homme et son univers…, ed. cit., pp. 692–698. Об организации и типологии диспутов в Париже см.: Р. Glorieux, «L’enseignement au Moyen Age. Techniques et methodes en usage a la faculte de theologie de l’universite de Paris, au XIIIе siecle», AHDLMA, 35 (1968), pp. 65—186.
[Закрыть].
Это хорошо понимали противники схоластики, а потому все их атаки были обращены именно на практику диспута.
Диспутируют до обеда, диспутируют во время обеда, диспутируют после обеда, диспутируют на публике, без нее, повсюду и в любое время… Сопернику не оставляют времени на объяснения. Стоит ему начать развитие своей мысли, как кричат: «К делу! К делу! Отвечай решительно!» Об истине не беспокоятся, стремясь лишь защитить ранее сказанное. Возражения слишком настойчивы? Их избегают уловками, нагло все отрицают, разят, не глядя, вопреки всякой очевидности. На самые настойчивые возражения, показывающие абсурднейшие следствия посылок, отвечают попросту: «Я признаю это, ибо таковы следствия моего тезиса».
Если кто – то защищается лучше других, его считают умельцем. Диспут портит характер не меньше, чем ум. Кричат до хрипоты, бранясь, оскорбляя, угрожая. Дело доходит даже до тумаков.
Эти выдержки из написанного в 1531 г. Хуаном Луисом Вивесом говорят о полном непонимании схоластического способа мышления. Перенося характеристики игры на психологию актеров, приписывая упрямству и ослеплению индивидов то, что относится к специфике определенного типа диспута – диспута «обязательного» (obligatio), предназначенного для проработки семантических или прагматических парадоксов (insolubilia), – не умея понять значение и правила теории вывода («следования», consequentiae), видя лишь псевдодиалектику в протоколируемой дискуссии о sophismata, Вивес осуждал новейшую и наиболее продуктивную сторону средневековой мысли. Средневековый интеллектуал, каким он виделся Вивесу, годится разве что в предки Диафуарусу Мольера. Связанный традицией и школьными привычками человек ведет непрестанные дебаты о маловажных вещах, доказывает что – то относительно самых абстрактных и самых пустяковых проблем. Безусловно, к 1500 году схоластика глубочайшим образом выродилась и отличалась от той, что существовала в Средние века, но нарисованный гуманистом шарж касается как раз той стороны, которая была по – настоящему средневековой: «университетская» мысль была мыслью агонистической, она целиком подчинялась закону дискуссии.
Центральной проблемой средневекового мышления не был конфликт разума и веры, при котором каждый в зависимости от дисциплины или пассивного выполнения заранее предписанных функций автоматически занимал свое место: философы – на стороне разума, богословы – на стороне веры. В качестве университетских преподавателей и те, и другие мыслили одинаково. Учебный курс, методы работы были одинаковыми на обоих факультетах, а истинный разлом проходил по линии различия в типах рациональности. Но это уже иное деление, другая градация.
Обращаемся ли мы к философии или к теологии, средневековый университет был вместилищем Разума. Именно в университете греческая, еврейская и арабская рациональность встретились с разумом латинским. Не следует удивляться тому, что мир от этого не изменился полностью. Быть может, как полагает Ж. Верже, средневековый интеллектуал «не обладал достаточно обостренным сознанием своей роли в обществе того времени, – той критической роли, которая кажется нам сегодня принадлежащей исключительно интеллектуалу» [36]36
«Condition de l’intellectuel…», p. 48.
[Закрыть]. Зато совершенно очевидно, что он обладал достаточным сознанием своих задач и своего долга, а именно: поддерживать разум в борьбе с властью химер, продвигать его, находясь в движении. Могут заметить, что маршировали тогда, не сходя с места, – ходоки разума топтались в собственном квартале. Но это неверно. Если уж использовать подобный образ, то речь должна идти о замедленном движении. Это движение хотели бы ускорить, чтобы разом обозреть все явление в целом, но два века не вмещаются в моментальный снимок коллективной биографии. Первой обязанностью историка является улавливание лишенной образов длительности. «Ход столетий» не всегда можно узреть. И все же мы можем отправиться в кино, можем пролистать несколько тогдашних сценариев – у средневековья тоже были свои «режиссеры».
НАКАЗАНИЕ ФИЛОСОФА
Сталкиваясь по ходу обучения с сочинениями Аристотеля, арабских философов и нескольких греческих мыслителей (главным образом с Александром Афродисийским, Порфирием, Проклом и Симпликием), все университетские магистры средневековья, будь они «артистами» или «теологами», в какой – то момент своей карьеры «занимались философией». Пользуясь ею как инструментом в своих толкованиях, экзегезах, дискуссиях и обсуждениях своих проблем, все они, даже будучи страстными противниками philosophi, делали философские высказывания, строили концепции или давали ответы. И в этом смысле все они были интеллектуалами и философами.
Мы ожидаем от философа известного знания философии, причем не столько знания философии, сколько практики философствования, хотя в иных случаях оба эти понятия синонимичны. У философа мы хотим обнаружить потребность в философии, идеал, этику, способ жизни [37]37
См.: P. Hadot, Qu’estce que la philosophic antique? (Folio. Essais), Paris, 1996; J. Domanski, La philosophie, thiorie ou maniere de vivre? Les controverses de l'Antiquiti a la Renaissance (pensee antique et medievale, Vestigia, 18), Paris, 1996.
[Закрыть]. Философ трудится и мыслит, он является «интеллектуалом», но мы подразумеваем «овладевшую им страсть», волю, желание, особую судьбу. Мы ожидаем, что философия (философское существование) является для него одновременно вопрошанием, искушением, влечением и нехваткой. Короче говоря, мы хотим, чтобы философ назывался философом и уповал на философию.
Средневековые мыслители по – разному отвечали на это ожидание. Одни отвечали пламенной защитой философии, в которой преобладала риторика. Другие – лестными заявлениями о намерениях, обольщаясь при этом сами. Иные занимались своим делом, не сказываясь о философии явно, предпочитая, по видимости, говорить о чем – то другом: таковы были «поэты», вроде Данте, или «мистики», вроде Экхарта. Наконец, были и те, в ком их противники видели воплощенную угрозу, а потому они посмертно сделались свидетелями обвинения на процессе в его ретроспективе. Эти «герои» философии стали героями легенды в собственном смысле слова, – сами того не желая, они помогали измышлению истины. Литературный вымысел и идеологическая цензура сыграли особую роль в «рождении интеллектуалов». Мы еще остановимся подробнее на роли цензуры. Но не стоит забывать и о романе, о той негативной агиографии, в которую люди средневековья помещали свои страхи и фантазии. Достаточно привести два примера, разделенные примерно полувеком. Оба они демонстрируют нам образность, передающую – при всей своей искусственности – куда более истинные, хотя и стершиеся образы – образы Симона из Турнэ и Сигера Брабантского.
Симон из Турнэ – наилучший пример превратностей жизни магистра в Средние века. Речь при этом идет не о прометеевском порыве, а о сказочной гордыне, вызвавшей кару, направленную не столько на обладателя избыточных познаний, сколько на человека неблагодарного, злоупотребившего бенефицием.
Для богослова мудрость – это дар Божий. Она обретается не трудом, во всяком случае, не одним лишь трудом. Богословская оценка интеллектуального усилия располагается в пространстве заслуг. Труд интеллектуала есть лишь симптом, зримый признак того, что в нем сокровенно действует благодать. В этой перспективе невозможно обмцрщение усилия, нет места мирской аскезе.
У этой реакционной позиции имеются две функции: социологически ею заранее отвергаются все социальные требования корпорации магистров, психологически она держит труд, а тем самым и мысль, в пространстве священного, в двойственном отношении, при котором мысль разворачивается как озарение души Богом.
История Симона существует в нескольких версиях, на свой манер о ней рассказали Петр из Лиможа, Фома из Кантимпрэ и Матфей Парижский [38]38
Версия Петра из Лиможа (ms. Paris Nat. lat. 15971, f. 198 rb) проанализирована: L. J. Bataillon, «Les conditions de travail des maitres de l’universite de Paris au XIIIе siecle», Rev. Sc.ph. th., 67 (1983), pp. 417–433. Прочие версии и анекдоты относительно Симона из Турнэ упоминаются в работе: J. Warichez, Les disputations de Simon de Tournai, Louvain, 1932, pp. XX–XXIII.
[Закрыть].
Согласно версии Петра из Лиможа, Симон обрел свою ученость – ученость, но не мудрость – благодаря трудам при свече. «Озарение» имеет чисто материальный характер, оно сводится к освещению. Мы имеем дело с детской, шуточной формой проклятия.
Жил один парижский мэтр, слава которого превосходила славу всех прочих. Однажды некто сказал ему:
– Мэтр, вы должны благодарить Бога, давшего вам такую мудрость.
– Я должен благодарить за это, прежде всего, мой светильник, помогавший мне получать знания.
Следует обратить внимание на подбор терминов: указывая на «конкретный» источник обретения учености – там, где собеседник побуждает его возблагодарить божественный первоисток дарованной ему мудрости, – Симон удваивает свои прегрешения. Наказания не пришлось долго ждать, через несколько дней он лишился своей учености. Выносимое в качестве морали суждение жестоко: если Бог забрал то, что считалось обретенным, то оно не было таковым, а было даровано свыше. Такой удар низводит «злого» Симона ниже праха, он возвратился в первоначальное состояние человека – состояние «необразованного пастуха». Этот «проливающий свет» и рассчитанный на проповедников ехетріит входил в число поучений, на противоположном полюсе которых располагался будущий архиепископ Кентерберийский, «добрый» Эдмунд Рич: у него свеча, упав на манускрипт, целиком сгорает, не причинив ни малейшего ущерба пергаменту! Однако ожесточение хроникеров относительно Симона из Турнэ идет куда дальше таких сказаний.
Посмотрим, что писали Матфей Парижский и Фома из Кантимпрэ. По рассказу первого из них, все началось в один прекрасный день 1201 года, когда живший в Париже Симон заявил о своих лекциях на тему таинства Св. Троицы. Этот виртуозный диалектик, тонко все объяснявший и умело руководивший диспутами, был настоящим мэтром – из тех, кто «умеет ставить самые трудные вопросы, на которые до него никто не решался». Поэтому его лекции были весьма посещаемы и слушались со страстью. В знаменательный день Симону не хватило времени, он не закончил рассмотрение предмета. Выстроив аргументы «за» и «против», развив десять тезисов, которые тут же были им опровергнуты, он вынужден был к вечеру объявить о переносе окончательного решения контроверзы на следующий день. Прошла ночь, и на утро все без исключения парижские богословы съехались на заседание. И тогда мэтр торжественно поднялся и громогласно без малейших колебаний вынес «определения» относительно вчерашних вопросов, казавшихся всем неразрешимыми. Он говорил так ясно, так элегантно, притом учение его выглядело в высшей степени христианским, а потому слушатели были просто поражены. Но тут – то и произошел крах. Стоило Симону окончить лекцию, как его окружили ученики, просившие о дозволении записать под его диктовку эти выводы, ибо, как они сказали: «Потеря столь глубокой учености будет неимоверной утратой, если память о ней не дойдет до следующих поколений». Опьяненный этими похвалами Симон утратил всякую меру, он возвел глаза к небу и захохотал, обратившись ко Христу: