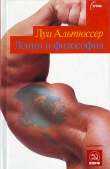Текст книги "Средневековое мышление"
Автор книги: Ален Либера
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Не будет преувеличением сказать, что Штауфены, Фридрих и Манфред (у нас еще будет повод к ним вернуться), считали мусульманский мир своего рода хранилищем культурной памяти всего мира в целом. Насилие положило конец этому периоду любознательности и прямого диалога. Тем не менее, влияние исламской мысли на Запад продолжалось.
Со второй четверти XII века Парижский университет становится ведущим университетом Запада в том, что касается богословских и философских штудий. Достаточно полистать тексты того времени, чтобы понять, что «арабизм» (презрительное словечко Э. Ренана) был тогда, если не модой, то уж, во всяком случае, моделью. От Альберта Великого до Фомы Аквинского или Сигера Брабантского мы сталкиваемся с аристотеликами, будь они «умеренными», «христианскими» или «радикальными», и не найти теологической Суммы или философского комментария, которые не двигались бы в интеллектуальном пространстве, детерминированном «арабской» интерпретацией Аристотеля. Рисуют ли схоласты систематическую картину наук, определяют ли объект и его связи, они всякий раз обращаются к аль – Фараби и Авиценне. Занимаются ли они обычным научным поиском – оптикой («перспективой»), астрологией, алхимией, физикой, – рецепты, принципы, понятия и методы опять же заимствуются у «арабов». Возьмем в качестве примера оптику: все средневековые авторы, такие как Витело (где – то 1250–1275), Роджер Бэкон (ум. 1292), Дитрих Фрейбергский или Джон Пеккам (около 1230–1292) пользовались «перспективой» Альгазена (Ибн аль – Хайтама). Средневековая оптика не существовала бы без арабской.
Толедо, Неаполь, Париж – прервем это путешествие. Вывод очевиден: нам известно, что научный дух Средних веков был живым, открытым и соотносился с многообразием арабских наук.
Сделаем по этому поводу два замечания – одно общее, другое частное. Если проблема соотношения философии и религии нашла свое первое выражение в арабо – мусульманском мире, то модель «кризиса» или «драмы схоластики», используемая для осмысления специфики Средних веков, оказывается, на деле, импортированной моделью. Первое столкновение эллинизма и монотеизма (именуемое конфликтом веры и разума) произошло в мусульманском мире. Учитывая, что «интеллектуал средневековья» по определению должен был испытывать потрясение от столкновения двух противоречивых постулатов, следует иметь в виду, что «философское окультуривание» Европы не было простым заимствованием интеллектуальной техники: вместе с мыслительным инструментарием перенимался и «кризис» с его концептуальным порядком и ментальными структурами. Интеллектуальная «драма» Запада родилась не из встречи христианской веры с греко – арабским разумом, но из интериоризации противоречий арабского религиозного рационализма, из тех решений, которые были даны арабскими мыслителями проблеме соотношения эллинистической философии и мусульманской религии. Иначе говоря, у арабов была позаимствована культурная форма под названием «схоластика», а не формализм «схоластического» разума.
«Аверроизм» не был извращенным воздействием «арабизма» на западную мысль, уже в рамках самого ислама он представлял собой структуру мышления, выражавшую внутренний конфликт рациональности. Будучи импортирован на средневековый Запад, этот конфликт на сегодняшний день отчасти утратил свою силу, так как религиозный рационализм стал важной частью самого христианства. Но структурно этот кризис сохраняется во вполне обмирщенном виде, свидетельством чего является нынешний конфликт школы с множеством интегристских религиозных требований, подступающих со всех сторон. Школа доныне имеет дело со «схоластическим» (то есть со школьным) вопросом. Действительно, «кризис схоластики» сегодня, похоже, покинул поле институтов веры, чтобы перейти на поле институтов разума, словно перенесясь из синода епископов в ученый совет профессоров. Таково неожиданное воскресение «средневековой интеллектуальной проблемы», которая заслуживает осмысления. «Возвращение средневековья» заключается не в подъеме нового фундаментализма, но в активизации древнего кризиса, долгое время считавшегося разрешенным. При этом он вновь «импортируется» нами из тех стран, откуда пришел к нам впервые. Но если для религиозной власти средневековья кризис решался в терминах осуждения и проклятия, то для светской республиканской власти нашей эры решение осуществляется в терминах «допустимого» и «недопустимого».
Еще одно замечание или скорее еще один вопрос. Если разум или рациональность составляют часть того, что Запад усвоил от мусульманского мира, если разум, неправомерно названный «западным», как и свет, пришли с Востока, то Западу следует это учитывать не только в диалоге с другими, но и во внутреннем диалоге с самим собой. Поэтому мы вполне законно можем поставить вопрос о «межконфессиональном» диалоге в Средние века, которому способствовала общая для всех вероисповеданий философия. Этот конкретный вопрос может привести нас к ответу на следующий: стоит ли отчаиваться относительно рационального, стоит ли хранить верность разуму.
БОРОДАТЫЙ ФИЛОСОФ
Конечно, средневековые мыслители немало знали об исламе как таковом, даже если Коран был переведен на латынь по наущению Петра Достопочтенного.
Намерения Петра не были мирными. Как хорошо показал Ж. Ле Гофф, руководящей была «мысль о том, что с мусульманами нужно сражаться не только в военной, но и в интеллектуальной области» [21]21
Ж. Ле Гофф, – Интеллектуалы в Средние века, Долгопрудный, 1997, сс. 20–21.
[Закрыть]. Об этом красноречиво свидетельствуют несколько строк, написанных самим клюнийским реформатором (кстати, защитником Абеляра) по поводу «его» перевода:
Дают ли мусульманскому заблуждению презренное имя ереси или бесчестное имя язычества, против него нужно действовать, а это значит, что против него нужно писать. Но латиняне, в особенности же нынешние, утратили древнюю культуру и, подобно иудеям, изумлявшимся знанию множества языков апостолами, не владеют иным, кроме языка своей родной земли. Потому они и не могли ни распознать чудовищности этого заблуждения, ни преградить ему путь. Оттого воспламенилось сердце мое, и огонь зажег мои мысли. Я вознегодовал, видя, как латиняне упускают из виду причину погибели, и решил предоставить их невежеству силу сопротивляться этой погибели. Ибо никто не мог ответить, ибо никто не знал. Посему я стал искать знатоков арабского языка, позволившего смертельному яду заразить полземли. Силою молитвы и денег убеждал я переложить с арабского на латинский историю и учение этого презренного и даже его закон, именуемый Кораном.
Хотя альтернатива – неведение или война – знавала исключения, ни одно из них не заслуживает в полном смысле слова названия «диалог», которое Абеляр вынес даже в заглавие своего сочинения, – Диалог философа, иудея и христианина. Хотя невежество и преодолевали, но в лучшем случае для того, чтобы навязать рамки гегемонии, чтобы собрать иудеев, мусульман и христиан под эгидой христианства.
В связи с этим можно вспомнить Раймунда Луллия, «бородатого философа».
Однажды в окрестностях Парижа верный встретил неверного. После того, как они поприветствовали друг друга, верный спросил неверного, куда тот идет. Неверный ответил: «Я иду в Париж, где, как говорят в моих краях, много ученых мужей. Я иду туда, чтобы опровергнуть все аргументы, которые они могут выдвинуть в пользу католической веры». В свою очередь, неверный спросил верного, куда тот идет. И верный сказал: «Я иду в страну сарацинов, ибо узнал, что там живут великие философы – сарацины. Я хотел бы опровергнуть все те аргументы, которые выдвигаются ими против католической веры» [22]22
См.: «Liber de Quaestione valde alta et profunda» в кн. Raimundi Lulii opera latina, Corpus Christianorum (Continuatio mediaevalis, t. XXXIV), Turnhout, 1980, p. 181. В своей автобиографии Vita coetanea Луллий сам рассказывает о тех эпизодах, которые приводятся нами ниже. Полный перевод и комментарий содержится у Ch. Lohr et К. Sugranyes de Franch в кн. Philosophes medievaux. Anthologie de textesphilosophiques (XIII – XIVе siecles), ed. R. Imbach et M. – H. Meleard (Bibliotheque medieavale, 1760), Paris, 10/18, 1986, pp. 207–247.
[Закрыть].
Христианин и мусульманин заводят на обочине дороги беседу, которая переходит в один из тех вымышленных диалогов, неоспоримым мастером которых в эпоху Филиппа Красивого стал Раймунд.
Крестовый поход разума начался в парижском предместье и имел определенный политический и культурный смысл: Франция, весь христианский мир становятся полем миссионерской деятельности. С одной стороны, военные экспедиции крестоносцев, раз за разом заканчивающиеся неудачами. С другой – арабская философия, уже полвека «захватывающая» Запад, что еще более тревожно. Вывод напрашивается сам собой. Из внешнего врага сарацин стал врагом внутренним. Он расположился в Париже, университет стал его прибежищем, а философия служит ему мечом. По всему видно, что без битвы не обойтись.
Как не заметить, что в приведенном выше коротком рассказе оружие с обеих сторон одно и то же – силлогизмы, доказательства. Одним словом, разум включается в конфликт интерпретаций и словно интериоризирует насилие. Конечно, можно сказать, что мы имеем дело с фикцией: встреча имела место в тексте Луллия, и за его пределами разум мало на что способен. Но это не так уж важно.
Христианин – араб, родившийся на Майорке, – отсюда, из – за его бороды, его прозвище philosophus barbatus, соответствующее привычной иконографии, – самоучка, паломник и странник, знаток Писания и пишущий на все темы автор, Раймунд Луллий ведет свою неповторимую войну: он пишет на латинском, арабском и каталанском языках о согласии мусульман, евреев и христиан. Но он вовсе не кабинетный ученый. Согласие им программируется и предвидится, он за него молится, «навлекая на себя бесчестье, удары и унижения». Это он на главной площади Бужада «увещевает по – арабски толпу язычников», бросая им слова: «Закон христианства истинен, свят и угоден Богу, закон сарацинов, напротив, ложен и полон обмана. И это я готов доказать». За эту смелую выходку он был «брошен в отхожую яму в тюрьме для воров». В 1294 г. его высылают из Туниса, где он попытался сделать такое же публичное заявление.
В страданиях и унижениях Раймунд начинает истинный диалог, изобретая на свой манер понятие «партнер по дискуссии», столь любезное нынешней немецкой философии. Да и дискуссию он понимает своеобразно. Приводить разумные аргументы – это, на взгляд Раймунда, пользоваться оружием противника. Цель заключается в том, чтобы его обратить. Дабы состоялся диалог, необходимо вступить в область логики веры, для обращения нужна высшая, в сравнении с мусульманской, логика – техника мышления, могущество которого отвечало бы верховной Истине. Имеются два конкурирующих откровения, христианское и мусульманское, но лишь один разум и лишь одна логика – «аристотелевская» логика в своих восточных и западных перевоплощениях. Гений Раймунда состоял в том, что он предложил новую логику, логику откровения, которая должна была принудить мусульман сменить Закон, базируясь на том же разуме.
«Знатокам Закона Мохаммеда», в большом числе окружавшим Раймунда в Тунисе «ради свидетельства в пользу их Закона и обращения его в их секту», он противопоставлял «Искусство, открывшееся божественным, как он считал, образом одному христианину – пустыннику». Раймунд утверждал, что благодаря этому Ars, он смог бы с очевидностью доказать божественную Троичность, «по крайней мере, если бы с ним согласились поспорить со спокойным сердцем на протяжении нескольких дней». Со своей стороны, кади, который по приказу владыки Бужада, в конце концов отпустил его в Геную, начал требовать от него разумных доводов, «ибо сам был знаменитым философом»:
Если ты веруешь в то, что Закон Христа истинен, а Закон Мухаммеда ложен, то приведи необходимые доводы.
Не стоит впадать в иллюзии: у диалога имелись свои границы, чаще всего он ни к чему не приводил. Тем не менее, Раймунд не оставлял своих попыток. Чем объяснить такую настойчивость? Возможны две интерпретации.
Упорство Раймунда проистекает не из непобедимой веры в «рациональность» собеседника, в универсальную принудительную силу естественного разума, а из его призвания мученика, из убежденности в том, что его Ars божественного происхождения. С этой точки зрения Раймунд является Пророком разума в буквальном смысле слова: все начиналось для него с видения распятого Иисуса на Кресте, которое было ему однажды ночью, когда он, сидя в кровати, «сочинял песенку на вульгарном языке, адресованную одной Даме, в которую он был безумно влюблен». За этим последовало остальное.
Вторая интерпретация. Даже если происхождение «Искусства» Раймунда является божественным, по своему содержанию оно есть выражение естественного разума, оно является образом совершенного мышления. Приводить аргументы в пользу христианского Закона значит спасать разум от самого себя, выправлять его средствами самого разума – задача трудная, но осуществимая.
С этой точки зрения интуиция Луллия схватывает единство кризиса: первоначальное миссионерство среди сарацинов с необходимостью переходит у него в борьбу с философами Парижского университета, с magistri artium, поддерживающими тезисы Аверроэса. Ренан ничего не выдумал, он просто воспроизвел изобретение Луллия – «аверроизм», с которым нужно вести двоякую борьбу, как с точки зрения философии, так и с точки зрения Закона. Этим изобретением подтверждается «кризис арабской схоластики», которому (в Париже) можно поддаться и который (в Тунисе или в Бужаде) можно эксплуатировать.
Действительно, с помощью Искусства луллианский разум сознательно вступает в бой с двумя составными частями интеллектуальной культуры Ислама: с каламом – в мусульманских землях, с фальсафой – в Париже. Некая структурная необходимость направляет крестовый поход Луллия от дальних стран к университету. Эта эволюция станет еще примечательнее, если всмотреться в выдвигаемые «фантастом Раймундом» (Raymundus phantasticus) требования, которые он ставит перед христианством. В 1308 г. его программа предусматривала создание четырехпяти монастырей, в которых учили бы «различным языкам неверных», «объединение всего воинства в один орден», введение десятины, целиком предназначенной для «отвоевывания святых земель христианства». После встречи с внутренним врагом, с философами – «аверроистами» Парижского университета, третий пункт программы меняется. Создание школ с изучением восточных языков и координация усилий воинства Христова сохраняются, введение десятины сменяет борьба с аверроизмом.
В автобиографии Раймунд вспоминает свои лекции в Париже в 1309 г., когда он обнаружил философское течение, восходящее к Аверроэсу:
Он заметил, что писания Аверроэса, комментатора Аристотеля, отвратили многие умы от правильной истинно католической веры. Христианская вера стала невозможной для них в модусе мышления, оставаясь истинной лишь в модусе верования.
Эта установка «аверроистов» открывала путь к неслыханному парадоксу: уже не credo quia absurdum, и даже не credo ut intelligam, а новая формула, превосходно выраженная самим Раймунд ом, берется на вооружение:
Credi fidem esse veram, et intelligo quod non est vera. («Верую в то, что вера истинна, и понимаю, что она не истинна»).
На это он отвечал, что если католическая вера не может быть доказана в модусе мышления, то невозможна и ее истинность. После встречи с парижскими философами у евангелизировавшего сарацинов пророка появляется дополнительная миссия – направить разум против «сектантов разума», против парижских сарацинов. Это было прелюдией к целому каскаду пасквилей, начиная с Книги о рождении дитяти Христа, адресованной Филиппу Красивому, в которой шесть благородных дам молятся об искоренении аверроизма, вплоть до написанной по – каталански поэмы Lo соncili, между этими сочинениями помещается Vita coetanea, написанная как обращение к церковным отцам Вьеннского собора, равно как к мирским государям того времени:
Вскоре он узнал, что св. отец, папа Климент V, созывает Вселенский собор во Вьенне в октябрьские календы года 1311. Он предложил свое участие, дабы добиться трех важных для истинной веры вещей. Первая из них – учреждение дома, где собирались бы благочестивые и разумные мужи с целью изучения чужеземных языков и последующего проповедования Евангелия всякой твари. Вторая – объединение всех воинов Христовых в один – единственный орден с целью ведения за морем непрестанной войны с сарацинами, вплоть до отвоевания Святых земель. И третья – скорейшее противодействие учению Аверроэса, дабы наделенные разумом католики, пекущиеся более о чести Христовой, нежели о собственной славе, вступили в борьбу с этим учением и с его сторонниками, ибо таковые явно противятся истине и нетварной мудрости, вечному Сыну Бога – Отца.
Заслуживал ли Аверроэс таких страстей и страхов? В самом ли деле Парижский университет был наводнен вольнодумцами, противниками и извратителями христианства? К этому вопросу мы еще вернемся. Пока что нам следует рассмотреть сущность этого предполагаемого credo аверроизма.
МИФ О ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЕ: БОЭЦИЙ ДАКИЙСКИЙ И РАББИ МОИСЕЙ
Описывая «трудное равновесие между верой и разумом», Ж. Ле Гофф различает аристотелизм Фомы Аквинского, желавшего примиритъ Аристотеля и Писание, и аристотелизм аверроистов, «которые, видя противоречие, принимали его и желали следовать и Аристотелю, и Писанию», вот почему «они изобретают учение о двойственной истине: одна из которых есть истина откровения… другая же – истина одной лишь философии и естественного разума» [23]23
Ж. Ле Гофф, Интеллектуалы…, сс. 141–142.
[Закрыть]. Duplex veritas – двоякая истина или просто двойственность. Таково, по крайней мере, мнение Этьена Тампье в прологе к силлабусу 1277 г.: преступление, которое себя не афиширует, но прибегает к постыдной технике лжецов – вот и все искусство «парижских магистров искусств, которые, выходя за пределы своей специальности» и распространяя свои «омерзительные заблуждения, лучше сказать, свои полные гордыни и пустопоржние безумства», «желают произвести впечатление, будто они не считают реальным то, что сами говорят». Тщетные предосторожности, ибо, маскируя свои слова, «они хотят избегнуть Сциллы, но лишь прибиваются к Харибде». Ведь они не могут не проболтаться: будучи философами, они желают теоретизировать по поводу своей практики, что и выдает их с головой.
Действительно, они говорят, что иные вещи истинны согласно философии, но они не таковы согласно католической вере, как если бы существовали две противоположных истины, словно истина Священного Писания может быть опровергнута истиной текстов язычников, проклятых самим Богом.
Читая Тампье, трудно сказать, кто же изобрел эту философию как если бы. Quasi sint duae veritates contrariae. He artistae ли полагают существование двух противоположных истин? Или это епископ выводит такой «тезис» из их предпосылок? Ответ нам могут дать только тексты. Это – вопрос о фактах: будучи сформулированным, затруднение исчезнет. Возьмем того, кто с легкой руки историков был на какое – то время возведен в чемпионы двойственной истины – парижского мэтра Боэция Дакийского [24]24
Боэций Дакийский был магистром искусств Парижского университета, современником Сигера Брабантского, от него до нас дошло важное сочинение по грамматике «О способах обозначения», De modis significandi. Ему принадлежали также философский манифест «О высшем благе», De summo Ьопо (написан около 1270 г.), и трактат «О вечности мира»; De aeternitate mundi, который питал все споры о латинском аверроизме на протяжении целого века. Попытка систематически представить его мысли дана в ст.: J. Pinborg, «Zur Philosophie der Boethius de Dacia. Ein Uberblick» in Studia medlewistyczne, 15 (1974), pp. 165–185. [Сочинения Боэция Дакийского в русском переводе см. в книге: Боэций Дакийский, Сочинения, М., 2001. Перевод А. В. Апполонова. – Прим, пер.].
[Закрыть]. Его трактат О вечности мира не содержит в себе ничего двусмысленного, в крайнем случае, тут можно найти разве что призыв к разделению властей. Что же он на самом деле говорил? По содержанию – что «разум и вера не противоречат друг другу относительно вечности мира, а основания, по которым иные еретики считают мир вечным, противясь христианской вере, являются ложными». По форме – что у каждой из них имеются свои специфические права и обязанности, в зависимости от предмета и компетенции: философия использует аргументы, и здесь простому верующему нечего сказать, верующий верует, и тогда философия умолкает. Так что все зависит от области действия каждой из них. Отрицая возможность противоречия между философией и верой (коли каждая приходит к истине своими собственными средствами), Боэций не утверждает существования двух противоположных истин, но удовлетворяется следующим положением: «Выводы философов относятся к возможному по природе и опираются на доводы, тогда как вероучение часто покоится на чудесах, а не на доводах». Но в чем тогда проблема? Снимая альтернативу философии и веры, Боэций был, конечно, аверроистом: Жильсон чуть было это не заметил, подчеркивая, что мэтр из Дакии не пользовался словом theologia [25]25
Е. Gilson, «Воесе de Dacie et la double verite», Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age, 22 (1956), p. 84.
[Закрыть]. Но Боэций никогда не «наводил мосты между ними» и не «шел для этого на уловки», как полагает Сажо [26]26
Cm.: G. Sajo, Un traite ricemment decouvert de Boece de Dacie De aeternitate mundi. Неопубликованный текст с критическим введением. В приложении неопубликованный текст Сигера Брабантского Super VI Metaphysicae, Budapest, 1954, p. 71.
[Закрыть], по той простой причине, что он вообще не считал философию и веру противоречащими друг другу, пока каждая из них остается на своем месте. Именно это – возможность мирного сосуществования философа и верующего – и отрицает Тампье. Вот почему он изобретает двойственную истину. Таков подход всевластного богослова, готового декретировать каким должно быть это сосуществование, каким ему быть в сознании и философа, и верующего. Там, где Боэций готов признать свою некомпетентность, епископ требует от него до конца следовать логике, которую тот не выбирал: он должен уступить епископу в том, что лично он – всегда философ и верующий. Теория двойственной истины означает лишь двойственную идентичность, навязанную философу богословом. Вера и философия не противоречат друг другу как разные дисциплины, реализуемые и исповедуемые разными индивидами, философ не может остаться за пределами веры, в глубине души он все равно соотносит возможное с невозможным, обычный порядок вещей – со сверхъестественным. Два ведущих к истине пути не обязательно параллельны в сознании каждого из нас: они либо пересекаются, либо расходятся. Мы находимся между Сциллой – есть нечто истинное для философа, чего верующий не достигает своим разумом, а потому ложное с точки зрения веры, и Харибдой – если я не могу быть философом, не будучи верующим, то я не могу быть философом, не противопоставляя себя вере. Вывод отсюда очевиден и сделал его Раймунд Луллий: Credo fidern esse veram, et intelligo quod non est vera (Верую в то, что вера истинна, и понимаю, что она не истинна).
Чтобы выковать учение о двойственной истине, требовалась известная извращенность ума, некая форма наивности, недоступная простодушию философа. Поэтому не следует удивляться тому, что в текстах самих artistae мы не найдем вложенного в них цензором с его командой. Боэций Дакийский ссылается на относительность точек зрения на одну – единственную истину, епископ превращает эту относительность в релятивизм, в своего рода двоеверие. Аверроэс не имел к этому ни малейшего отношения, но им при таком построении можно было воспользоваться. Разумеется, Аристотель к этому строительству был причастен еще менее.
Почему же для доктрины никогда не существовавшей подбираются слова, вроде «неортодоксальный» или «радикальный аристотелизм»? Как созданная богословом ловушка сделалась методом чтения историка? Причина более или менее понятна: верили больше Тампье, чем Боэцию. Ошибочная перспектива, которая к тому же скрывает самое важное и самое пагубное свое последствие. Занимаясь поисками «аверроистов», сторонников «двойственной истины», попросту забывают о единственном поистине философском движении Средних веков, в котором одновременно учитывались двоякие требования веры и разума. Тупик характерный, но и вполне объяснимый. Истинную угрозу, которую хотел предотвратить Тампье, представлял собой не Боэций Дакийский: как мог тот, кто желал философски опровергнуть «еретиков, полагающих мир вечным» (а именно этим и занимался Боэций), серьезным образом помешать интересам теологии? Требование автономии легко нейтрализуется уловкой внутреннего примирения: философ обязан следовать возложенным на него чужим требованиям. Труднее было противостоять автору, который с самого начала стоял на почве внутреннего конфликта и располагал теоретическими средствами для того, чтобы не впадать в противоречия. Заставить его замолчать можно было только замалчивая его существование. Это и произошло с вычеркнутым из истории смутьяном, которого латиняне называли Рабби Моисей, Моисей Египетский или, изредка, Маймонид. По свидетельству даже Альберта Великого, он был еврейским богословом.
В Йеменском послании Маймонид назвал себя «одним из самым смиренных мудрецов Испании». Будучи андалузским евреем и находясь в прямом контакте с тремя монотеистическими традициями: иудейской, мусульманской, христианской, – он обратил внимание на сложную историю их взаимоотношений с философией – греческой, сирийской, арабской. Досконально зная корни внутренней оппозиции между каламом и фалъсафой в исламском мире, отдавая себе отчет в существовании множества течений среди самих мусульманских богословов, Маймонид был, вероятно, первым в истории средневековой мысли, кто попытался осмыслить причины расхождения между ними. Именно от него латиняне получили крохи с пиршеского стола мусульманской теологии [27]27
В Путеводителе растерянных (I, 71) Маймонид обобщает критику «сектантства», которую Аверроэс адресовал мутазилитам и ашаритам, перенося ее на все теологические толкования Книги. [См.: Моше бен Маймон (Маймонид), Путеводитель растерянных, Москва – Иерусалим, 2000, сс. 386–388, перевод М. А. Шнейдера. – Прим, пер.].
[Закрыть]. Но он открыл им и нечто большее: он, а не Аверроэс, научил их различать философию, веру и теологию, он в общих чертах передал им историю, которая не была ими пережита, но сделалась образцом для подражания, наконец, именно он создал интеллектуальную стратегию, которая была скрыта под именем «двойственной истины».
Проблемой для Маймонида была не вечность мира, но существование Бога. Возможно ли доказательство бытия Бога? Отталкиваясь от истории калама и фалъсафы, Маймонид показывает, что здесь ничего не докажешь без исходных посылок. Выдвинув этот принцип, он проводит строгий анализ: сторонники калама, «спекулятивные теологи» или мутакаллимы, ставили доказательство бытия Бога в зависимость от предшествующей ему демонстрации творения мира (его «новизну» или «изобретение»), он же полагает, что, опираясь на философов, следует начинать с вечности вселенной. Первый метод разрушителен для богословия, поскольку в качестве исходного пункта берет положение (творение мира), которое не может считаться философской или рациональной гипотезой, так как оно не верифицируется никаким доказательством. Плодотворным может быть лишь второй метод, ибо он исходит из положения (вечности мира), которое способно служить гипотезой в научном смысле слова, поскольку не фальсифицируется никаким доказательством. Поэтому, считает Маймонид, богослову следует исходить из гипотезы (в которую верующему нет нужды верить), чтобы рационально и последовательно, то есть философски, доказать три фундаментальных принципа всякой теологии Откровения: существование, единство и бестелесность Бога. При этом не возникает вопроса о двойственности истины. Скорее речь идет исключительно об обосновании философской теологии, о последовательном выведении всех следствий. Начав с различия между верификацией и фальсификацией высказывания – с учения, которое считает истинным то, что не может быть опровергнуто, он удаляет все то, что не может быть подтверждено (не считая его от этого ложным).
И когда изучил я книги упомянутых мутакаллимов, насколько мне это удалось, так же как по мере своих сил изучил книги философов, я обнаружил, что пути всех мутакаллимов относятся к одному виду, хотя и различаются как подвиды. А именно: все они исходят из того, что не следует принимать во внимание сущее таковым, каково оно есть, ибо это всего лишь обычай, и разум допускает, что он мог быть иным… они, На основании своих доказательств, выносят решение о том, что мир возник во времени.
И когда я рассмотрел этот путь, моя душа отвергла его с чрезвычайно глубоким отвращением. И по справедливости отвергла его, ибо все то, что мнят доказательством сотворенности мира, подвержено сомнению и не является окончательным доказательством, – разве только для того, кому неведома разница между доказательством, диалектикой и софизмом. Но для того, кому известны сии искусства, ясно и очевидно, что во всех этих аргументах есть сомнительные моменты, что в них используются недосказанные постулаты.
И известно всякому, занимающемуся умозрением, если он проницателен, привержен истине и не склонен к самообману, что в этом вопросе, а именно в вопросе о сотворенности или вечности мира, невозможно прийти к решению посредством окончательного доказательства и что он – место остановки разума.
Разумеется, Маймонид – никак не Поппер, но это не мешает тому, что подход его вызвал куда больше беспокойства, чем подход Боэция Дакийского, поскольку он явным образом ставил вопрос о личной вере, чтобы ее нейтрализовать.
И коль скоро дело с этим вопросом обстоит таким образом, как же мы можем принимать [сотворенность мира] в качестве постулата, посредством которого обосновывается существование Божества? В таком случае существование Божества будет проблематичным: если мир сотворен, то Божество существует, если же мир вечен, то Божества не существует. И либо дело будет обстоять таким образом, либо мы провозгласим, что сотворенность мира доказана и будем разить мечом во имя этого так, чтобы мы могли утверждать, что мы познали Бога посредством доказательств, – все это далеко от истины.
Правильный же метод, на мой взгляд, это путь доказательств, не подлежащий сомнению, когда существование Божества, Его единственность и нетелесность доказываются путем философов – путем, который опирается на [утверждение о] вечности мира. Это не означает, что я придерживаюсь того убеждения, что мир вечен, или соглашаюсь с ними в этом, но именно на этом пути можно утвердить доказательство и обрести полную определенность относительно трех упомянутых вещей, то есть существования Божества, Его единства и нетленности, без того, чтобы выноситъ решение о том, вечен ли мир или сотворен.
Маймонид никогда не был сторонником философии под девизом как если бы, он держался другой, более строгой максимы, гласившей: какая разница! Такой подход получал различные толкования. Для. иудея – аверроиста Моисея Нарбоннского сам Маймонид оказывается сторонником учения о вечности мира, – он воздерживался от откровенного исповедания этой доктрины лишь потому, что не хотел подрывать основы народной религии. Вот это, действительно, аверроистский подход. Как нам кажется, Этьен Тампье этим вопросом не задавался. Трудно сказать, имел ли он в виду Маймонида, изобретая учение о двойственной истине, быть может, он превратил «все равно» в «как если бы» и применил его к artistae, вероятно, он превратил несомненную угрозу в абсурдную опасность, спрятав гипотетико – дедуктивный подход еврейского богослова за теологическим монстром – учением о двух противоположных истинах, которое никогда не принял бы ни один аристотелик. Тампье и Маймонид обитают в двух разных духовных мирах: епископ не мог признать, что истинное (существование Бога) доказывается, исходя из ложного (вечность мира), раввин не мог согласиться с тем, что можно утверждать истинное (каким бы оно ни было), исходя из неверифицируемых предпосылок (вроде новизны мира), но считал, что это можно сделать, исходя из недоступных фальсификации посылок. Что же до Боэция, то он был ближе к своему цензору, чем к Моисею Египетскому, поскольку полагал, что философия не в состоянии доказать ни вечность, ни новизну мира, а потому она просто не должна о них высказываться. Парадоксально как раз то, что осуждению подвергся этот синтез [28]28
Главный тезис Боэция заключался в том, что философия и вера не противостоят даже там, где они высказывают противоречащие друг другу суждения – эти суждения противоречивы лишь по видимости. Его анализ опирается на фундаментальный принцип аристотелевской логики (О софистических опровержениях, гл. 25), согласно которому невозможно впасть в противоречие, противопоставляя суждение в абсолютном смысле (simpliciter) тому же самому суждению в смысле относительном (secundum quid). Действительно, между утверждением христианина «мир сотворен» и утверждением философа «согласно порядку причин и естественных принципов мир не сотворен» противоречивость ничуть не больше, чем между – «Сократ бел» и «в каком – то отношении Сократ не бел». Сделать из этого противоречие означало бы для доброго аристотелика впасть в паралогизм, который в Средние века был известен под именем fallacia secundum quid et simpliciter. «Гений» Тампье и его комиссии заключался в том, что они сумели понять текст Боэция в релятивистском смысле. Достаточно было изменить пунктуацию и прочесть: «Действительно, мы знаем, что говорящий «Сократ бел» и отрицающий это говорят в определенном отношении истинное, чтобы получить в итоге две «противоположные истины». Текст Маймонида, напротив, не поддавался столь легкой манипуляции.
[Закрыть]. Хотя в этом парадоксе нет и ничего ошеломляющего: позиция artistae является более слабой, чем позиция Маймонида, а потому ее легче было исказить. У «философов» имелась своя роль в рамках существующих институтов, их было важно контролировать. Для автора Путеводителя растерянных это было поздно делать – было достаточно его замалчивать.