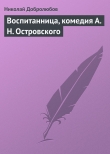Текст книги "Добролюбов: разночинец между духом и плотью"
Автор книги: Алексей Вдовин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Любовь, пережитая Добролюбовым зимой—весной 1857 года, тематически и эмоционально «освежила» его стихи. В уже цитированной дневниковой записи обозначены три поэта, определявшие в это время тематику и тональность его лирики – Лермонтов, Кольцов и Некрасов. Если в ранних текстах (1849–1853) Добролюбов в основном подражает первым двум, то к середине 1850-х годов его язык и образы всё больше определяются поэзией Некрасова, создавшего в эти годы целый ряд знаменитых стихотворений, вошедших в сборник 1856 года, разошедшийся мгновенно. Однако в 1857 году уже Гейне стоит у Добролюбова на первом месте и противопоставляется Лермонтову, Кольцову и Некрасову. Это «освежающее» действие сильных любовных переживаний отрефлексировано Добролюбовым в стихотворении «Еще недавно я неистовой сатирой…», написанном 17 февраля 1857 года – через три недели после дневникового признания в любви к немецкому поэту. Лирический герой решает отказаться от «неистовой сатиры», утомленный «цепным, бесплодным лаем» (отзвук его псевдонима «Лайбов»):
Я понял красоту! Душа полна любовью,
И места нет для ненависти в ней.
Мой стих запечатлен теперь не свежей кровью,
А разве тихою слезой любви моей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проклятий нет… Но подождите, братья!
Забывшись от любви, горя в ней, как в огне,
Прекрасную к груди своей стремлюсь прижать я…
Но – эти цепи видите ль на мне?..
Лишь только протяну я к ней мои объятья,
Как эти цепи страшно загремят…
Пугливо отбежит она… И вновь проклятья
На землю и на небо полетят{190}.
Стихотворение – явный перепев знаменитого некрасовского «Замолкни, муза мести и печали…» (1855) с его финалом: «То сердце не научится любить, / Которое устало ненавидеть». У Некрасова стихотворение проникнуто мрачной элегической интонацией, не оставляющей места надежде. У Добролюбова все попытки лирического героя выработать гармоничный взгляд на мир в обнадеживающем зачине дискредитируются финалом. Прорыв, казалось бы, осуществленный под влиянием Гейне, снимается некрасовской интонацией. Однако в тот же день 17 февраля 1857 года, когда было написано это стихотворение, Добролюбов делает перевод стихотворения Гейне «Когда я вам вверял души моей мученья…» («Und als ich euch meine Schmerzen geklagt…»), где ощутим ключевой прием поэтики «Книги песен» – ирония:
Когда я вам вверял души моей мученья,
Вы молча слушали с зевотой утомленья.
Но в звучное я их излил стихотворенье,
И вы рассыпались в хвалах и восхищеньи{191}.
Здесь слышится как самоирония, так и ирония над романтической ситуацией поэтического признания в любви, когда за восторженной реакцией героини на изысканные стихи скрываются фальшь и безразличие.
Более явственна ирония в добролюбовском стихотворении «Очарование» (5 апреля 1857 года). Здесь снова присутствует некрасовская ситуация борьбы ненависти и любви в душе лирического героя, причем любовь как будто побеждает:
Нигде мой взгляд не примечает
Пороков, злобы, нищеты,
Весь мир в глазах моих сияет
В венце добра и красоты.
Все люди кажутся братьями герою, который готов уже раскрыть им объятия, как вдруг
Мне говорят, я вижу плохо,
Очки советуют носить,
Но я молю, напротив, Бога,
Чтоб дал весь век мне так прожить{192}.
Ироническая концовка содержит и конкретные биографические коннотации: Добролюбов был близорук, по поводу чего он рефлексировал в дневниках и что часто обыгрывалось в мемуарах о нем.
Помимо оригинальных текстов, в эти же дни, 5 и 6 апреля, Добролюбов сделал два перевода из Гейне: «В мраке жизненном когда-то…» («In mein gar zu dunkles Leben…») и «Стоял в забытьи я тяжелом…» («Ich stand in dunkeln Traumen…»). Можно привести еще ряд примеров того, как в один или ближайшие дни Добролюбов переводит очень разные по тематике и интонации тексты. Таким образом, связи между стихотворениями, заданные у Гейне их соотнесением внутри цикла, оказываются разрушенными. Эти переводы хорошо вписываются в «цикл» стихотворений, навеянных отношениями с Терезой, и начинают играть новыми отражениями. Так, например, коллизию «Очарования» и уже цитированного перевода «Когда я вам вверял души моей мученья…» находим в переводе «Кастраты все бранили…» (7 апреля 1857 года). Здесь обнажено противопоставление поэта, тонкого знатока чувства, искренне его выражающего, и певцов-кастратов, которым оно неведомо, но от песен которых дамы приходят в восторг.
В цикле «Возвращение на родину» Добролюбова привлекла не только ирония, направленная на разрушение романтических условностей. Он нашел здесь то, что искал, – пунктирно намеченную идею свободных отношений между мужчиной и женщиной. Именно этот пласт лирики Гейне не был принят многими русскими переводчиками и стал осваиваться только к концу 1850-х годов. Для Добролюбова в 1857-м этот вопрос стоял остро: он постоянно – в дневниках и стихотворениях – рефлексирует над своими «беззаконными» и рискованными отношениями с Терезой Грюнвальд. Оправдание самого факта связи с проституткой потребовало от Добролюбова серьезных интеллектуальных и риторических усилий. Из приведенной выше дневниковой записи видно, что, по его мнению, «они (женщины легкого поведения. – А.В.) не заслуживают того презрения, которому подвергаются: «…их торг чем же подлее и ниже… ну хоть нашего учительского торга?»{193}
В стихотворениях, связанных с Терезой, наблюдается иная картина: созданный Добролюбовым лирический сюжет о спасении «падшей» развивается нетривиально – спаситель оказывается порочнее, чем спасаемая. Дневниковая и поэтическая реальности у Добролюбова не тождественны, но взаимодополняемы.
Таким образом, в контексте размышлений о Терезе и чувстве к ней открывается еще одна возможная причина пристального интереса Добролюбова к лирике Гейне – идея раскрепощения любви. У Гейне она присутствует, но не является доминантой. Наиболее явно она выражена в цикле «Разные» (1834) из книги «Новые стихотворения». Здесь любовь представлена во всём многообразии: по формам воплощения – платоническая, плотская и страстная; по возрасту – юношеская и зрелая; любовь вне норм – к куртизанке, к нескольким женщинам сразу. Добролюбов читал этот сборник, о чем свидетельствует его перевод стихотворения «Die holden Die holden Wünsche blühen…» («Цветут желанья нежно…») из цикла «Новая весна». У Гейне цикл «Разные» в целом продолжает поэтические принципы «Лирического интермеццо» и «Возвращения на родину», но ирония усиливается. Для примера приведем одно из самых иронических стихотворений сборника (перевод Поэля Карпа):
Всё выпито. Ужин окончился наш.
Изрядно хлебнули вина мы.
Задорно глядят, распуская корсаж,
Мои захмелевшие дамы.
Прекрасные груди и плечи у них, –
От страха мне холодно стало.
Адамы в постель забираются вмиг
И прячутся под одеяло.
И обе красавицы сладостно так
Одна за другой захрапели,
А я, озираясь, стою как дурак
У полога пышной постели{194}.
Фривольность присутствует и у Добролюбова в «грюнвальдских» стихотворениях января – июня 1857 года: уже цитированного «Я пришел к тебе, сгорая страстью…» (31 января) и «Многие, друг мой, любили тебя…» (14 апреля), причем в трактовке очень щекотливых ситуаций.
Добролюбов сразу заметил тему раскрепощения любви в цикле Гейне «Возвращение на родину», где она намечена только в двух стихотворениях: № 73 («An deine schneeweiße Schulter...») и № 74 («Es blasen die blauen Husaren...»), образующих микроцикл. Оба они были переведены, соответственно, 4 и 6 февраля 1857 года:
№ 73
Ко груди твоей белоснежной
Я голову тихо прижал,
И – что тебе сердце волнует,
В биеньи его угадал.
Чу, в город вступают гусары;
Нам слышен их музыки звук.
И завтра меня ты покинешь,
Мой милый, прекрасный мой друг.
Пусть завтра меня ты покинешь;
Зато ты сегодня моя.
Сегодня в объятиях милой
Вдвойне хочу счастлив быть я.
№ 74
От нас выступают гусары,
Я слышу их музыки звук,
И с розовым пышным букетом
К тебе прихожу я, мой друг.
Тут дикое было хозяйство, –
Толпа и погром боевой…
И даже, мой друг, в твоем сердце
Большой был военный постой.
Сюжет двух взаимосвязанных стихотворений перекликается с сюжетом еще одного – «Многие, друг мой, любили тебя…» – и строчками «Я гостей сегодня дожидаюсь, / Нам нельзя побыть наедине». Впрочем, не только это указывает на повышенный интерес переводчика к этим текстам. Лишь они из всех двадцати четырех переводов Добролюбова были опубликованы им самим – вставлены в текст его статьи «Песни Беранже» (Современник. 1858. № 12), основной пафос которой состоял в закреплении взгляда на Беранже как на истинно народного поэта, а не только певца гризеток и политического памфлетиста. Для подтверждения прогрессивности взглядов Беранже на увлекающихся женщин Добролюбов приводит указанные стихотворения Гейне в собственном переводе как прекрасную иллюстрацию полной свободы женщины в своем выборе:
«В этом отношении на нас всегда производили сильное впечатление два стихотворения Гейне, составляющие, собственно, одно целое… Мы, кстати, приведем их здесь в переводе, который находится у нас под руками и который не был еще напечатан»{195}.
Лирика Гейне, к которой Добролюбов проявлял устойчивый интерес, стала моделью для осмысления его переживаний, но не вызвала последовательного усвоения поэтических образов. Добролюбов усвоил лишь знаменитую иронию Гейне. И это не случайно. Поэтический язык для оригинальных текстов Добролюбов заимствовал у Некрасова, так как поэтический язык Гейне, специфика которого, по наблюдению Юрия Тынянова, состоит в игре взаимных отражений{196}, оказался далеким от той степени рефлексивности, которая присуща добролюбовским автобиографичным текстам. Добролюбову это и было нужно: он искал подходящий способ «переработать» опыт своего «падения», переживая его полусерьезно и иронически. Так лирика Гейне снабдила русского подражателя и переводчика необходимыми для этого «ресурсами».
В восприятии же Добролюбова противоречия между разными ипостасями Гейне не было. Мысли и чувства, выражаемые в интимной лирике, были составной частью комплекса радикальных идей: Гейне как «барабанщик воинственного легиона молодых деятелей юной Германии» (так назван поэт в рецензии Добролюбова на его стихи, переведенные Михаилом Михайловым) должен был во всех смыслах «уснувших от сна пробудить». В приватной сфере в то же самое время Добролюбов-читатель оказывается страстным обожателем любовных повестей Тургенева, а Добролюбов-лирик пользуется поэтической фразеологией Фета, подражает Некрасову и вдохновляется Гейне.
История с Терезой Грюнвальд, возможно, не стоила бы столь подробного описания, если бы не повлекла за собой существенные изменения в мировоззрении Добролюбова. Столкнувшись с миром «дам полусвета» и обитательниц домов терпимости, Добролюбов очень быстро сменил брезгливое и дидактически-суровое отношение к ним на апологию проституции, которая в его глазах становится теперь символом социальной несправедливости и уравнивается с любой иной «продажей» себя – своего таланта или интеллекта. Новая концепция «падших», разумеется, полностью вписывалась в демократические воззрения начинающего критика и, более того, была подготовлена и чтением Фейербаха, и разговорами с Чернышевским конца 1856-го – начала 1857 года. Добролюбов неуклонно и очень быстро двигался к всё более радикальным взглядам, которые не отставали от передовой европейской повестки. Если внимательно прочитать публицистику и критику Добролюбова 1857–1861 годов, то в ней легко заметить следы новой концепции свободной любви, которую он начинает исповедовать во время романа с Терезой. Например, в статье «Песни Беранже» (1858) Добролюбов разделяет прогрессивные взгляды французского песенника на свободу выбора для женщины: «Это… гуманное признание того, как нелепы и бессовестны всякого рода принудительные меры в отношении к женскому сердцу. Беранже… не может унизиться до того, чтобы позволить себе презирать и ненавидеть женщину за то только, что она, переставши любить одного, отдалась другому»{197}.
В более поздней статье «Луч света в темном царстве» (1860), о которой речь еще впереди, Добролюбов, споря с писателем и критиком Николаем Филипповичем Павловым, назвавшим героиню «Грозы» А. Н. Островского Катерину «падшей» и «безнравственной», доказывает обратное: она не падшая, а, наоборот, утвердившая естественную потребность своей натуры в любви и освобождении от насилия. Так от первого серьезного романа с Терезой протягивается нить к наиболее значимым статьям критика.
Свободная профессия
С конца июня до конца июля 1857 года Добролюбов был в Нижнем Новгороде, куда в следующий раз приедет только в 1861 году, незадолго до смерти. Три недели, проведенные на родине, были потрачены на общение с близкими, знакомство с Владимиром Далем, переписку с однокурсниками. По письмам этого времени хорошо видно: теперь мало что удерживало Добролюбова в родном городе, где он квартировал у двоюродного брата Михаила Благообразова{198}.
А в Петербурге его ждали Тереза (на обратном пути он даже написал стихотворение «Я к милой несусь по дороге большой…»), Чернышевский, многочисленные ученики и знакомые от литературы, которая составляла теперь смысл его жизни. «Я теперь довольно близок к некоторым литературным кругам»{199}, – сообщил Добролюбов Благообразову еще в апреле 1857 года, а из Нижнего он писал своему наставнику профессору Измаилу Срезневскому: «…мне теперь уже, через неделю по приезде, делается страшно скучно в Нижнем. Жду не дождусь конца месяца, когда мне опять нужно будет возвратиться в Петербург. Там мои родные по духу, там родина моей мысли, там я оставил многое, что для меня милее родственных патриархальных ласк»{200}.
Однако необходимо было еще побороться, чтобы остаться в Петербурге и иметь возможность работать на «Современник». Дело в том, что в выпускных документах, подготовленных инспектором института, Добролюбов характеризовался следующим образом: «…не сочувствует распоряжениям начальства, холоден в исполнении религиозных обязанностей, заносчив, склонен к ябеде, подвергался аресту»{201}. Директор института Давыдов полностью одобрил это (скорее всего, им и инспирированное) заключение, поскольку давно таил злобу на Добролюбова и ждал только повода отомстить ему за скандальную историю 1856 года: тогда Добролюбов с друзьями послал в газету «Санкт-Петербургские ведомости» анонимную заметку, что директор Давыдов был высечен своими студентами за казнокрадство и подлость; записка дошла даже до Александра II и наделала много шума в Петербурге{202}.
Интриги Давыдова привели к тому, что, несмотря на высокие выпускные оценки Добролюбова, конференция Главного педагогического института на совещании вынесла решение определить его учителем в Тверскую гимназию, так как по правилам он должен был в течение восьми лет отработать свое бесплатное обучение{203}. Добролюбов, чтобы поправить дело, по совету своего наставника Срезневского добился разговора с Давыдовым, прося о назначении в петербургскую Ларинскую гимназию. Директор соглашался дать направление в 4-ю Петербургскую гимназию с условием, что выпускник изменит свое поведение. Добролюбов промолчал, а через день весь его курс был поражен решением итоговой конференции; когда студенты узнали, что около десяти человек вместо звания старших учителей получили звание младших, «поднялся гвалт»{204}. Добролюбов по просьбе однокурсников сочинил протест на имя министра, за что снова был вызван к директору и отчитан, а среди его однокурсников Давыдов распространил слухи о бесчестье и ренегатстве Добролюбова, который якобы «валялся у него в ногах и просил прощения», выторговывая себе место в обмен на лояльность. Эта история дорого стоила Добролюбову: несколько прежде близких однокурсников отвернулись от него, поверив словам Давыдова; вплоть до 1859 года Добролюбов слал письма Николаю Турчанинову и Александру Златовратскому, снова и снова излагая мельчайшие детали этой истории и уверяя их в своей честности{205}.
Параллельно скандалу с Давыдовым Добролюбов был вынужден вести и другую игру: чтобы обойти решение конференции и волю директора, ему пришлось нарушить субординацию и воспользоваться связями с крупными и благоволившими ему чиновниками. Еще 13 июня он подал просьбу товарищу министра народного просвещения князю П. А. Вяземскому прикрепить его сверх штата к любой из петербургских гимназий. Однако решающую роль в судьбе выпускника в тот момент сыграл гофмейстер князь А. Б. Куракин, который 14 июня также ходатайствовал перед министром А. С. Норовым и его заместителем П. А. Вяземским за учителя своих детей, прося оставить его при них для дальнейших занятий. Сразу же по возвращении в Петербург 30 июля Добролюбов дублирует просьбу Вяземскому разрешить ему остаться в столице и быть сверх штата причисленным к одной из гимназий «для занятий с учениками филологическими предметами»{206}. Только в середине августа дело разрешилось – в пользу Добролюбова: вместо распределения в Тверь выпускник был назначен домашним наставником к детям князя Куракина, о чем Вяземский уведомлял всех участников этой истории{207}. Служба эта, разумеется, была фиктивной, но позволила Добролюбову остаться в столице и заняться литературной деятельностью. У Куракиных он числился до мая 1858 года{208}.
В начале августа Добролюбов нанял квартиру на Итальянской улице и принялся систематически писать рецензии для «Современника». Как происходило вхождение критика в состав редакции, мы рассмотрим в следующей главе.
Послесловием же к истории конфликта с Давыдовым стала статья Добролюбова в «Колоколе» 1858 года «Партизан Давыдов во время Крымской войны». Там в саркастической манере рассказывалось о подлостях директора института, который из желания выслужиться перед министром объявил, что студенты якобы настолько исполнены чувства патриотизма, что желают отправиться на театр военных действий. Так это было или нет, сейчас установить трудно. Зато по источникам достоверно известно, что в институте назревали другие проблемы: в 1855–1857 годах из-за некачественных продуктов и скудости питания смертность студентов существенно выросла. В итоге в 1859 году Главный педагогический институт был расформирован, а его воспитанники переведены в Санкт-Петербургский университет.
Глава третья
БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА,
«РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА»
«Современник» как «настоящее дело»
В 1857 году заработок Добролюбова существенно увеличился. В ноябре по протекции Чернышевского он стал постоянным сотрудником отдела библиографии и рецензий в «Современнике» и гарантированно получал от Некрасова 150 рублей в месяц, а иногда и сверх того{209}. Но и работы с этой осени сильно прибавилось – для каждого номера журнала Добролюбов писал сразу по несколько рецензий, а чуть позже – больших статей. В январе 1858 года Чернышевский добился для Добролюбова еще одной работы: по договору тот обязался вычитывать вторые корректуры журнала за 50 рублей в месяц. Несмотря на то что поначалу молодой корректор столкнулся с непредвиденными трудностями (не знал, например, как правильно транслитерировать на русский английские имена собственные{210}), дело спорилось. Начиная с 1858 года ежемесячный доход Добролюбова от работы в «Современнике» был около 200 рублей, а иногда достигал и трех сотен; кроме того, он продолжал давать уроки до самого отъезда за границу{211}. Более того, с 1859 года Добролюбов, будучи полноправным членом редакции, получил возможность брать из кассы журнала необходимые суммы в долг или в счет будущих гонораров. Так, в феврале ему было выдано 200 рублей. Эти суммы шли на самые разнообразные нужды: на покупку мебели для квартиры, на помощь Терезе Грюнвальд, на содержание перевезенных из Нижнего двоих младших братьев, на лечение в Старой Руссе, а потом в Европе. Всего за 1859 год из кассы «Современника» ему было выдано 4362 рубля 50 копеек. Возвратил он далеко не всё: к концу 1861 года, перед его смертью, долг журналу составлял около трех тысяч рублей{212}, даже с учетом того, что финансовая ситуация в Нижнем постепенно улучшалась: летом 1856 года все долги с отцовского дома были списаны, братья и сестры начали получать небольшой доход от сдачи его внаем{213}.
Пока Добролюбов не печатал крупных статей в отделе критики, он болезненно воспринимал себя как литературного поденщика, вынужденного работать ради того, чтобы прокормиться и содержать многочисленную родню. Это самоощущение хорошо видно в письме Елизавете Никитичне Пещуровой от 7 мая 1858 года: «Я вовсе не стою в ряду писателей, приобретающих себе имя. Я принадлежу к тому безыменному легиону, на котором лежит черная журнальная работа, безвестная для публики. Я из числа тех, которые поставляют в журналы балласт, никогда и никем даже не разрезываемый, не только не читаемый. Мои статьи имеют интерес только для меня, потому что доставляют мне деньги»{214}. Если пользоваться современной терминологией, предложенной социологами культуры, Добролюбов разводит здесь экономический и символический капиталы. Его имя (символический капитал) пока оказывается отделенным от финансовой стороны его работы и не приносит ему дивидендов.
Журнальная карьера критика складывалась так, что до самой смерти он не мог подписываться полным именем и слава начала закрепляться за его псевдонимами «-бов» или «Лайбов», которые постепенно стали известны читающей публике. Иными словами, имя всё же начало приносить доход – но лишь потому, что Добролюбов быстро вошел в состав редакции «Современника» и имел «дивиденд» от прибыли журнала (например, за 1861 год он составлял пять тысяч рублей – сумму по тем временам довольно большую). Анонимность, судя по всему, переживаемая Добролюбовым довольно драматично, стала проблемой для его последователей и близкого круга. После смерти критика многие из них приложили немало усилий, чтобы конвертировать псевдонимы в репутацию и слить ее с фамилией Добролюбов. Для этого понадобилось в первую очередь издать собрание его сочинений, о котором речь пойдет ниже. Пока же вернемся к истории о том, как Добролюбову удалось занять основательное положение в редакции «Современника».
Еще в сентябре 1857 года Некрасов, довольный рецензиями молодого сотрудника, написал Тургеневу: «Читай в Современнике «Критику», «Библиографию», «Современное обозрение», ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый»{215}. Тургенев в ответном письме никак не прореагировал на пожелание друга, но о Добролюбове и его статьях в журнале он уже знал – заметил их еще в 1856 году: «Кто этот Лайбов? Статья весьма недурная». То же самое он сообщил Ивану Панаеву: «Статья Лайбова весьма дельна»{216}; осведомлялся у своих петербургских корреспондентов, литераторов братьев Колбасиных, по поводу первой большой статьи Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» (Современник. 1856. № 8/9). Другой же сотрудник «Современника» и приятель Некрасова, тонкий эстетический критик Василий Боткин, нашел статью о «Собеседнике» «сухой»{217}.
В 1856 году редакторы журнала Некрасов и Панаев заключили с четырьмя писателями – Львом Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем – «обязательное соглашение» о их «исключительном сотрудничестве» в «Современнике»: те должны были публиковать свои сочинения только в нем, получая за это «дивиденд» – долю от чистой прибыли, остававшейся после покрытия всех расходов на издание журнала{218}. Так редакция «Современника» пыталась гарантировать бесперебойную поставку первоклассных текстов для отдела словесности. С началом царствования Александра II журнальная жизнь оживилась; каждый год открывалось сразу несколько журналов, и конкуренция значительно выросла. Новые журналы «Русский вестник» Каткова, «Русская беседа» славянофилов, не говоря уже о продолжающих издаваться «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения», требовали от одних и тех же авторов лучших произведений.
Действие «обязательного соглашения» не распространялось на отдел критики и библиографии. Там продолжали сотрудничать старые авторы «Современника» Василий Боткин, Александр Дружинин, Павел Анненков, сам Некрасов, Чернышевский. Последний всё больше выдвигался в глазах Некрасова. К концу 1855 года Анненков и Дружинин прекратили печататься в «Современнике», и только Боткин в 1855–1857 годах, в момент особенного сближения с Некрасовым, время от времени предоставлял журналу переводы и критику.
Уход «эстетов» был связан с тем, что заведование критическим отделом было поручено Чернышевскому. Отстаиваемая им предельно радикальная эстетическая позиция не вызывала у давних сотрудников журнала ничего, кроме раздражения. «Воняющий клопами господин», «Чернушкин» (герой памфлетной пьесы Григоровича «Школа гостеприимства»), «семинаристская мертвечина»{219} – так презрительно именовался Чернышевский, а между тем в основном его статьи в 1855–1856 годах наполняли отдел критики. В 1856 году Боткин и Толстой предприняли попытку заменить Чернышевского на Аполлона Григорьева, что привело бы к радикальной смене эстетического направления журнала{220}. «Рокировка» не состоялась: и Некрасов, и даже Тургенев выступили с поддержкой курса Чернышевского. Тургенев писал Дружинину 30 октября 1856 года: пусть Чернышевский «плохо понимает поэзию» – «это еще не великая беда», «но он понимает… потребность действительной, современной жизни, в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования»{221}. В 1857 году, уезжая на лечение в Европу, Некрасов передал свой голос в обсуждении дел редакции Чернышевскому, несмотря на мелкие разногласия по тактическим вопросам. В вопросах же стратегии расхождений у них не было.
Как показал современный исследователь Константин Юночкин, решение Некрасова и Панаева сделать ставку именно на Чернышевского и Добролюбова, а не на эстетическую критику Боткина или Дружинина объясняется не столько их личными симпатиями или антипатиями или даже политическими убеждениями (Некрасов и Панаев не были радикалами и социалистами), сколько логикой развития журналистики и публичной сферы в ситуации гласности после Крымской войны. Еще с конца 1840-х годов, когда Некрасов выступил издателем «Физиологии Петербурга», «Петербургского сборника» и обновленного «Современника», многие друзья Белинского (например Тимофей Грановский и Константин Кавелин) обвиняли поэта в «торгашестве», неумении вести журнальное дело, непонимании того, как нужно выстраивать редакционную политику. Но в том-то и дело, что и тогда, и во второй половине 1850-х годов Некрасов, во-первых, заботился о подборе крепкой команды, позволившей бы ему не вникать в суть каждого материала, но полагаться на членов редакции. Во-вторых, избранная редактором демократическая идеология обладала в его глазах необходимыми гибкостью, подвижностью, повышенной полемичностью, критичностью по отношению к социальным недостаткам, научностью, которые ассоциировались в то время с представлением о самом передовом общественном течении и привлекали весьма широкую аудиторию. Наконец, демократическая идеология оказалась крайне выгодна и с чисто экономической точки зрения, поскольку предполагала понижение статуса авторского имени критика или публициста на страницах журнала (анонимность) и, как следствие, уменьшение гонорарной ставки. Чтобы прокормиться, критик должен был писать для каждого номера очень много, чем Чернышевский с Добролюбовым и занимались{222}.
Споря с Тургеневым, Некрасов (по словам Панаевой) объяснял свой выбор так: «Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то – сам сознайся – это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего»{223}.
Выбор Некрасова и Панаева принес «Современнику» множество подписчиков (в 1860 году его тираж достигал 6600 экземпляров, что было рекордом для толстого журнала того времени) и репутацию самого радикального ежемесячника{224}.
С августа 1858 года Добролюбов оказался в самом центре литературной жизни России – в буквальном смысле, ибо переехал на квартиру главного редактора «Современника» Некрасова в дом Краевского на углу Литейного и Бассейной, где прожил почти два года, до конца июня 1859-го. Некрасов присоединил к своей квартире еще одну, трехкомнатную, и две ненужные ему комнаты предложил Добролюбову всего за 15 рублей в месяц при рыночной цене в 25 рублей. По воспоминаниям Чернышевского, это предложение Некрасов сделал после того, как побывал на съемной «сырой» и «дрянной» квартире критика и ужаснулся: «Так жить нельзя»{225}.
Теперь, для того чтобы оказаться в редакции «Современника», Добролюбову достаточно было перейти в соседнюю квартиру. «Вот и я попал на литературное подворье», – шутил он, по воспоминаниям Панаевой{226}.
По утрам Добролюбов приходил пить чай к рано встававшей Авдотье Яковлевне, которая потчевала молодого золотушного критика «чем-нибудь мясным». Затем Добролюбов и Некрасов обсуждали корректуры и рукописи, проводя вместе почти каждое утро, а иногда и вечер. Кроме того, к 1859 году Некрасов постепенно вовлек Добролюбова в редактирование материалов отдела словесности, не допуская туда Чернышевского{227}. Это подтверждается многочисленными фактами: письмами Добролюбова начинающему прозаику Степану Славутинскому, рассказы которого критик продвигал в редакции, или, например, письмом Некрасова Островскому с похвалой его пьесе, понравившейся и Добролюбову{228}. Наконец, они вместе сочиняли пародии для «Свистка» – сатирического приложения к «Современнику». Важная роль Добролюбова в редакции выявилась летом 1859 года, когда Некрасов уехал на охоту, Панаев – на дачу, а Чернышевский – в Лондон: именно Добролюбов вел тогда все дела редакции{229}.
Неудивительно, что в письме институтскому приятелю Ивану Бордюгову от 28 июня 1859 года Добролюбов с гордостью отмечал: «…он («Современник». – А. В.) для меня всё более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, почему…»{230} Кровная связь с изданием выражалась прежде всего в том, что Добролюбов стал иначе понимать смысл журнальной работы. Если в 1857 году он жаловался Пещуровой на «отчужденный» характер литературного труда, то к 1859-му убедился в том, что журнальное поприще и есть то «общее» и единственное верное дело, которое он должен делать ради достижения всеобщего блага. Важную роль в выработке такого понимания сыграл Чернышевский. Мы уже говорили, что эстетические и политические взгляды младшего коллеги складывались под воздействием статей старшего, но решающее значение имело, конечно же, живое общение.