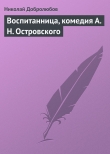Текст книги "Добролюбов: разночинец между духом и плотью"
Автор книги: Алексей Вдовин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
В следующей крупной статье Добролюбова «Когда же придет настоящий день» (Современник. 1860. № 10) описанная стратегия разворачивается в полную силу. Эта работа поразила публику – и понятно почему: анализа сюжета (не говоря уж о прочих компонентах рецензируемого тургеневского романа «Накануне») в ней было еще меньше, чем в «Темном царстве», а политических импликаций в разы больше. Отчасти так произошло просто потому, что сюжет романа гораздо сильнее провоцировал на политическое прочтение, нежели пьесы Островского. В самом деле, история о поездке болгарина Инсарова на родину для участия в борьбе за независимость своего народа от угнетателей-турок должна была вызывать российские ассоциации. Роман настолько богат фактурой, отделкой и деталями, что критику было где развернуться; однако он не упустил шанс еще раз заняться социальным и политическим прогнозированием. Главным и наиболее интересным лицом романа он назвал не Инсарова, а Елену, которая единственная из всех персонажей символизирует скорое приближение «настоящего дня». В России, по Добролюбову, пока не может быть деятелей масштаба Инсарова, потому что нет национального сплочения против общего «внутреннего врага» – так Добролюбов иносказательно, но понятно именует самодержавие, ту систему, внутри которой развитие здоровой и правовой жизни невозможно{277}.
Апогеем «реальной критики» считается последняя крупная добролюбовская статья «Луч света в темном царстве» (Современник. 1860. № 10), писавшаяся уже в Европе. Это и самая запоминающаяся, и наиболее уязвимая статья Добролюбова, где избранный им метод дошел до предела своих интерпретационных возможностей. Здесь Добролюбов сделал отчаянную попытку примирить реализм с «трансформизмом» и предложил красивую, но чрезвычайно рискованную интерпретацию «Грозы» Островского.
Идея Добролюбова заключалась в том, что в современной русской литературе должен, наконец, обнаружиться положительный герой. И он его нашел – в Катерине Кабановой. Пусть она воспитана в религиозной домостроевской среде, но натура героини обусловливает ее стремление к свободе и личному счастью. Именно такого героя и искал Добролюбов для завершения своей стройной теоретической модели. Самоубийство Катерины Добролюбов наделяет смыслом, которого в тексте нет, – оно становится знаком близкого крушения темного царства и радостного торжества свободы. На деле мало что в мрачной народной драме Островского дает повод для столь оптимистического прочтения. Скорее, пьеса эта (если рассматривать ее в социологическом ключе) о трудностях перехода России от архаики к современности. Никто из тогдашних разномыслящих интерпретаторов драмы – ни Анненков, ни Григорьев, ни Писарев – не усмотрел в ней ничего похожего на социальный оптимизм, только Добролюбов ощутил в «Грозе» действие «освежающее и ободряющее». Он предпочел не обращать внимания на мощный религиозный подтекст драмы, на ее символику, на весьма вероятные отсылки к старообрядческой культуре семьи Кабановых и города Калинова в целом{278}.
Катерина становится для Добролюбова символом новой фазы в национальной литературе и в общественной жизни, поскольку являет собой «органический» (словечко из лексикона Аполлона Григорьева), цельный, решительный русский характер»{279}. Ее уход из жизни трактуется как протест женщины против архаичной семейной морали. Примечательно, что религиозность, столь важную для понимания поведения героини, Добролюбов покрывает своим любимым понятием «натура». Именно «натура» заменяет Катерине «соображения рассудка и требования чувства и воображения». Этот риторический маневр позволяет больше не обращать внимания на проявления религиозности Катерины или трактовать их примитивно: в церкви, пишет Добролюбов, она «не находит уже прежних впечатлений: ее страшат лики святых, везде видит она угрозу»{280}. На самом деле Катерина стремится в церковь; в ней постоянно говорит голос совести, слитой с религиозностью, который не дает «неверной жене» спокойно предаться любви к Борису и свободно распоряжаться собой. Рискнем предположить, что в таком игнорировании религиозной составляющей драмы сказался опыт личной конверсии Добролюбова – опыт утраты веры, о котором мы говорили. Критик будто заставляет Катерину двигаться по пройденной им самим траектории. На него мучительно пережитая утрата веры подействовала в итоге ободряюще и освежающе; следовательно, убеждает себя Добролюбов, так должно быть и с Катериной.
Что ж, признаем, что критик ошибся в интерпретации «Грозы» и характера Катерины. Не ошибся Добролюбов в другом. Он понимал, что подобного рода статьи очень нужны таким же, как он сам, молодым разночинцам конца 1850-х годов, которые, читая их, укреплялись бы в ощущении своей принадлежности к быстрорастущей когорте «новых людей». Они готовили себя к жизни в пореформенных условиях, когда должны были открыться возможности для реальной деятельности. Именно об этом «общем деле» постоянно идет речь в переписке Добролюбова и его товарищей по педагогическому институту.
Говоря об автобиографическом контексте статьи Добролюбова, важно помнить и о его отношениях к самоубийцам. В феврале 1860-го, за полгода до написания статьи о Катерине Кабановой, Добролюбов, реагируя на известие о самоубийстве ученика одной из московских гимназий, болгарина Константинова, ригористично заметил в письме Славутинскому: «Что мальчик удавился – это, по-моему, очень хорошо; скверно то, что другие не давятся: значит, эта болотная ядовитая атмосфера пришлась как раз по их легким и они в ней благоденствуют, как рыба в воде. <…> Нужно было пожалеть его, нужно было волноваться и возмущаться в то время, когда он ступил на русскую почву, когда он поступал в гимназию. А теперь надо радоваться! И я искренне радуюсь за него и проклинаю свое малодушие, что не могу последовать его примеру»{281}.
В этих отчаянных словах скрещиваются мотивы двух добролюбовских статей – «Когда же придет настоящий день?» и «Луч света в темном царстве»: свободолюбивому гимназисту-болгарину, как и Инсарову, чужд гнилой воздух русской жизни, и поэтому его самоубийство так же благородно, как и уход из жизни Катерины. Решение мальчика Добролюбов примеривает и к себе, с горечью констатируя собственную слабость. Есть соблазн усмотреть этот мотив и в статье о драме Островского.
Несомненная параллель между личными переживаниями Добролюбова и его статьями «работает» не только в этом случае и побуждает вспомнить и о втором, психологическом противоречии в статьях критика. Исследователи находят в статьях «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет настоящий день?» проекции его самых страстных желаний – активно действовать и в жизни, и в любви. В первой статье Добролюбов критикует тех самых литературных «лишних людей» (Печорина, Тамарина, Чулкатурина), с которыми отождествлял себя в дневниках. Разбор романа «Накануне» может быть истолкован в том числе как призыв к самому себе побороть «пошлость, мелочность и апатию» (как это сделал Инсаров) и начать действовать{282}. Пример с пристрастным толкованием Добролюбовым самоубийства Катерины также не оставляет сомнений, что неустранимые внутренние противоречия его натуры искали выхода в публицистическом творчестве и прорывались в самых неожиданных интерпретациях. Добролюбов заставлял себя искать и находить признаки улучшений и в себе, и в литературе. На поверку же оказывалось, что он сам, один из когорты «новых людей», остается заложником собственного «я» – натуры, которая далеко не полностью освободилась ни от некоторых предрассудков, ни от воспитанного литературой взгляда на жизнь.
Что же касается метода, то как ни старался Добролюбов держаться теории Чернышевского, предполагавшей следование литературы за жизнью, на практике живой анализ русской классики деформировал, разрушал эту модель, заставляя критика делать всё более амбициозные социальные прогнозы на всё менее убедительном и шатком материале. Это была ловушка «реалистической» эстетики, в которую попал не только Добролюбов, но и многие его последователи. Его талант, интуиция, чувство слога позволили создать яркие публицистические тексты, на которых воспитывалось несколько поколений. А после первой русской революции 1905–1907 годов добролюбовские статьи стали входить в школьные хрестоматии – в качестве приложений к великим произведениям русских писателей, – где и пребывают до сих пор.
«– бов» и его читатели
Что мы сегодня знаем о первых читателях статей Добролюбова? За долгие годы изучения его деятельности накапливались в основном восторженные отзывы студентов и разночинцев, чаще всего из его ближнего окружения или знакомых «по касательной». И, конечно, в воспоминаниях деятелей демократического движения можно часто встретить ссылки на гимназическое «подпольное» чтение статей, подписанных «-бов».
Мы уже цитировали воспоминания семинариста Ивана Красноперова, который еще при жизни Добролюбова прочитывал все его статьи, впитывая радикальные воззрения. Таких молодых людей и подобных свидетельств 1860– 1890-х годов существует немало. Например, в 1863 году восемнадцатилетняя Мария Селенкина, будущая известная народница, в дневнике признавалась, что законспектировала статью Чернышевского в «Современнике» «Материалы для биографии Добролюбова», чтобы лучше познакомиться с личностью известного критика, о котором она много слышала, но денег на покупку собрания его сочинений у нее не хватало. «Теперь я знаю всё, что хотела знать о Н. А. Добролюбове. <…> В Добролюбове нашла я много родного своему сердцу; характер едва минувшего времени сблизил меня с ним сильнее всех прочих деятелей России»{283}.
Поклонников и даже адептов Добролюбова, оставивших свидетельства своего восхищения, немало. Гораздо труднее найти среди «рядовых читателей» его оппонентов и противников, чьи мнения выразились письменно или известны в пересказах. Но и такие всё же сохранились и представляют два полюса мнений – критику Добролюбова «слева», с еще более радикальных позиций, и, наоборот, «справа», с традиционно-консервативных.
Из первого типа мнений до нас дошел один прижизненный отзыв, обращенный напрямую к критику. 19 марта 1861 года он получил письмо от некоего К. Маркова, имевшего с ним общих знакомых и, очевидно, пересекавшегося в каких-то кружках. Марков «ставил на вид», что Добролюбов не там ищет «залога счастия человека»: отвергая богословские бредни, предлагает взамен то же «бесплодное учение», потому что оно так же консервативно, как и прежнее. «Социалистические доктрины, борьба во что бы то ни стало, самопожертвование», утверждал Марков, – лишь «пародия христианства». Взамен он предлагал нечто «не новое», напоминающее учение Фейербаха об эгоизме – любви человека в первую очередь к самому себе, от которой производна (пропорционально) любовь к ближнему. Отсюда следует, что трудиться для будущих поколений и жертвовать собой – абсурд{284}. Вряд ли Добролюбов что-либо ответил на это послание, но сама ситуация характерна: человек, наиболее буквально и последовательно исповедующий учение Фейербаха, критикует литератора, постоянно опиравшегося на идеи философа и активно их продвигавшего.
Второй полюс мнений представлен более обильно – консервативно мыслящих читателей у Добролюбова было гораздо больше. Вот, например, письмо его однокурсника Михаила Шемановского от 10 июня 1859 года: «Здесь в Вятке читающие из духовных лиц негодуют на тебя, говоря: что это за человек, который всё отвергает, даже долг. Они очень удивляются, что такой человек мог выйти из семинарии. Я пишу это для того, чтобы сколько-нибудь польстить твоему самолюбию и вызвать на твое лицо самодовольную улыбку»{285}.
Статьи критика воспринимались в штыки не только в глубинке и не только духовенством. В мае 1860-го на дверях его петербургской квартиры на Моховой была сделана надпись: «Безнравственный семинарист». Дядя Добролюбова ее «целый день не стирал, чтобы не подумали, что струсили»{286}.
Интересен короткий (и неожиданный) обмен мнениями между критиком и Марией Дондуковой-Корсаковой – дочерью бывшего вице-президента Императорской академии наук, адресата эпиграммы Пушкина «В Академии наук / Заседает князь Дундук…». Мария Михайловна приходилась родственницей Галаховым, у которых учительствовал Добролюбов, знала о его журнальной работе и следила за публикациями. После статьи о романе Гончарова критик получил от нее письмо от 27 июля 1859 года:
«Я с горячим сочувствием прочла статью Вашу «Что такое обломовщина», но в одном только с Вами не могу согласиться. Вы объясняете перелом Ольги страхом ее впасть в Обломовщину, а мне кажется, что этого страха у нее быть не может по ее направлению, характеру и, наконец, по самой обстановке ее жизни. Гончаров почти против воли напал на мысль, что полное развитие наших духовных сил невозможно на земле. Этой мысли он не хотел доказать и оставил читателю неясное впечатление, которое тревожило его пытливый ум»{287}.
Мария Михайловна просила Добролюбова отбросить сословные предрассудки (нежелание общаться с дочерью камергера), чтобы продемонстрировать на деле веру «в сближение людей на правах общечеловеческих, без этой веры никакого нет простора в жизни». Критик ответил спустя месяц коротким сухим письмом: расхождение в их взглядах столь сильно, что делает дальнейшую переписку невозможной. Добролюбов, судя по всему, не желал тратить время на общение с религиозной и не менее принципиальной, чем сам он, читательницей. Не удовлетворившись этой отпиской, Дондукова послала критику второе письмо, содержание которого еще больше должно было отпугнуть Добролюбова. Мария Михайловна выражала опасение, что радикальные взгляды способны повредить молодым неокрепшим душам:
«Стремления Ваши прекрасны, любовь к ближнему согревает Вашу душу, но Вы находитесь в переходном состоянии, в котором убеждения Ваши не могут быть непоколебимы. Увы, гордость Вам не позволяет в этом сознаться, и Вы способны распространять мысли, которые отвергнуты будут Вами через несколько лет. Не напоминайте мне о материалистах, упорных в своих заблуждениях, они не были похожи на Вас, они не искали добросовестно истины в горячей деятельной любви к людям»{288}.
Разумеется, никакого ответа на это послание не последовало. Между тем это единственный известный нам случай, когда глубоко религиозный читатель, будучи убежденным в добрых чувствах критика и всерьез относясь к его демократической позиции, пытался вступить с ним в диалог. Диалога, однако, не получилось.
Тост памяти Белинского:
история одной легенды
Шестого июня 1858 года Добролюбов присутствовал на обеде памяти Белинского в день его именин{289}. Событие это обычно сопровождается комментарием: Добролюбов, возмущенный пустословием в адрес покойного, по возвращении домой написал сатирическое стихотворение «На тост в память Белинского» и анонимно разослал его участникам обеда, что вызвало их негодование. Все версии этой истории восходят к двум источникам – статье Максима Антоновича «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (1878) и воспоминаниям Александра Пыпина «Мои заметки» (1911).
Впервые стихотворение Добролюбова было опубликовано в статье Антоновича, который писал, что слышал историю об «обеденном» инциденте от покойного Некрасова:
«В числе других это стихотворение получил и Николай Алексеевич и, по его словам, сразу же догадался, кто автор его; да притом Добролюбов не скрывался перед ним и сам признался ему во всём. Николай Алексеевич, конечно, и не подумал обидеться на присланное ему стихотворение; но другие известные литераторы сильно обиделись. <…> У нас есть одно рукописное стихотворение Добролюбова, писанное его собственною рукою и, по-видимому (здесь и далее в этой цитате курсив наш. – А. В.), относящееся к случаю, о котором рассказывал Николай Алексеевич, хотя утверждать это наверное мы не решаемся. Стихотворение озаглавлено так: «На тост в память Белинского. 6 июня 1858 г.». Вероятно, 6 июня было днем именин Белинского, так как в этот день бывает Св. Виссариона; и если обеды в память Белинского устраивались в этот день, то это еще более может подтвердить нашу догадку»{290}.
Очевидно, у Антоновича не было полной уверенности, что стихотворение связано с обедом памяти Белинского. В рукописном фонде Антоновича в Пушкинском Доме сохранилась копия стихотворения Добролюбова, сделанная, по мнению комментатора Бориса Бухштаба, не критиком (если только почерк не был умышленно изменен){291}. Название «На тост в память Белинского, 6 июня 1858 г.» приписано другой рукой – не исключено, что Антоновича или чьей-то еще позднее. Отсутствует название и в автографе стихотворения, находящемся в так называемой первой добролюбовской рукописной тетради. Более того, текст этот, располагающийся между стихотворениями «Напрасно» (май) и «Бедняку» (20 июня), не датирован{292}. Тем не менее Бухштаб, хотя и не уверенный, что копия из фонда Антоновича сделана Добролюбовым, всё же опубликовал стихотворение с названием, отсутствующим в автографе, однако указал, что основным текстом следует считать автограф в добролюбовской тетради. Такая непоследовательность заставляет еще раз обсудить историю создания и смысл загадочного стихотворения.
Итак, исходный текст в автографе не имеет заглавия, не соотнесен самим автором с каким-либо конкретным событием и не приурочен к определенной дате. Связь с трапезой появляется только в последней строфе, где упомянуты некие «пиры», но более внятной отсылки нет:
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире подымал
И думал: только, только этим
Мы можем помянуть его,
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!..
Отсюда легко сделать вывод: копия Антоновича не может быть достоверным источником при реконструкции этого эпизода биографии Добролюбова, особенно если вспомнить, что исследователи обнаружили много недостоверного и в воспоминаниях публициста{293}. Примечательно, что стихотворение не вошло в четвертый том собрания сочинений Добролюбова, который Антонович редактировал в 1862 году, хотя часть рукописей добролюбовских стихотворений хранилась в тот момент у него. Скорее всего, в редакции «Современника» решили не печатать неудобное стихотворение-упрек последователям Белинского, поскольку атмосфера в 1862 году и без того была накалена.
Второй источник информации – воспоминания Пыпина. Впервые он заговорил об этой истории в письме своему кузену Чернышевскому от 5 февраля 1884 года, надеясь получить уточнения к его написанным в ссылке воспоминаниям о разрыве Тургенева с «Современником»:
«В Твоих воспоминаниях я не нашел двух вещей. Во-первых, относительно Добролюбова и Тургенева, того эпизода, случившегося без меня и о котором мне рассказывали: эпизода об обеде в память Белинского (1858) (здесь и далее в этой цитате курсив наш. – А. В.), обеде, на котором собралась обычная тогда компания «Современника» и также Добролюбов и после которого он на другой день послал Некрасову и Тургеневу безымянное стихотворение, очень раздражившее Тургенева. <…>…(стихотворение говорило, конечно, о способе, каким чествовалась память Белинского, – в ресторане Дюссо)»{294}.
Во-первых, Пыпин с полной уверенностью говорит о каком-то обеде памяти Белинского; во-вторых, добавляет к уже известному, что стихотворение было послано только Тургеневу и Некрасову, а также указывает, что встреча происходила в ресторане Дюссо. Неясно, кто рассказал Пыпину об этом инциденте; возможно, это был Некрасов или Антонович, близкий к нему в конце 1870-х годов. Очень вероятно, что именно публикация Антоновича 1878 года побудила Пыпина вспомнить эту историю[14]14
В 1911 году этот сюжет вошел в воспоминания Пыпина с оговоркой: «Я не был свидетелем того, что говорится далее, – потому что жил тогда за границей, но слышал из достоверных источников, а теперь об этом есть обстоятельное свидетельство М. А. Антоновича» (Пыпин А. Н. Мои заметки. Саратов, 1996. С. 240–241).
[Закрыть].
На письмо двоюродного брата Чернышевский ответил, что не помнит ни о каком стихотворении Добролюбова и, тем более об обеде памяти Белинского, оговорившись, правда, что мало интересовался обедами литераторов{295}. Это свидетельство тем более примечательно, что, как выяснится далее, Чернышевский всё же был на обеде 6 июня 1858 года.
Рассмотрим, наконец, все известные нам печатные упоминания об этом странном событии. Главные источники – письма прославленного художника Александра Иванова и дневник цензора Александра Никитенко – немного «расходятся в показаниях». Из письма Иванова брату следует, что в пятницу 6 июня действительно состоялся обед – правда, не памяти Белинского:
«Сегодня был у Мюллера, но не застал никого дома. <…> Потом поехал на обед, который литераторы давали отъезжающему Тургеневу – всех со мной было 14 особ. Первый тост был обращен ко мне{296}.
Другое упоминание об этом же обеде сохранилось в дневниковой записи Никитенко от 7 июня:
«Обедал в ресторане Донона (курсив наш. – А. В.) вместе с несколькими литераторами – Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и пр. Тут был также недавно приехавший из-за границы художник Иванов. Много было говорено, но ничего особенно умного и ничего особенно глупого. Пили не много»{297}.
Речь у Никитенко и у Иванова, без сомнения, идет об одном и том же обеде (запись первого сделана на следующий день), но никто ни словом не упоминает о каком-либо чествовании памяти Белинского. Сличение всех письменных свидетельств дает следующий состав гостей: Некрасов, Тургенев, Панаев, Гончаров, Чернышевский, Писемский, Языков, Иванов, Никитенко. Вполне мог присутствовать на обеде и молодой сотрудник Добролюбов, который, как мы помним, летом 1858 года официально стал членом редакции «Современника».
Обеды между тем продолжались. 8 июня, в воскресенье, Иванов сообщил брату, что вчера «опять был на обеде, и в том же месте – у Донона… Общество литераторов из 14 человек давало его… князю Щербатову»{298}. В самом деле, обед по случаю отставки попечителя Санкт-Петербургского учебного округа князя Г. А. Щербатова состоялся в ресторане Донона 7 июня.
Итак, у Донона (а не у Дюссо, как считал Пыпин) 6 и 7 июня было дано два обеда. И Никитенко, и Иванов посетили оба, не оставив и намека о Белинском или Добролюбове. Тем не менее мы не можем исключать наличия тостов в память Белинского, равно как присутствия Добролюбова на первом обеде (его присутствие на «щербатовском» крайне маловероятно). Обратим внимание, что стихотворение в копии Антоновича названо «На тост в память Белинского». Можно предположить, что на обеде 6 июня, в День святого Виссариона, литераторы, собравшиеся по случаю отъезда Тургенева, решили почтить память «Учителя». Более того, 26 мая была годовщина его смерти. Весьма вероятно, что тост предложил сам Тургенев, любовь которого к Белинскому хорошо известна. Косвенное подтверждение можно усмотреть в том, что адресатами стихотворных упреков Добролюбова были представители молодого поколения, которые «им (Белинским. – А. В.) проложенным путем / Умеют только любоваться». Тогда понятно и упоминаемое в мемуаре Антоновича раздражение Тургенева, явно принявшего упреки на свой счет, а всё стихотворение Добролюбова прочитывается как критика радикальной частью кружка «Современника» его «артистического» крыла (Боткина, Тургенева и Анненкова).
Текст Добролюбова был ориентирован на некрасовские стихотворения о Белинском. В «Памяти Белинского» (1851–1853) Некрасов подчеркивал бездеятельность потомков учителя, «беспечно вкушающих» плод его трудов, и затерянность его могилы, куда «память благородная друзей» не проторила дороги. Строки Некрасова элегичны, в них звучит скорбное признание естественности посмертной судьбы былого властителя дум. Некрасовская поэма «В. Г. Белинский» (1855) заканчивается схоже – строками о забвении, по сюжету, друга Белинского с аналогичной судьбой:
Поэт умолк. А через день
Скончался он. Друзья сложились
И над усопшим согласились
Поставить памятник, но лень
Исполнить помешала вскоре
Благое дело, а потом
Могила заросла кругом:
Не сыщешь… Не велико горе!
Живой печется о живом,
А мертвый спи глубоким сном…
Добролюбов спорил с созданной Некрасовым поэтической легендой о бессилии «учеников», призывая их продолжить дело «Учителя». Такая инициатива выглядела вполне закономерной в контексте кружковой атмосферы конца 1850-х. На 1857 год приходится нереализованный замысел Некрасова и Тургенева издать сборник памяти Белинского, а с 1859-го начался выход первого собрания сочинений критика. В это же время библиограф Петр Александрович Ефремов по поручению Некрасова отыскал на петербургском Волковом кладбище затерянную могилу Белинского{299} (через два года рядом с ним похоронят Добролюбова).
Таким образом, воспоминания Антоновича малодостоверны. Факты свидетельствуют, что специального обеда памяти Белинского 6 июня 1858 года не было, а тост, разумеется, мог быть произнесен. Версия же, согласно которой стихотворение Добролюбова было разослано участникам обеда и вызвало скандал, документально пока не подтверждается и вряд ли когда-либо подтвердится.
Здесь, однако, возникает вопрос, как в таком случае объяснить утверждение Антоновича, что он слышал эту историю от Некрасова. Можно предположить следующее. В сентябре 1858 года в «Современнике» появилось шесть стихотворений Добролюбова, отобранных для публикации лично Некрасовым. Вероятно, поэт прочел в тетради Добролюбова стихотворение о Белинском и обсудил его с автором (повторим, никаких сведений об отправке текста Некрасову и Тургеневу не существует). После смерти Добролюбова тетради его стихов вновь на некоторое время оказались в распоряжении Некрасова, который мог позже рассказать Антоновичу об обстоятельствах появления этого стихотворения.
Так яркая эпоха «Современника» 1850-х годов обрастала легендами и домыслами. Далее мы расскажем о еще одной нашумевшей истории – о разрыве Тургенева с Некрасовым из-за Добролюбова. Но вначале необходимо остановиться на расхождениях журнала с Герценом.
«Новые люди» против «лишних»
Пока роман Чернышевского «Что делать?» входил в обязательную школьную программу, все хорошо помнили, кто такие «новые люди». Подзаголовок романа «Из рассказов о новых людях» подразумевал, что Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, Мерцалов и другие – это возникшее, наконец, поколение, которое строит свою жизнь на единственно разумных принципах. Они любят, ухаживают, заключают браки, трудятся и отдыхают не так, как было принято веками. Мало кто при этом задумывается, что мифология новых людей напрямую связана с фигурой Добролюбова. Во-первых, его биография стала для Чернышевского материалом для романа (о чем речь впереди); во-вторых, писатель опирался на статьи критика, который первым в России стал писать о «новых людях» как о реальном явлении. Эти статьи привлекли к Добролюбову демократически настроенную молодежь и вызвали резкое негодование «людей сороковых годов» – того поколения, с которым, собственно, и вел борьбу критик.
Добролюбов придумал «новых людей» в 1859-м в статье «Литературные мелочи прошлого года». Критик обрисовал эволюцию социально-политических идеалов от поколения «отцов» – людей 1840-х годов – до поколения «детей», вышедших на сцену в конце 1850-х. Под «отцами» подразумевались друзья и соратники Белинского, среди которых Добролюбов делал исключение для политических эмигрантов Герцена и Огарева, упоминание которых в подцензурной печати было невозможно. Идеалы «людей сороковых годов», с точки зрения Добролюбова, уже явно недостаточны и не могут быть положены в основу дальнейшего развития России: это «зады», а нужно идти вперед, ставя более конкретные и серьезные политические задачи, с чем может справиться только новое поколение:
«…другой общественный тип, тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением. Благодаря трудам прошедшего поколения принцип достался этим людям уже не с таким трудом, как их предшественникам, и потому они не столь исключительно привязали себя к нему, имея возможность и силы поверять его и соразмерять с жизнью. Осмотревшись вокруг себя, они вместо всех туманных абстракций и призраков прошедших поколений увидели в мире только человека, настоящего человека, состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими отношениями ко всему внешнему миру. Они в самом деле стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколение; но зато они гораздо тверже и жизненнее. Не говорим о фанатиках, которые всегда были и будут как исключение; но в общей своей массе молодые люди нынешнего поколения отличаются спокойствием и тихою твердостью. Это происходит в них прежде всего, разумеется, оттого, что нервы еще не успели расстроиться. Но есть и другая причина: они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью»{300}.
Добролюбов именует целое поколение «новыми людьми», на первый взгляд имея в виду себя и своих сверстников – выпускников Главного педагогического института и университетов, студентов, которые были наиболее радикальной группой русского общества в XIX столетии. Однако сохранившиеся документы существенно корректируют такую простую проекцию. В переписке Добролюбова сохранилось двусмысленное свидетельство, очевидно, охваченного хандрой критика, жаловавшегося однокурснику Михаилу Шемановскому:
«Ведь ты знаешь, что вся наша надежда на будущие поколения. Было время, и очень недавно, когда мы надеялись на себя, на своих сверстников; но теперь и эта надежда оказывается неосновательною. Мы вышли столько же вялыми, дряблыми, ничтожными, как и наши предшественники. Мы истомимся, пропадем от лени и трусости. Бывшие до нас люди, вступившие в разлад с обществом, обыкновенно спивались с кругу, а иногда попадали на Кавказ, в Сибирь, в иезуиты вступали и застреливались. Мы, кажется, и этого не в состоянии сделать. Полное нравственное расслабление…»{301}
Эти горькие упреки своему поколению заставляют совершенно иначе трактовать оптимистические прогнозы Добролюбова, очевидно, не уверенного, что именно оно состоит из «новых людей», как вскоре это будет представлено Чернышевским в романе «Что делать?». Нарисованный критиком портрет поколения напоминает всё тех же «лишних людей», «обломовых». Недаром Добролюбов констатировал, что обломовщина продолжает жить, она не похоронена. Есть основания думать, что критик адресовал упреки и самому себе.
Тем не менее социально-политические идеалы «новых людей» очерчены Добролюбовым достаточно конкретно. Это всё та же, уже хорошо нам знакомая «антропологическая» перспектива – призыв сделать достоинство и благосостояние любого человека мерилом социального прогресса:
«На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое, существенное благо; эта точка зрения отражается во всех их поступках и суждениях. Сознание своего кровного, живого родства с человечеством, полное разумение солидарности всех человеческих отношений между собою – вот те внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Их последняя цель – не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству»{302}.
Не случайно Добролюбову приходили восторженные письма от совершенно незнакомых, но сочувствующих читателей, например от молодого сотрудника «Современника» С. Федорова из Москвы: