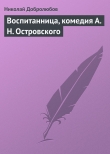Текст книги "Добролюбов: разночинец между духом и плотью"
Автор книги: Алексей Вдовин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
В конце концов Добролюбов понял, что «Николай Гаврилович ему дороже», и прекратил флирт с его супругой. Этому способствовала и внезапная нежность к нему Анны, сестры Ольги Сократовны, показавшаяся «как будто началом возникающей любви»{362}. Началось всё в январе 1859 года – именно тогда Добролюбов поделился переживаниями с Иваном Бордюговым:
«И черт меня знает, зачем я начал шевелить в себе эту потребность женской ласки… Понапрасну только мучу самого себя… Постараюсь всё скомкать, всё порвать в себе и лет через пять женюсь на толстой купчихе с гнилыми зубами, хорошим приданым и с десятком предварительных любовников-гвардейцев… Черт их побери, все эти тонкие чувства!..»{363}
Добролюбов, очевидно, сомневался, стоит ли затевать новые отношения после недавнего романа с Терезой. Кроме того, он наверняка обратил внимание на характер новой дамы сердца. По сведениям внучки и биографа Чернышевского Нины Михайловны Чернышевской, Анна Сократовна оказалась в Петербурге восемнадцатилетней барышней и сразу же окунулась в вереницу развлечений вслед за старшей сестрой, любившей светскую жизнь. Днем – катание на лошадях, вечером – театр, пение, концерты – в то время как на половине Чернышевского скрипит перо, составляются таблицы по политической экономии, идет обсуждение корректур{364}.
Добролюбова буквально разрывали сомнения: с одной стороны, эта женщина настолько влекла его к себе, что он готов был сделать предложение; с другой – он просил Бордюгова спасти его от женитьбы. Вся весна прошла в смятении чувств, подчас очень олитературенных. Примечательно, что в эпистолярных размышлениях Добролюбова об этом романе возникают Печорин и герой стихотворения Лермонтова «Завещание», который, умирая, просит передать соседке «всю правду»: «Пускай она поплачет… / Ей ничего не значит!» «Поплакать» должна была Анна Сократовна, если бы она полюбила, а Добролюбов к ней уже охладел. Он воображал себя самолюбивым любовником, который, завоевав сердце кокетки, тут же теряет к ней интерес, и за это называл себя «свиньей»{365}.
Колебания и внутренние противоречия достигли апогея в конце апреля 1859 года, когда Добролюбов предпринял отчаянную попытку «спастись». Критик должен был прийти на свидание с Анной Сократовной к шести, но задержался в городе по делам и, забежав перед тем домой, нашел там «конфетку в виде сердца, из которого торчит пламя». Приложенная записка гласила: «Я Вас жду, Добролюбов; уже половина седьмого, а Вас всё нет. Скорее, скорее, скорее». Иронически пересказывая эту историю в письме Бордюгову, Добролюбов признавался, что решил на такое романтическое свидание не ходить – испугался, что «комедия, разыгрываемая над ним, грозит оставить его в круглых дураках»{366}. Очевидно, что опасался он самого себя: мог не устоять и зайти слишком далеко – сделать предложение.
Когда произошла эта история, Добролюбов дописывал статью «Что такое обломовщина?». В ней много говорится о слабости «лишних людей» в отношениях с женщинами: любить они не умеют, а если дело доходит до серьезного чувства, трусливо обращаются в бегство. В галерее таких персонажей числится Печорин, с которым Добролюбов себя в это время сопоставляет. Кажется, это совпадение не случайно: в статье критик как будто прорабатывал свои слабости и недостатки, а в жизни – пытался действовать решительно.
Если верить Чернышевскому, в первой половине мая Добролюбов сделал-таки предложение Анне Сократовне и даже получил согласие, но затем ее родственники опомнились (как будто они не замечали, что дело к этому шло!) и воспротивились браку, придумав рациональные аргументы. Почти 20 лет спустя Чернышевский в письме Пыпину из Вилюйска от 25 февраля 1878 года рассказал, что главную роль в развязке этой истории сыграла Ольга Сократовна: увидев, что расположение ее сестры к Добролюбову перешло в более серьезное чувство, которое привело к согласию на брак, она решительно выступила против. По воспоминаниям Чернышевского, супруга сказала ему: «Держи его (Добролюбова. – А. В.), а я пойду бранить Анюту. Они явились ко мне объявить, чтобы я повенчала их… пусть он сидит у нас. Но какая же жена ему Анюта? Она – милая, добрая девушка; но она – пустенькая девушка. Соглашусь я испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже сестры, хотя я – дура необразованная. <…> Но всё-таки я понимаю, моя сестра – не пара Николаю Александровичу»{367}.
Н. М. Чернышевская настаивала на той же причине разрыва: якобы все участники этой истории поняли, что брак невозможен, поскольку Анна и Добролюбов были людьми совершенно разных убеждений и устремлений{368}.
В письмах самого Добролюбова Бордюгову названа иная причина расставания: он продолжал еще получать от Анны Сократовны «прогрессивно нежные» записки, как вдруг, «к счастью, сплетни спасли». До Добролюбова якобы дошел слух, будто он решил жениться на Анне, чтобы прикрыть интрижку с ее сестрой{369}. После этого он объяснился с семьей Чернышевских и на какое-то время перестал у них бывать, что подтверждается следующим письмом Бордюгову. С самым близким другом Добролюбов всегда был откровенен, и трудно представить, чтобы он скрывал от него истинные обстоятельства его разрыва с Анной Сократовной. А воспоминания Чернышевского, как мы уже убедились, часто пристрастны и искажают ход событий. Правда, думается, посередине: как и в случае с Грюнвальд, Добролюбов советовался с Чернышевскими, но решение принял, скорее всего, самостоятельно.
В сентябре 1859 года Анна Сократовна вернулась в Саратов и через год вышла замуж за офицера Каспара Малиновского{370}. А Добролюбов сокрушенно писал Бордюгову: «У меня остался ее портрет, который стоит того, чтобы ты из Москвы приехал посмотреть на него… Я часто по нескольку минут не могу от него оторваться и чувствую, что влюбляюсь наконец в А. С.». Добролюбов сильно тосковал. «Любви безумно сердце просит», – повторял он как заговоренный строчку из стихотворения Николая Огарева, сокрушался, что «совершенно один, не доволен ничем и никому не могу сказать задушевного слова». Он сожалел, что не женился на Анне Сократовне, с которой «мог говорить всё, что приходило в голову и в сердце»{371}.
Таким образом, и вторая попытка женитьбы Добролюбова не состоялась. Сожаления об этом были недолгими – уже в феврале 1860 года началось его увлечение дочерью какого-то генерала, по сюжету напоминающее пародию Петра Вейнберга:
Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь,
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.
Пародия была опубликована в 1859 году в «Искре», которую Добролюбов читал, так что, весьма вероятно, он держал этот яркий текст в памяти, когда иронически описывал свою историю в письме Бордюгову.
Затащенный после оперы к знакомым, Добролюбов увидел там девушку, от которой не мог оторвать глаз, пораженный ее красотой. Проклиная свою неуклюжесть и неумение танцевать, он разузнал, кто она, и на следующий же день явился с визитом к ее отцу, оказавшемуся важным генералом, страдающим от недостатка карточных партнеров. Добролюбов стал ездить к ним в дом, дабы проигрывать хозяину «ералаш» в надежде созерцать предмет своего обожания. В конце концов в один из таких визитов гостям было объявлено о помолвке генеральской дочери и молодого офицера, с которым Добролюбов познакомился и даже нашел в нем «родственную душу». «А ведь и офицерик-то плюгавенький… Эхма!!!» – резюмировал Добролюбов всю эту историю, иронизируя и над счастливым соперником, и над собой{372}.
Только в Париже ему представится возможность вновь почувствовать себя влюбленным.
Глава пятая
ПОСЛЕДНИЙ ГОД:
ПОЛИТИКА И ЛЮБОВЬ
Русский путешественник
В жизни Добролюбова не было года без хвори. Он тяжело болел в октябре – ноябре 1857-го: простуда и золотуха. Потом, весной 1858-го – сыпь, недомогание; золотуха «бросалась» в разные места организма («болен уже несколько месяцев»). В мае «страдал грудью»: начинался туберкулез. Врачи советовали переменить климат, и Добролюбов съездил на лето в Старую Руссу, где его лечили от золотухи грязями и ваннами. Летом болели зубы, потом нога, происходили «приливы к голове» (сентябрь 1859){373}.
Чернышевский и Некрасов настаивали на лечении в Европе. В середине мая 1860 года Добролюбов впервые выехал из России в Берлин. Поставки статей в «Современник» и сатиры в «Свисток» при этом не прерывались.
Европейский маршрут Добролюбова был во многом предопределен состоянием его здоровья и рекомендациями врачей, советовавших «брать купания» в теплых морях и дышать просоленным воздухом. Однако, вместо того чтобы прямиком направляться на швейцарские озера и на французское морское побережье, Добролюбов по несколько дней жил в Берлине, Лейпциге, Дрездене и Франкфурте.
Письма Добролюбова из Европы поражают полным отсутствием упоминаний об осмотре достопримечательностей. В отличие от своих известных современников и соотечественников Карамзина, Жуковского, Достоевского, стремившихся посетить знаменитые средневековые города, соборы, монастыри, картинные галереи, критик интересовался не культурой, историей и искусством, а политикой и природой. Можно было бы подумать, что состояние его здоровья не позволяло совершать прогулки и экскурсии, но плохо чувствовал себя он лишь первый месяц, в Германии, что не мешало ему в Берлине, а потом в Париже заниматься организацией европейской подписки на «Современник»{374}.
Приехав в Саксонию, Добролюбов предпочел Дрездену с его знаменитой картинной галереей скалы и тропинки заповедного горного места недалеко от столицы королевства:
«В Саксонской Швейцарии виды, точно, превосходны; но в городе всё так узко, темно, грязно, что он годится гораздо более для панорамы, нежели для живого глаза. А в панораме он, точно, должен быть великолепен с своими узкими, закопченными зданиями, мутной и узенькой Эльбой, разрезывающей его, и свежей зеленью, которая его опоясывает, составляя контраст с копотью и грязью стен»{375}.
Симптоматично, что Добролюбов смотрит на город сверху; ему чужд взгляд пешехода, петляющего по узким улочкам. Живым организмом для него был вовсе не каменный город, а природа. Можно думать, что на таком восприятии сказались влияние Фейербаха, рационализм и утилитарное отношение Добролюбова к искусству. Разумеется, о галерее, архитектуре или соборах путешественник даже не упоминает. Единственное место, которое он посетил в Дрездене, – театр, где был поражен обилием и даже засильем соотечественников, «которые несли ужасающую дичь, воображая, что никто их не понимает»{376}.
Такой взгляд преобладал у Добролюбова и в следующих пунктах маршрута. Приехав из Дрездена в Прагу, он вместо достопримечательностей упоминает демонстрации студентов с пением чешских песен{377}.
Долгую остановку пришлось сделать в швейцарском курортном Интерлакене. Оттуда нужно было ехать в российское посольство в Берн – хлопотать о продлении заграничного паспорта. Швейцарские городки и ландшафты, в европейской культуре связанные с Руссо, Вольтером и Байроном, а в русской – с «Письмами русского путешественника» Н. М. Карамзина, у Добролюбова не вызвали никаких культурных ассоциаций. Он лишь методично фиксировал улучшение своего физического состояния, прогулки по горам с подъемом на вершины и ледники{378}.
После Швейцарии Добролюбов провел в нормандском Дьепе, на французском побережье Ла-Манша, три унылые недели: купания, писание статей в «Современник», разговоры с отдыхающими. В планах критика было вырваться в Париж, куда его еще в июне 1860 года позвал добрый знакомый Николай Николаевич Обручев, профессор Академии Генерального штаба. Между делом Обручев жаловался на «бонтонность» встреченного им писателя Ивана Гончарова, который оказался «не нашего поля ягодой»{379}.
Добравшись в начале сентября до Парижа, Добролюбов поселился у Обручева, квартировавшего в одном из семейных пансионов Латинского квартала, где прожил до конца ноября. Здесь его спартанская жизнь была освежена новым чувством. Откладывая рассказ об очередной любовной интриге Добролюбова, подчеркнем, что его парижские развлечения, очевидно, ограничивались прогулками по бульварам, паркам, беседами с Обручевым. К искусству путешественник оставался равнодушен. Всё, чего он жадно искал, – новая обстановка, в которую можно было бы сбежать от себя, от своего амплуа ядовитого публициста. Вот как он описывал это состояние в письме Антонине Кавелиной, жене известного историка:
«Здесь я начинаю приучаться смотреть и на себя самого как на человека, имеющего право жить и пользоваться жизнью, а не привязанного к тому только, чтобы упражнять свои таланты на пользу человечества. Здесь никто не видит во мне злобного критика, никто не ждет от меня ядовитостей… Когда я ухожу – говорят, что я «прогуливаюсь» или «бегаю по Парижу»… когда я пишу, мне замечают, что у меня, должно быть, большая корреспонденция. Затем в персоне моей видят молодого человека, заехавшего в чужой край, довольно плохо говорящего по-французски… Сегодня, например, я без зазренья совести коверкал французский язык, разговаривая с племянницей хозяина, маленькой и вострой брюнеткой лет семнадцати»{380}.

Письмо Добролюбова тетке Фавсте Васильевне Благообразовой из Швейцарии.
Июль 1860 г.
Парижская «идиллия» продлилась всего два месяца. Добролюбова тянуло на юг – в Италию. Завершился его европейский вояж переездами по итальянским городам и провинциям с декабря 1860 года по май 1861-го: Турин, Генуя, Флоренция, Венеция, Рим, Неаполь, Палермо, Мессина. Из писем этого периода вообще исчезают упоминания о достопримечательностях: мы не знаем, бродил ли Добролюбов по прекрасным городам, заходил ли в соборы и палаццо, любовался ли картинами, фресками или руинами античных храмов. По всем деталям складывается впечатление, что его интересовала только политика – Рисорджименто, движение за объединение Италии, свидетелем которого стал русский путешественник.
Россия а-ля Италия
Италия привлекала Добролюбова не только климатом, наиболее благотворным для его здоровья, но и политическими событиями. В 1859 году либеральное правительство Сардинского королевства во главе с премьер-министром Камилло Кавуром в союзе с Францией начало освободительную войну против Австро-Венгерской империи и добилось присоединения к единой «новой Италии» Тосканы, Ломбардии, Модены, Пармы и других областей. Особую роль в объединении страны сыграли отряды повстанцев под предводительством Джузеппе Гарибальди, свергнувшие власть Бурбонов в Неаполе – столице Королевства обеих Сицилий. 17 марта 1861 года в Турине состоялось открытие итальянского парламента, провозгласившего легитимность объединенного Итальянского королевства во главе с Виктором Эммануилом II[18]18
Виктор Эммануил II (1820–1878) – король из Савойской династии, взошедший на престол Сардинского королевства (Пьемонта) в 1849 году и завершивший объединение Италии в 1871-м.
[Закрыть].
Те мартовские дни Добролюбов провел в Турине, присутствуя на заседаниях парламента и готовя для «Современника» очерк «Из Турина», в котором с точки зрения последовательного демократа описаны прения сторон, выступления Кавура и разноголосица политических мнений, царившая в бурлящем городе и стране, переживавшей небывалый всплеск гражданской активности. Ассоциация с пореформенной Россией напрашивалась сама собой. Напротив, атмосфера Неаполя, столицы королевства, напоминала русскому путешественнику Николаевскую эпоху в России.
Итальянские впечатления вылились в цикл статей о национальном освободительном движении, который писался с оглядкой на дела в отечестве. Каждое событие Рисорджименто подавалось критиком в двойном ракурсе – и как факт итальянской современности, и как пример того, что может случиться в другой стране под монархической властью.
Конечно, Добролюбов был не единственным русским публицистом, трактовавшим итальянские события в таком ключе. Недавние исследования (в частности, книга Андреаса Реннера о русском национализме) показали, что и либеральные, и демократические журналы и газеты в конце 1850-х годов пытались осмыслить итальянский опыт и спроецировать его на события в России. Объединение Италии под лозунгами наиболее современной на тот момент идеологии «национализма» оказало большое влияние на представления русских интеллектуалов, проектировавших ту форму, в какой России предстояло встретить и отмену крепостного права, и Польское восстание 1863 года, и другие проблемы, вызванные резким возрастанием социальной турбулентности в самых разных уголках империи{381}. «Национализм» середины XIX века предполагал объединение народов поверх династических, сословных и политических барьеров на основе культурно-языковой общности людей, издавна проживающих на определенной территории и имеющих общую непрерывную культурную традицию. Ключевой целью мыслились модернизация государства и европеизация общества. Варианты ответа на вопросы, что такое нация и каков (этнический, языковой или идеологический) главный критерий ее единства, существенно разнились. Случай Италии выглядел для современников простым: итальянцы – сообщество людей, говорящих на не сильно различающихся диалектах, имеющих общую историю начиная с Античности и борющихся с иноземным французским и австрийским владычеством и деспотическим правлением Бурбонов в Королевстве обеих Сицилий.
Полностью спроецировать эту ситуацию на Россию было невозможно: она не была раздроблена, не находилась под иноземным гнетом. Поэтому русские публицисты предлагали по-разному осваивать уроки Рисорджименто. С одной стороны, все они понимали, что освобождение крестьян прибавляет к слою сознательных граждан многомиллионную массу – народ, который должен очнуться от векового сна и осознать свои права; его нужно просветить, «вырастить» и перевести отношения бывших крепостных и их помещиков в современные правовые категории. С другой стороны, объединение Италии, потребовавшее военного противодействия Австрии, высвечивало для русских публицистов нестабильность положения в Российской империи, на западных окраинах которой, в Польше и Малороссии, уже давно зрели национальные движения (например, деятельность Кирилло-Мефодиевского братства украинофилов с 1840-х годов), угрожавшие отделением от «единого тела». Либеральная пресса находила успокоение в торжестве Виктора Эммануила и его правительства во главе с Кавуром и прекращении диктатуры радикала Гарибальди: «легитимный» порядок был сохранен и лишь усовершенствован принципиально новой идеей нации, не предполагавшей непременного перехода от монархии (уже конституционной) к республике.
Собственно, все «итальянские» статьи Добролюбова направлены против либерального понимания Рисорджименто. В отличие от обозревателей «Русского вестника», «Отечественных записок», «Сына отечества» и других журналов, публицист «Современника» мало интересовался национальным вопросом, выдвигая на первый план проблему установления справедливого республиканского устройства, который обеспечил бы реализацию всех прав и свобод для простого итальянского народа. В самой ранней из «итальянских» статей «Непостижимая странность» (Современник. 1860. № 11), вторая часть которой, к сожалению, не была дописана, Добролюбов пытался растолковать русскому читателю, как и почему в Неаполитанском королевстве могла произойти революция, если все путешественники-публицисты изображали итальянский народ ленивым, покорным, терпеливым и полностью поддерживающим католическую церковь и королевскую власть. Представление о высоком уровне поддержки простым народом существующей власти Бурбонов, рассуждал Добролюбов, может быть опровергнуто данными о большом количестве восстаний, методично собранными из разных источников. Однако государственная пропаганда через систему образования, церковные проповеди и официальную прессу сводит шансы противников режима на его изменение почти к нулю. Интригующий вопрос, как же стала возможна революция в стране, где не наблюдалось явных признаков недовольства и не существовало серьезной оппозиции власти, и задает читателю автор{382}.
Во второй, недописанной статье Добролюбов разбирает два варианта ответа на этот вопрос. Судя по всему, он собирался отмести весьма популярную конспирологическую версию – об иностранном вмешательстве (Сардинского королевства и Франции) и внушить читателям, что сама система, давно дискредитировавшая себя, при первом же внешнем и внутреннем давлении на нее обрушилась сама собой{383}. Примечательно, что в статье «Отец Александр Гавацци и его проповеди» цитируется одна из проповедей этого удивительного священника-повстанца: «Только революция может создать Италию»{384}. Это, как нам кажется, свидетельствует, что Добролюбов не придавал значения либеральным теориям строительства нации и не верил в возможность ее создать, следуя по пути Кавура (политику которого критик высмеял в статьях «Два графа» и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура»). Революция, по представлениям Гавацци и Добролюбова, была единственным способом в одночасье сконструировать нацию, которой не было, через быстрое наделение всех граждан равными правами и свободами.
В статье «Из Турина», пожалуй, самой живой из «итальянских», написанной в жанре очерка очевидца, Добролюбов попытался более конкретно намекнуть на причины, по которым не произошло победы Гарибальди:
«Всё дело в том, что партия оппозиции и в Италии, как везде, не связана с народом практически… народ не с ними, не знает их и не понимает. <…> Если где и казалось вероятным избрание какого-нибудь радикала, то стоило министерской партии описать его как красного, террориста, жаждущего крови и раздоров, и все от него отказывались»{385}.
Добролюбов красочно описывал не только усилия правительства Кавура, направленные на нейтрализацию оппозиции, но и махинации, которые якобы были замечены на выборах.
«Итальянский» цикл статей сегодня читается с интересом, поскольку написан остроумно, бойким пером. Здесь Добролюбов вполне реализовал свой дар публициста: говорил о сложных политических процессах доступно и аргументированно, пропагандируя любимую идею социальной демократии и ненавязчиво предлагая читателю проецировать каждый сюжет на ситуацию в России. Подтекст «итальянских» статей превосходно понимали не только читатели, но и цензоры, что следует из их донесений. Лишь в статьях о европейских событиях в 1860–1861 годах можно было, говоря о современности, открыто употреблять слова «революция», «переворот», «деспотизм»; в статьях о русской литературе – только намекать на это.
Жажда любви: Эмилия и Ильдегонде
Не следует думать, что политика полностью поглотила Добролюбова, как только он выехал в бесцензурное пространство Европы. Поддерживая переписку с Терезой Грюнвальд, он по-прежнему пытался утолить потребность сердца в любви. Судьба готовила ему почти полное повторение истории с Грюнвальд – теперь уже в парижских декорациях. Французское увлечение Добролюбова до сих пор было известно только обрывочно{386}. Сейчас у нас есть возможность восстановить историю романа Добролюбова с француженкой Эмилией Телье (Tellier) по ее письмам, сохранившимся в архиве критика.
В начале октября Добролюбов, вероятно на бульварах, познакомился с Эмилией Телье. Парижанка принимала клиентов в собственной квартире, где жила с горничной Марией. В те годы многие иностранцы, в том числе и русские, наведывались в Париж в надежде завести необременительные связи с француженками. В 1861 году другой молодой сотрудник некрасовского «Современника», прозаик Николай Успенский будет так же наслаждаться прогулками по бульварам в поисках легкой добычи, сообщая в письме поэту Константину Случевскому:
«Париж великолепен!.. Я влюблен в Париж!.. Цирк здесь отличный – гризетки все в свеженьких юпочках… В Париже вам одна снежной белизны юпочка швейки много скажет… В Париже надо непременно обзавестись девочкой… да хорошенькой, а это здесь так легко… нигде в свете вы не найдете ничего подобного… Гризетки ходят, как мокрые куры… я иногда примусь бегать за какой-нибудь, да и брошу…»{387}
При всей разнице темпераментов Успенского и Добролюбова и отказе последнего от любых развлечений их сближала страсть к женскому полу.
После нескольких встреч Телье убедилась, что молодой русский испытывает к ней сильную симпатию. Желая сделать свидания более частыми, Эмилия слала Добролюбову письма с просьбами прийти; она надеялась, что новый русский друг вытащит ее со дна, на котором она оказалась: «У меня нет шансов, но ты такой замечательный, что сможешь изменить меня. Надеюсь, что мое жалкое письмо, полное ошибок (что верно, то верно. – А. В.), ты получишь лично в руки. Видишь, как плохо я пишу, в каждом слове есть ошибка, а то и две…»{388}
Свидания не прекратились и полтора месяца спустя, но случались редко – лишь тогда, когда Добролюбов сносно себя чувствовал. Через полмесяца, 1 ноября, Эмилия высказывалась уже более страстно: «Я уверяю тебя, мой друг, что я сдержу свое обещание, потому что я уверена, что ты сделаешь меня счастливой. А я, в свою очередь, не перестану тебя любить. И я верю, что смогу сделать тебя счастливым». Эмилия и опасалась приходить к Добролюбову в пансион, чтобы не компрометировать его, и тяготилась одиночеством. При этом по письмам парижанки ясно, что Добролюбов сомневался в искренности ее чувств, подозревал ее в «лицемерии» и предполагал, что она продолжает «подрабатывать». «Ты ошибаешься, мой друг, – возражала Эмилия, – твои сны – неправда. В четверг ночью я не была в объятьях другого. Я провела ту ночь в одиночестве, с грустью думая о тебе. <…> Ты же знаешь, я не виновата, что мне приходится продавать свои ласки другим». Телье мечтала, что вернется первоначальная идиллия: Добролюбов будет приходить к ней утром, проводить весь день с ней, а ночью она ляжет на полу, а он – на кровати{389}.
В конце ноября Добролюбов принял решение ехать в Италию и, вероятно, предложил Эмилии отправиться за ним, бросив «грязную» жизнь в Париже. Очевидно, она рассчитывала купить билет на деньги, полученные в ломбарде за заложенный браслет – добролюбовский подарок{390}. Эмилия в отчаянии просила прислать ей 1090 франков (примерно 500 рублей по тогдашнему курсу), чтобы выкупить драгоценность. Денег девушка не получила, о том, что сталось с браслетом, не сообщила, зато призналась, что вынуждена «выходить» на улицу, чтобы заработать денег: «И знай, что я не храню тебе верность, но всё идет плохо. Возможно, завтра будет лучше. Мой друг, не злись на меня. Я не могу поступать иначе. Я хотела бы иметь другую жизнь. Желаю этого всем моим сердцем»{391}.
Первого декабря, когда Добролюбов был уже далеко, Эмилия призналась, что только после расставания поняла, как сильно любит его, страдает без него, беспокоится о его душевном и физическом здоровье.
Восьмого декабря ее переживания дошли до крайности – она решилась распродать мебель и ехать:
«Мой друг, скажешь ли ты еще раз, что я не люблю тебя? Неблагодарный! Я горжусь тем, что не утратила все чувства. Я не хочу вести такую жизнь, выдавая себя за другую. Сейчас, мой друг, вернешься ли ты в Париж, чтобы дать мне совет? Напиши мне, ведь ты не хотел, будучи еще в Париже, чтобы я позволила тебе уехать, и не решилась сделать то, что ты ждал от меня. Наверно, я упустила свое счастье? Так, может, ты вернешься в Париж? Я знаю, что все эти поездки потребуют расходов, но ведь ради того, чтобы быть счастливыми, нужно жертвовать всем возможным»{392}.
Судя по всему, Эмилия имела здесь в виду их лучшие, самые счастливые парижские дни, когда, вероятно, Добролюбов намекал ей на возможность совместной жизни и даже женитьбы, но с условием, что девушка навсегда бросит прежнюю «профессию» и согласится следовать за ним. Он даже говорил одному из своих парижских знакомцев Карлу Доманевскому, что предполагает «прожить с ней счастливо года два»{393}. Косвенным доказательством этому служит признание Добролюбова в письме дяде от 13 (25) октября, что он «здесь жениться хотел»{394}. Намерениям этим не суждено было осуществиться. Добролюбов явно не собирался возвращаться в Париж и звал Эмилию к себе в Италию, но денег не прислал. Она отвечала:
«Господи, как же я несчастна! Мой бедный друг, как бы ты хотел, чтобы я поступила? Я вызвала оценщика. Ты знаешь, сколько он предложил за всю мою мебель? Всего 1900 франков. Как я смогу сделать то, о чем ты просишь? Это невозможно. 19 января истекает срок оплаты аренды квартиры, я должна заплатить 900 франков за три месяца, этого я не предусмотрела. Как видишь, у меня остается еще 1000 франков. Чуть не забыла тебе сказать, из них я должна дать немного обивщику мебели. Также есть другие мелкие расходы, выходит как раз 1000 франков. В общей сложности понадобится 1900 франков – это вся сумма от продажи мебели. После всего я не могла просить тебя оплатить мой билет. 30-го числа и 12-го тоже я была в ломбарде. Я заложила две цепочки для часов, мои кольца, твой браслет, всё, что у меня было. К тому же у меня есть принципы, которые не позволяют мне вот так уехать. Узнав про всё это, ты теперь видишь, любимый мой, насколько я несчастна. Я будто связана по рукам и ногам, мой друг, я заслуживаю жалости. Моим утешением стало твое письмо, где ты пишешь, что чувствуешь себя лучше.
Но умоляю тебя, мой друг, не слишком огорчайся, сделай это для меня. Я – женщина и я знаю свое место, но, мой друг, я не хочу верить, что мы расстанемся навсегда»{395}.

Письмо Эмилии Телье Добролюбову на французском языке.
1860 г. РО ИРЛИ. Публикуется впервые
В это самое время Добролюбов обменивался письмами с Обручевым, изливая ему душу и, очевидно, ожидая в ответ сочувствия и одобрения своих поступков. 7 декабря Обручев хвалил Добролюбова за то, что он «удрал из Парижа». По его мнению, друг вкладывал в эти отношения гораздо больше, чем Эмилия, которая принадлежит к известному типу падших натур, из эгоизма не готовых ничего отдавать взамен, тогда как истинная любовь должна быть «равномерна с обеих сторон»{396}. Доманевский, по поручению Добролюбова несколько раз посещавший Эмилию в начале 1861 года, считал ее типичной кокоткой, чье ремесло заключалось в обмане любвеобильных приезжих:
«Вы мне говорили, она никогда у Вас не просила денег, а чем докажете, что это происходило от ее любви, а не от хитрости. Ведь она лоретка, а все они только и рассчитывают на иностранцев, в особенности на русских, что считают за большую честь, и этим хвастаются… Так как не всякий день им приходится иметь добычу, то они и стараются привязать каждого посетителя подольше, и они очень хорошо знают, что лаской и деликатностью всегда можно вытянуть больше, и уже сразу видят, от кого что можно ожидать. Вы же своею предубежденностью никогда не подавали к тому повода. На все ее поцелуи и нежности надо смотреть как на дело всего ее ремесла»{397}.
Так кем же была Эмилия – несчастной женщиной, искренне полюбившей молодого русского, или расчетливой проституткой, тянувшей из него деньги? Скорее всего, верно второе, и Добролюбов понял это по следующему ее письму, где вскрылись неожиданные подробности ее жизни: