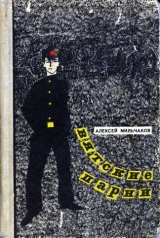
Текст книги "Вятские парни"
Автор книги: Алексей Мильчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Когда цвела черемуха
С отъездом Федоса конкордийцы лишились комнаты, в которой собирались на сходки. В его квартире сейчас хозяйничала мачеха. Если прежде она терпела сборища молодежи, то в отсутствие пасынка решила не считаться с его друзьями, пустила на жительство двух своих родственниц и дверь квартиры заперла на крюк.
Вопрос о месте для сходок неожиданно разрешил Вечка Сорвачев.
– Предлагаю свою конуру, – сказал он Кольке и Аркаше. – Помещение тесноватое, невзрачное, с квартирой Ендольцевых не сравнишь, но комнатенка все же отдельная. Заместо рояля, на гвоздике – музыка в три струны. Правда, ни книг, ни шикарных картин нет. Зато в оба окна видны и кресты, и кладбищенские елки. Пейзаж в натуре. Ежели подойдет, милости просим.
– А хозяева твои что скажут? – кивнул Колька в сторону двери.
Вечка осклабился:
– Чего им говорить? Не в монастыре живу. Ходили ведь по праздникам ко мне товарищи. В картишки на пиво играли. Ни шума, кроме смеха, ни шашней… Ничего хозяева не скажут.
Колька стиснул Вечкину руку:
– Принимается предложение. Нам ведь только до тепла, а там и под открытым небом можно.
Несколько раз конкордийцы без девушек собирались у Сорвачевых. Правда, однажды Катя настояла, чтобы Колька и Аркаша взяли ее с собой.
В воскресенье конкордийцы решили встретиться у Вечки. На столе стояло полдюжины купленного на складчинные деньги пива и в глиняном горшке моченый горох. Перед приходом гостей Вечка вышел за ворота покурить.
К каменным воротам кладбища тесной кучкой жались нищие. Из открытых окон церкви доносилось заунывное пение. Над синими елками парил в лазурном мареве, мотая мочальным хвостом, бумажный змей. В палисаднике соседнего дома, цепляясь за ветки акации, препирались воробьи.
Из-за угла вышли Колька, Аркаша, Донька и Катя. И чуть попозже Щепин.
– Едва, братцы, вырвался, – сказал Щепин. – Кое-как уломал своего начальника. По-сердечному, говорю, делу нужно мне, ваше благородие. До вечерней поверки отпустил.
Посмеялись. Нетерпеливый Донька открыл бутылку пива:
– За что же выпьем?
– За Ивана, – подсказал Щепин. – Меня, безбожника, по православным святцам каждое воскресенье в церквах поминают.
– Идет! За Ивана так за Ивана. А вы, Катенька?
– Ой, что вы!.. А от горошка не откажусь.
После второго стакана гости оживились. Вечка взял балалайку и виртуозно сыграл «Ах вы, сени мои, сени» и никитинскую «Отвяжись, тоска, пылью поразвейся».
– Талантливо. В оркестре бы тебе, Вячеслав, выступать… – сказал Щепин, пуская в форточку дым от цигарки. И вдруг с лица его исчезла улыбка: – Вот мы тут пивко попиваем, по кинематографам ходим. А ведь кровавая война идет. Каждый день погибают тысячи. Не мы, простые люди, труженики, а богачи, капиталисты затеяли эту бойню.
Щепин говорил, наклонившись к столу, и прищуренными глазами всматривался в лица ребят. В каждом его слове и жесте чувствовалось какое-то напряжение. Колька привык видеть его всегда веселым, уверенным, с хитрой усмешечкой под усами.
Щепин взял свой стакан с пивом, отпил до половины.
– Говорите, говорите, Иван, – нетерпеливо сказала Катя.
– Так вот, друзья… Молебны и парады, ножки балерин и соловьиные арии. Все это ширма. А за ней что? Тяжелый труд, горе и слезы. И в богоспасаемой Вятке рабочему человеку стало уже невмоготу. Возмущение рабочих депо против своего начальника – не случайность. Причина – не грубость немца, причина – в притеснении рабочих… Не так ли, Сорвачевы? – обратился он к братьям.
– А правда, все правда, – кивнул головой Тимоня.
– Нет, вы послушайте, что у нас в мастерских делается, – сорвался Вечка. – Замаяли нашего брата сверхсрочной работой, а жалованья и гроша не прибавили. По четырнадцать часов, как черти на сковородке. И конца этой каторге не видно. И ведь ничего не скажешь. Чуть кто косо глянул на начальство или брякнул что от души, сейчас грозят к воинскому начальнику и на фронт. Как дальше-то быть?
– Ты не распаляйся, – предупредил Щепин, – не кричи, хотя ты и дома. Бывают и у стен уши.
Тимоня возразил:
– Хозяин – свой, не балабонит на ветер. Сам такой же, как мы. По субботам отмывается от сажи. А в воскресенье галоши заливает – снова черный.
– Все равно кричать не надо, – повторил Щепин. – А как вам быть? Бороться за свои человеческие права, бороться дружно. Потребовать прибавки жалованья. Откажут – объявить забастовку. Забастовка – средство верное, испытанное. С этого начинал свои первые шаги к революции рабочий класс. Но прежде надо переговорить с товарищами по работе, узнать их настроение, осторожно, остерегаясь шпиков, объяснить, убедить. В мастерских и в депо Шалгин и Сорвачевы это могли бы сделать. Вы там свои люди, хорошо друг друга знаете. Вам больше поверят, чем постороннему. Поговорите там по душам, где в одиночку, где в небольшой группе, а бумагу мы поможем сочинить.
Щепин говорил спокойно, но заметно было, что он чем-то удручен. «Что-то случилось у Ивана», – подумал Колька. И когда Щепин, допив свой стакан, попрощался, Колька вышел его проводить. Молча миновали кладбищенскую стену, остановились под тополями в неверном свете луны. На луну наплывали облака, и по лицу Щепина скользили тени.
– Что-то случилось, Иван? – спросил Колька.
Он впервые назвал Щепина, который казался ему очень опытным и умным человеком и был старше на десять лет, так запросто по имени.
– Друга моего давнего – тоже питерец – вчера арестовали… Да ты его знаешь. В лазарете на Московской, в седьмой палате у окна койка. Так из лазарета и взяли. Где он теперь? Может, в тюремной больнице? Большевик, Николай Соколов, да еще какой! На нем вся работа наша среди раненых держалась… Ты вот что – литературу пока в лазарет не носи. А концерт дать – обязательно надо. И во время концерта узнай, что сможешь. Осторожненько к обстановке присмотрись, кого еще арестовали, и как это все получилось. Случайность или предатель среди нас оказался…
Колька расстался со Щепиным, испытывая чувство гордости от того, что ему поручено такое сложное дело.
Спустя несколько дней Щепин написал от имени рабочих железнодорожных мастерских заявление с требованием немедленной выплаты денег за сверхурочную работу.
Все рабочие, за исключением десятка привилегированных и некоторых трусов, подписались под текстом.
Вручить бумагу начальству согласились Вечка и Тимоня.
В ту же ночь к Сорвачевым нагрянула полиция с обыском. Перевернув все вверх дном, полицейские ничего подозрительного не нашли, и все же Вечку и Тимоню увели с собой.
Начальство отказалось удовлетворить требования рабочих.
Узнав об отказе и аресте своих товарищей, рабочие не вышли на сверхурочную работу.
Арест Вечки и Тимони взволновал конкордистов. Колька с Аркашей не знали, как поступить, чтобы выручить арестованных. Щепин порекомендовал начать официальные хлопоты, поручиться за ребят, как за хороших спортсменов.
– Будет толк или нет, а обивать пороги надо, – сказал он.
Конкордийцы начали ходить в канцелярию полицмейстера, не раз были в жандармском управлении. Наконец, им удалось узнать, что следствие закончено и арестованные на днях выйдут на свободу.
Вечку и Тимоню действительно отпустили, но взяли подписку о невыезде из города. Перебивая друг дружку, оба рассказали, что тянули из них на допросах жилы – отчего да почему, да кто надоумил, улещали, грозили, но оба «заперли свои души на замочек, а ключики дома оставили». Так ничего следователь от крепких парней и не добился.
Не прошло недели, как Вечку и Тимоню вызвали в воинское присутствие и записали обоих в маршевую роту.
Все течет, все изменяется
Гимназисты сдавали экзамены досрочно. Николай без особенных усилий перешел в последний класс. Аркаша – тоже.
В гимназии ввели для старшеклассников совместное обучение военному строю. Занятиями руководил призванный в армию Томеш. Занимались три раза в неделю – на дворе гимназии, на всполье у технического училища, на Александровской площади.
По булыжнику людной Николаевской улицы маршировали всегда с песней.
Проходя мимо булычевского особняка, самые горластые тенора задорно начинали:
Скажи-ка, дя-адя, ве-эдь недаром
Москва, спале-о…
Москва, спаленная пожаром, —
подхватывали мощные басы и широкие глотки остальных:
Фра-анцу-у…
Французу отдана.
Фра-анцу-у…
Французу отдана…
Красиво пели парни лермонтовское «Бородино» – заслушаешься. По краям ученической колонны шагали босоногие мальчишки, норовя попасть в ногу и тоже разевали рты. Останавливались девушки, засматривались на гимназистов.
В начале июня старшеклассников отпустили на летние каникулы. В табелях стояла отметка о прохождении военного строя.
Кольку опять поманила пристань. Что ему – широкому в плечах, стоящему крепко на ногах, мускулистому, с побуревшим от загара лицом – баклушничать!
Грузчики взяли его в свою артель.
«Где ты, Печенег! Жив ли? Хоть бы весточку послал!»
Кольке нравилась горячая работа. Тащишь на закорках пятипудовый мешок, бежишь по трапу на пружинистых ногах, а в голове светло, можно думать о самом сокровенном. Теперь свою временную профессию он не скрывал и от Наташи.
С той встречи в клубе «Молодых патриотов» отношения с Наташей стали проще. Девушка снова пришла в «Конкордию». Она оформляла журналы, вместе с Колькой, Донькой и Вечкой ходила в лазареты. Было видно, что она тянется на сходки конкордийцев. Но временами бывала и у «Молодых патриотов» и не держала это в секрете: «Там весело, потанцевать можно. И, кроме того, я там рисую. У них много интересной для меня работы».
Кольку раздражала такая половинчатость. А Щепин отнесся иначе:
– Пойми ты, ежик черный, колючий, что убеждения сразу не строятся и не ломаются в один миг. Бороться надо за человека, если хочешь, чтобы он вместе с революционным рабочим классом шел. А как бороться? Убеждением, примером. Но чтобы убедить кого-нибудь, нужно не только верить в свое дело. Знания! Большие, брат, знания нужны! Почему вы тогда на диспуте «О личности и массах» только протестовали, а выступили бледно, неубедительно, даже Федос? Знаний для борьбы маловато.
Вот я… я, можно сказать, только практический работник нашей партии. Потому что вера, убеждения есть, а широты знаний у меня нет. И говорю я плохо, казенно как-то. Я учусь, все время учусь, но образования маловато – значит, и фундамент слабый, большое здание на шатком фундаменте не выстроишь. Тебе легче, но ты, Николай, я замечаю, ленив несколько в отношении науки. Ловок, сметлив, литературу моим дружкам в лазареты передаешь ловко, «фараонам» изловить тебя на крючок мудрено. А сам-то читаешь ты нашу революционную литературу?
Откровенность Щепина, его признание, что важная часть работы – связь с солдатами – держится на Кольке и его дружках, были приятны. Колька на Щепина не обижался. Действительно читал немного и сам чувствовал, что обязательно надо приняться за курс философии.
Одна фраза Щепина заставила Кольку задуматься и никак не выходила из головы. «Я замечаю – романтик ты, Николай, – сказал ему однажды Щепин. – А романтика, порыв, красивые одежды – дело шаткое».
Скрипят, пружинят под ногой сходни, подувает низовой ветерок, освежая лицо и грудь. Бодро покрикивает Касьян Лукьянович, пришлый из Астрахани пожилой крючник. Он знает много присловий, соленых приговорок и шуточек. Под его веселый рассыпчатый говорок хорошо работается.
Но Колька все время вспоминает Афоню Печенега и его артель. Где-то веселый и ласковый богатырь Афоня? И где заросший рыжей шерстью мрачный и злой Игнат, который улыбался только во время драк с приказчиками и ломовыми, который часто повторял: «Погодите, запылает все это жизненное строение, с четырех углов полымем займется».
Когда отправили с маршевой ротой Вечку и Тимоню, негде стало встречаться конкордистам. И «Конкордия» прекратила свое существование.
И клуб «Молодых патриотов» тоже претерпел изменения. В нем стал председателем правления чиновник Бибер, большой любитель биллиарда. Вскоре этот клуб превратился в игорный дом для молодежи.
«Что-то давно не пишет Митя. Как-то у него складываются отношения с этой девушкой, поповой племянницей? Щепин назвал меня романтиком… Да какой я, к черту, романтик! Митя – он, да! Романтик, мечтатель… Наверное, он взглянул на эту Валентину из своей мечтательной души и полюбил им же самим созданный образ.
А я и Наташа?
Ох, Наташа, Наташа, – думает Колька, сбрасывая ловким движением плеча тяжелый мешок в штабель. – Надо будет ее чем-нибудь сегодня порадовать…»
Засунув в карман первую получку, он завернул по пути к Кардакову. Долго разглядывал парфюмерные товары, купил для Наташи и Кати французских духов…
Однажды Колька пришел с пристани усталый, потный.
Только открыл дверь, как Герка заорал:
– Сейчас же пляши «барыню»!
– Ты что, спятил?
– Пляши! – Герка помахал под Колькиным носом письмами.
– Ладно. Считай, что я в долгу перед тобой, а письма давай, – Колька стиснул Геркину руку и поставил упиравшегося брата на колени. – Кланяйся грузчику! Еще раз! А теперь повторяй за мной: «Милый братик Колечка (жалобнее, со слезой!)… Милый братик Колечка… Коленопреклоненно… вручаю тебе… эти конвертики…»
Николай взглянул на конверты: «Вот Митины прямые печатные буквы. Одно от Федоса! А другое? Штамп «действующая армия». От Бачельникова! Но почему мне, а не папаше?»
Уединясь в дровяник, Колька вскрыл Митин конверт.
«Здравствуй, дружище!
Не удивляйся преждевременному письму. Соскучился по Вятке. Читал в «Вятской речи» о Федосе, досрочно окончившем гимназию.
Читал, как вас, старшеклассников, чех муштровал. И о забастовке рабочих-железнодорожников слышал. Как там наши парни: Шалгин, Тимоня и его потешный братец? Где они?
Как ты поживаешь, печальный Демон? Как твоя Тамара? Почему в своих письмах, когда тебе хочется пооткровенничать, ты зажимаешь себе рот? Ты меня обижаешь.
Ну, писаришку нашего забрили, угнали. Таскали и меня в волость, мать лямочки к котомке пришила и сухариков насыпала, да меня пока завернули.
Живу, как во сне. Когда вижу Валентину Ивановну – мне хорошо, когда же ее нет около меня – мне бесприютно. Я уверен, что не чужой ей. Она однажды сама проговорилась об этом, но закончила двумя строчками из «Евгения Онегина», что, мол, другому отдана и будет век ему верна. Сказала как-то задумчиво, на секунду прижалась лицом к моему плечу и быстро ушла. Я окаменел, опустились руки. Чувство восторга перед новой Татьяной Лариной захлестнула жалость к ней, к себе. Кто этот счастливец? Конечно, он моложе старого хрыча в генеральских погонах, описанного Пушкиным. Где он? Почему она до сих пор молчала?
Теперь я не думаю о будущем, не мечтаю. Чему быть – пусть будет.
Жил в моих глазах смиренный парень,
честный, не обласканный никем.
У девчонок в вечной был опале,
потому что, дескать, манекен.
Свет в окошке мутью погасило,
кулаками сжал свои виски…
Запил парень, вынести не в силах
душераздирающей тоски.
Может быть, увидел он в стакане
не черты любимого лица, —
истину, что не всегда стихами
покоряют девичьи сердца.
Ладно. Замнем. А поп охоту забросил. Начал попивать. Когда хмельной, бродит простоволосый, с опухшим ликом, по околице, как расстрига. Неспроста пьет, от раздумий каких‑то.
Вот такие у нас в Юме дела. Коли заберут меня – не миновать Вятки. Тогда увидимся.
Привет всем.
Митя».
Федосово письмо уместилось на половине странички.
«Здорово, Черный!
Пять месяцев прошло, как я в военном училище. Живем в казарме. Без увольнительной ни шагу за ворота. Дисциплина. Лишь по воскресным дням отпускают на четыре часа в город.
Был в Большом и Малом театрах, в картинной галерее Третьякова, в цирке, в Сокольническом парке. В соседнем училище обучается Игорь Кошменский, такой же гладкий и такой же самоуверенный. Он, говорят, на виду у начальства и принят в генеральском доме как свой человек.
Ну, как вы там живете, мальчики? Поздравь девушек с окончанием гимназии. Пусть не торопятся выходить замуж.
Заканчиваю. Пишу ночью во время дежурства.
Федос».
Колька распечатал последнее письмо. Почерк косой, с завитушками, буква к букве. В правом верхнем углу первой страницы выведено: «Трапезунд. Турция».
«Доброго здоровья, Николай Тихонович!
Не удивляйся, что я пишу тебе, а не уважаемому мной Тихону Меркурьевичу. Ты поймешь – почему.
Нахожусь я в настоящее время за границей, в приморском городке Османской империи Трапезунде. Служу в оперативном отделе штаба дивизии. Твой папаша был прав, что мне, человеку все же с каким-то образованием, стрелять и колоть штыком не придется. Вышло все по его, даже лучше. Каллиграфия чертежника вывела меня, как князя Мышкина, в люди. Здесь я на положении вольноопределяющегося. Каким-нибудь пехотным зауряд-прапорам и не козыряю.
Трапезунд, где мы временно остановились, небольшой портовый городишко. Весь из камня. Улочки кривые, узенькие. Женщины, точно привидения, скользят по улицам, закутанные с головы до ног в чадру. Из щелочки смотрят на тебя черные глаза. Попробуй догадайся – красавица или старая яга. Только по плавной походке сообразишь, что встретил молодую. Обычно молодым запрещено их повелителем показываться на улице в одиночку. Ну, аллах с ними.
В городишке – солнце, скука и много голодных собак. По вечерам иногда с одним вологодским дружком ходим к морю – посмотреть на рыбачьи лодчонки, на северный горизонт, за ним ведь – Россия. Тянет домой. Осточертело все здесь, и служба, и тяжелая кобура с револьвером, которую таскаю на ремне.
Сходи, Коля, на Кикиморку к моей хозяйке, либо брата пошли. Узнайте: целы ли мои вещи – зимнее и демисезонное пальто, диагоналевая тройка, рубашки, белье. Пусть бережет. Пожелайте ей от меня здоровья. По возвращении я ее отблагодарю.
Кто, интересно, квартирует в моей комнате и спит на моей кровати? Дружит ли с кем из молодых людей Катерина Тихоновна? Я купил для нее турецкий платок – сказка из «Тысячи одной ночи». Передай ей привет и Марине Сергеевне. Ежели возвращусь домой, мы с Тихоном Меркурьевичем еще посидим за столом Лукулла.
Остаюсь – А. Бачельников».
Николай засунул письма под подушку. Растянулся на кровати. Закрыл в дреме глаза. В сумерках увидел Митю и с ним незнакомую девушку, наверное, это была Валентина Ивановна. Ее ладони лежали на Митиных плечах. Колька не успел хорошенько разглядеть, как их закрыла черная ряса попа, грозившего своей десницей небу. Перед ним вдруг появились в форме офицеров Федос и Кошменский. Игорь, криво улыбаясь, шикарно, по-адъютантски козырнул и сказал: «Мы, кажется, знакомы». Колька опоздал ответить. Заклубилось облачко, оказавшееся дымом от Санькиной папиросы. За спиной бывшего чертежника качались на розовой волне рыбачьи фелюги. На бортах сидели бурые от загара супостаты и болтали босыми ногами. Городок дремал. Тонкие, как гвозди острием вверх, стояли минареты мечетей. На каждом в лучах заката, пламенного, как феска, блестел кривой нож полумесяца.
Постепенно очертания города, гавани стали расплываться. Все потерялось, смытое неслышной волной крепкого сна.
Горе Тихона Меркурьевича
Дважды прочел Тихон Меркурьевич Санькино турецкое письмо. Нахлынули воспоминания о времени, когда они работали вместе, благодушествовали за рюмочкой воистину по-лукулловски. «Доброй души человек. Как уважительно обо мне написал. А почерк – влюбиться можно. Катеринка – нос в сторону, а он ей – турецкий платок!»
– Николай, письмо Бачельникова я возьму себе, – заявил Тихон Меркурьевич. – Оно тебе ни к чему. Я сам завтра же схожу на Кикиморку. Просьба бывшего сослуживца и ратника лично для меня – священная обязанность. А тебе туда таскаться нечего. Восьмой класс – не шутка. Пора об учебниках подумать.
Колька не возражал.
Письмо Тихон Меркурьевич положил в свой ящик. На другой день непредвиденные дела помешали выполнить Санькино поручение, на следующий – задержался на работе, устал, а на третий день – поленился, решил, что успеется – никуда его вещи не денутся, Минеевна – старуха надежная.
Прошло почти полгода.
Однажды воскресным утром, роясь в ящике, Тихон Меркурьевич среди бумаг обнаружил злосчастное письмо.
– Батюшки! – схватился он за больную с перепоя голову. – Что я наделал! Даже не ответил человеку. Его, голубчика, поди и в живых нет.
Тихон Меркурьевич засунул конверт в карман пиджака и – к вешалке.
За окнами вьюжило. На кухне вздрагивала заслонка. Но погода не пугала всполошившегося Тихона Меркурьевича. Он натянул ушанку на лоб, влез в тулуп, запахнулся.
– Что случилось? Ты куда? – встала на пороге Марина Сергеевна.
– Ай, не спрашивай! Наказал меня бог – окончательно прохудилась память. Помнишь, Бачельников просил в письме сходить на его квартиру – узнать о вещах – целы ли? Так вот я… Одним словом, пойду узнаю.
– Господи, какой ты! Через полгода вспомнил. Доверься такому, – укорила мужа Марина Сергеевна.
– Однако же ты доверилась. Замуж-то не за другого, а за папашу вышла, – заметила Катя.
– Так он молодой лучше был…
А на улице куролесила вьюга, сыпала снежной пылью с крыш, переметала дорогу, связывала ноги.
К двери Минеевны намело по колено снега. Тихон Меркурьевич постучался. Не вдруг отозвался женский голос.
– Откройте-ка. Ганцырев это. Мне бы Минеевну. По делу.
После некоторого молчания заскрежетал и звякнул крюк. В дверной щели показалась незнакомая личность, закутанная в серую вязаную шаль.
– Проходите, пожалуйста. Дверь я запру. Сейчас такое время, нельзя без опаски, – пожаловалась новая жиличка.
В темном коридорчике пахло жареным луком. Не сразу разглядели глаза, куда идти.
– Минеевна, к вам по делу! – крикнула квартирантка и растаяла в темноте.
Тотчас же сбоку скрипнула дверца. В коридоре посветлело.
– Царица небесная, кто пожаловал?! – воскликнула Минеевна. – Это каким же духом принесло тебя, батюшка, в такую непогодь?
– На ковре-самолете прилетел, – ответил шуткой Тихон Меркурьевич.
– Снимай шкуру-то да проходи в горницу. Ишь напустил холоду.
Тихон Меркурьевич вылез из тулупа, сел к столу, положил на скатерку Санькино письмо.
– Я к тебе на минутку, Минеевна, по делу, – разглаживая помятый конверт дрожащими пальцами, сказал Тихон Меркурьевич.
Старуха подсела к гостю:
– Ну, говори, какое дело у тебя ко мне?
– Письмо я от бывшего твоего квартиранта Сани Бачельникова получил. Вот оно.
– Где он теперь? Воюет? Жив ли?
– Жив. Посылает тебе поклон. Здоровья, благополучия желает. Хорошая, пишет, хозяйка у меня была, редкой доброты женщина.
Тихон Меркурьевич извлек из конверта письмо:
– Вот послушай. «…В часы смертельной опасности… как о матери родной – думаю о Минеевне. Ее молитвами – жив… и надеюсь ни одна турецкая пуля не заденет, и озверелый янычар не зарубит ятаганом…»
Минеевна швыркнула и кончиком платка утерла нос.
– Чувствительно написал. У меня, как ни крепок я, и то слезу вышибло, – слукавил, не без задней мысли, Тихон Меркурьевич. – Недаром жена-то в пример сыновьям Саню поставила.
Минеевна вздохнула, покрестилась на икону:
– Дай ему, владычица небесная, здоровья, убереги от пули. Тихий, неслышный был квартирант, не то что – эта… Целый-то день-деньской стучит на своем «зингере», придворная купецкая швея. Покоя нет.
Тихон Меркурьевич поежился, положил письмо в карман.
– Ты не домой ли? – встрепенулась Минеевна. – Доброго гостя необогретого я не пущу.
Она, звякнув ключами, открыла буфет и поставила на стол графинчик с желтоватой жидкостью.
– От позапрошлого рождества осталась настоенная на лимонной корке.
На закуску хозяйка принесла желтых огурчиков и квашеной капустки с клюквой. Налила стаканчик гостю и рюмочку себе.
– Кушай за здравие воина Александра, – старуха покрестилась на передний угол и, морщась, выпила из своего наперстка.
Тихон Меркурьевич уже хрустел капусткой:
– Да, славный Санька парень. Люблю, пишет, Минеевну, как мать родную. Ежели уцелею, отблагодарю за доброту.
Минеевна наполнила стопку гостя, а свою рюмочку убрала:
– Кушай, кушай. Огурчика попробуй. Не рыночные, своего засола.
Тихон Меркурьевич не заставил себя просить, выпил.
– Хороша настоечка, согрела косточки! – проговорил он, подцепив вилкой огурец. – Так вот, пишет Саня-то, турецкую, дескать, шаль купил у пленного турка, голова цела будет, подарю дорогому человеку.
– Так и написал? – дернулась с места Минеевна.
– Так и написал… черным по белому. Да вот читай, – и Тихон Меркурьевич полез в карман за письмом.
– Чего я прочитаю, неграмотная. Значит, написал – подарит?
Тихон Меркурьевич мотнул головой. Он согрелся, отяжелел, не возражал против следующей стопки, соображая, сколько еще в графине осталось и хватит ли силенок добраться до донышка.
А Минеевна говорила про свое:
– Вконец нарушилось мое производство. Не стало пикши. Пирогами с кислой капустой торгую. Не больно кидаются на капусту-то. И когда она кончится, война эта?
– Ничего не попишешь, Минеевна. Заварили кашу – не скоро расхлебаешь. У войны пасть широкая – только подавай – людей, продукты, одежду. Потому все и подорожало. Ну, за твое здоровье!
Гость начал зевать и уже рассеянно внимал жалобам Минеевны. И только, когда она упомянула имя местного архиерея, переспросил:
– Чего-чего?
– Не слыхал разве? Преосвященный-то Филарет на покой ушел. В кассе недостачу обнаружили.
Тихон Меркурьевич криво усмехнулся:
– Ловок старикашка. Тихонький был, голосишко жиденький, а сребреники и его, как Иуду, в грех ввели. Куда идем? Сахарок – с выдачи. Крупчатки не стало. Раньше у Ермолина в лавке мешок на мешке стоял, а сейчас горбун фунтами торгует. С маслом – перебои. Молоко – втридорога. Плохо с дровами. Цены растут, а на заводах жалование рабочим снизили. Ижевцы-то двенадцать дней бастовали – губернатор карателей посылал.
Гость отказался от последней стопки, тяжело поднялся:
– Спасибо за угощенье. Пора к дому.
Минеевна помогла гостю одеться, проводила за дверь:
– И как только ты, сердешный, поволокешься по такой заворошке? Упадешь – завалит тебя. Переждал бы.
– Не бойся, пробьюсь. Не в такие бураны попадал! – хвастливо выкрикнул из глухого воротника Тихон Меркурьевич. – Спасибо тебе, божья старушка, за угощенье. Не поминай лихом.
Тихона Меркурьевича толкнуло ветром в спину, подхватило, завертело, бросило ему на голову охапку снега, понесло под гору. На углу, где поворот, он не удержался на ногах и шмякнулся. Кто-то добрый поставил на ноги. И опять вихрь крутил его волчком, свистел над головой, залеплял глаза колючим сухим снегом.
Как ни мотало, ни качало человека, он благополучно пробился сквозь снежный шторм к своей гавани.
Дома, кроме Кати, никого не было. Она помогла отцу раздеться, подала крепкого горячего чаю.
Тихон Меркурьевич тяжело опустился на стул, взял озябшими пальцами стакан и отпил глоток. И тут вспомнил, что самого главного из Санькиной просьбы он, по забывчивости, не выполнил – не справился о вещах.
«Как же это так? Всю дорогу помнил, и когда порог переступал – помнил, и на!.. Из дырявой башки выскочило».
– О-о!.. – выкрикнул Тихон Меркурьевич и, снедаемый обидой на себя, схватился за голову, не замечая, что плачет горькими, злыми слезами.
Встревоженная Катя подбежала к отцу:
– Папа, что с тобой?
Отец обнял дочь и поведал о своем неутешном горе. Катя уговорила, успокоила отца:
– Ничего, ничего, жаль, что письмо пролежало долго без ответа. Я сама схожу к Минеевне и напишу Бачельникову.
У Тихона Меркурьевича отлегло от сердца. Он благодарно улыбнулся и, чего с ним никогда не бывало, стал целовать Катины руки.








