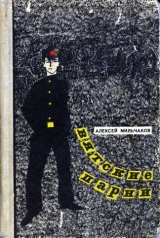
Текст книги "Вятские парни"
Автор книги: Алексей Мильчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Домой
На Ярославском вокзале в прокуренных залах ожидания было тесно и душно. На диванах и прямо на полу у багажа сидели, полулежали пассажиры. Было немало военных.
У выхода на перрон скопилась большая толпа. Все галдели, толкали друг друга, напирали на двери.
В углу зала оказалось свободное место. Федос поставил чемодан, положил на него шинель. Хотя от погон остались на плечах одни дырки, всякий сказал бы, что этот рослый детина – офицер.
Федос сел и прислонился затылком к стене, закрыл глаза. Вытянутые ноги гудели от усталости. Позади командование полуротой, ранение в руку, лазарет.
Объявили посадку. У дверей началось столпотворение. Послышался детский плач. Кто-то кричал: «Рива, держи крепче кошелку!»
Пассажиры штурмовали поезд. Над толпой качались чемоданы, узлы, котомки, в вагоны врывались с криками и бранью, с бою занимали полки.
Федос приютился в тамбуре. За Ярославлем удалось втереться в вагон и присесть на свой чемодан.
На утре подъехали к Вологде. Поезд мучительно долго стоял у семафора, потом на станции. У Федосовой соседки ребенок запросил пить. В вагоне не нашлось глотка воды. Федос разыскал котелок и выбежал на перрон. Ларьки оказались запертыми. Вокзальный буфет не работал. У крана с горячей водой толпилась очередь. На стене кипятилки написанные суриком слова: «Солдаты, рабочие, крестьяне! Вступайте в ряды Красной Армии!»
Федос занял место за коренастым солдатом. Солдат нервничал, иногда барабанил по донышку ведра. Когда, наконец, дошла до него очередь, Федос попросил, ради ребенка, пропустить его с котелком вперед. Давно небритый солдат смерил Федоса сердитым взглядом и вдруг, бренча дужкой ведра, полез обниматься.
– Федос! Ваше благородие!
– Вечка, чертушка! Живой? А где Тимоня?
– В земле братуша.
В очереди загалдели:
– Эй, вы, артисты, набирайте воду или проваливайте!
Вечка сообщил, что он отпущен из лазарета, едет в предпоследнем вагоне, где одна солдатня.
– Давай, Федос, к нам. Тащи свои вещички, – Вечка обласкал глазами друга, обхватил за плечи и, потускнев лицом, сказал: – Еще со мной один наш дружок едет – Афоня Печенег.
– Афоня? Печенег? – воскликнул Федос.
– Только плох он, Афоня наш, очень плох.
Раздался гудок паровоза, и Федос побежал к своему вагону. Отдав женщине котелок с водой, он выскочил на перрон. Все быстрее крутились колеса, проплывали подножки вагонов, на которых гроздьями висели мешочники.

С площадки последнего вагона махал рукой Вечка. Его дружки протягивали руки, чтобы подхватить Федоса.
– Давай, давай, Федос, лезь на верхотуру, – говорил Вечка. – Там наша с Печенегом позиция.
Плотный, сизый от махорки воздух скрадывал дневной свет; в вагоне стояла дрожащая полумгла, и Федос не сразу узнал Печенега. Длинное тело, широкая грудь, огромные кисти рук – все было неповторимое, Афонино. Федос глянул на лицо грузчика, и сердце у него сжалось. Где широкое, как ватрушка, доброе лицо Печенега?
Он увидел глубокие провалы щек, туго обтянутый синей сухой кожей череп, на лбу и подбородке бурые пятна.
– Федос, друг… – узнал его Афоня, хотел еще что-то сказать и захлебнулся лающим кашлем. Его широченная грудь пошла ходуном – вверх, вниз, судорожно и страшно, словно грудную клетку Афони разрывал изнутри какой-то неукротимый зверь.
Федос порывисто припал губами к небритой щеке Афони, потом, придерживая его вздрагивающее тело за плечи, стал поить водой.
– Не надо, Афоня. Не говори, молчи, брат… – повторял он шепотом, а хотелось кричать от боли и жалости к богатырю Афоне, которому, казалось, износа не будет.
Вечка длинно и злобно выругался:
– Эх, твою мать, за веру, царя!.. – он скрипнул зубами и стукнул кулаком в стенку вагона.
Через несколько минут приступ кашля прошел, и Печенег, обессиленный, весь в поту, забылся тяжелым сном.
Вечка вполголоса пересказал Федосу, что сумел узнать из отрывистых фраз Печенега, когда тот чувствовал себя полегче и между приступами кашля мог говорить.
– Досталась крепко нашему Афоне войнища эта. Сколько раз в когтях у смерти побывал. Два раза от пули с жизнью чуть не простился, но выцарапался богатырь наш, встал. А потом – глянь-ка на лицо-то его – огнеметами их поджаривали… А кашель – это газами травили… Ничего живого будто в нем не осталось, смерть рядом стоит, ждет, а он ее гонит и гонит от себя к такой матери… В лазарете его долго выхаживали, на поправку, было, пошел, и вдруг тиф… Конец Афоне… Ночью его за мертвяка приняли, в мертвецкую снесли… А на рассвете встал Афоня, дверь вышиб… Сам в палату заявился. На свою койку лег… Доктор все удивлялся: «Ну и ну! Недаром говорят: парни вятские – хватские. Их голой рукой не возьмешь».
Уже вечерняя мгла вползла в окна, загорелся над дверью вздрагивающий огонек фонаря; стонали, всхрапывали, ругались и кричали в тяжелом сне солдаты – и ночью не оставляли их видения войны, – а друзья все говорили и говорили вполголоса.
– А Тимоня на моих глазах погиб, – рассказывал Вечка. – Залегла наша рота в винограднике возле шляха. Жарынь. Гимнастерка к лопаткам прилипла. А австрияки знай поливают свинцом – спасу нет… Тимоня в трех шагах от меня. Слышу, кричит мне: «Вечь! Свой брат своего ведь брата не щадя бьет! Нельзя нам помирать. Понял?» «Понял, – отвечаю, – прижми башку-то к земле!». «Ежели убьют нас, – слышу голос Тимони, – и пожалеть дураков некому». Взъелся я на него: хватит гундосить, заткнись! В это время артиллерия загрохотала, только звон в голове. Потом канонада оборвалась. «Тимонь!» – кричу ему. А он ткнулся лицом под куст и не шелохнется. Потянул за рукав – уже кончился… А тут поручик кричит: «Соколики, в атаку, ур-ра!» Больше я Тимоню не видел, слышно, схоронили его в братской могиле…
Стучали колеса, вздрагивал желтый огонек фонаря, а к друзьям сон все не шел. Говорили о Вятке, о сходках конкордистов, о Луковицкой футбольной команде, и воспоминания эти казались такими далекими, как воспоминания детских лет, и так же, как впечатления детства, согревали сердце, сглаживали тяжелую ожесточенность.
Когда на рассвете подъезжали к знакомым местам, Афоня вытянулся, попросил положить ему под голову скатку и, повернувшись на бок, стал неотрывно смотреть в окно.
Письмо
О приезде Федоса Николай узнал от Тихона Меркурьевича, который, явно смущаясь, объяснил свое появление на Шмелевском заводе необходимостью поскорее передать сыну письмо:
– Я, Коленька, сегодня в роли посыльного. Корреспонденция вот на твое имя. Я и подумал: нет ли в письме чего срочного?
Но Николай сразу разгадал по смущенному виду папаши его тайные побуждения: времена пришли трудные, Марина Сергеевна стала необычайно строга, и Тихону Меркурьевичу месяцами не удавалось принести жертву богу Бахусу.
В это время по двору проходил главный пивовар. Он издали закивал головой Тихону Меркурьевичу, которого, оказывается, прежде знал по встречам за преферансом:
– Рад, весьма рад такому гостю, который может продегустировать… оценить по достоинству… Не то, конечно, теперь качество, но все же кое-что заслуживает внимания… Вы разрешите, Николай Тихонович? – и, подхватив Ганцырева старшего под руку, он пригласил его к себе в кабинет.
Письмо было из Юмы, от Мити Дудникова. Николай давно ждал от него вестей, дважды посылал ему с приятелями, едущими через станцию Свеча, короткие записки, но Митя глухо молчал. И это письмо сначала его обрадовало, потом встревожило – так как оно было непохоже на прежние Митины письма.
«Здравствуй, друг мой Черный!
Не писал я тебе так давно, что не знаю, с чего и начать. Уж очень много надо сказать и о событиях в Юме, и главное, о самом себе.
Отец Клавдий, опекун и хранитель Валентины Ивановны, умер. Ходил он на требу в дальнюю деревню, возвращался в метельную ночь после угощения на нетвердых ногах и не дошел до села, не смог подняться от речки на горку. Утром собаки отрыли его, замерзшего, в сугробе на самой околице.
Тихие стояли у гроба попадья и Валя. Смотрел я на лицо Валентины Ивановны и видел, какое для нее огромное горе – смерть отца Клавдия.
Попадья вскоре уехала. Валя осталась одна. Она перешла жить к старенькой учительнице, стала помогать ей учить ребятишек грамоте.
И странно, и больно говорить об этом, но почему-то она ко мне после смерти отца Клавдия переменилась. Полмесяца назад пришла вечером и попросила, чтобы я помог ей уехать в Вятку. Поверишь, это было для меня, как удар ножом в грудь. Все помутилось у меня в глазах. Валентина Ивановна увидела, наверное, как я побледнел, взяла меня за руку, прижалась к плечу и вот что сказала:
– Ты единственный друг у меня на этом свете. Я писать тебе буду. Очень часто писать.
Я просил ее остаться, говорил: «Выходи за меня замуж!» А она ответила:
– Ты шутишь? Зачем?
Нет, не любила она меня… Ох, Черный! Потом получил от нее коротенькую записку, что живет она на Овечьей горе, у случайной знакомой, в доме, где переплетная мастерская. Писал ей письма – ни словечка в ответ. Прошу тебя, Черный, сходи к ней, узнай всю правду. Хочу знать правду! Это нужно мне, очень нужно! Сходи!
Митя.
P. S. За все время несколько раз был у воинского начальника, просился в армию. Отказывают, говорят: нельзя, нет мне замены в этой почтово-телеграфной конторе. И что-то с легкими, говорят, не очень ладно.
Твой Митя».
Сообщение отца о приезде Федоса обрадовало Николая, и, закончив дела, он поспешил к другу.
У Федоса неожиданно для себя он увидел Вечку: Тихон Меркурьевич забыл сказать ему, что и Вечка вернулся. Друзья обнялись, и Николай, не в силах унять свою радость, обхватил приятеля, приподнял и начал кружить его по комнате. Вечка терпел, лицо его наливалось кровью, и вдруг застонал сквозь зубы:
– Пусти, черт черный! – прохрипел он.
Николай разжал объятия, и Вечка, уже улыбаясь, стал разглаживать, покачивать, как ребенка, левую руку:
– Вот, черт, медведь. Право слово, медведь.
Николай растерялся, попытался что-то сказать, но в это время Федос потянул его за рукав в кабинет, откуда доносился лающий кашель.
Все в этот вечер перемешалось в душе Николая: и радость встречи с друзьями, и боль за Митю, и горе при виде изуродованного лица Печенега. Как будто открылись перед его глазами в огне и грохоте просторы России, на которых работала гигантская мясорубка и уродовала, перемалывала тысячи жизней. Никогда еще он так зримо не представлял себе дикой бессмысленности империалистической бойни.
Пришел Щепин. И Федос сразу заговорил о том, что Советская власть создает новую, рабоче-крестьянскую армию, что в ней уже около полумиллиона добровольцев:
– Хочу подать заявление на курсы красных командиров, если, конечно, примут. Я попрошу у тебя, Иван, как у председателя полкового комитета, справку или рекомендацию что ли, если ты веришь мне…
Встрепанный ворвался Игнат, заполнил весь кабинет огромным телом и хриплым яростным голосом. Он отчаянно ругался и затихал только тогда, когда раздавался лающий кашель Печенега.
Думали, как помочь ему, как поставить на ноги. И решили отправить в деревню к старой няньке Федоса…
Николай вернулся домой поздно. Дверь открыла Катя.
– Все спят, – шепнула она. – Идем на кухню.
Зашуршала спичками. Зажгла коптилку. Принесла письмо. Почерк незнакомый, адресовано ей. В углу штамп полевой почты.
Николай достал из конверта коротенькую, почти официальную Катину писульку о сохранности вещей Бачельникова и письмо его сослуживца, извещающее о смерти старшего писаря Бачельникова, погибшего от пули курда. В письме сообщалось, что на груди убитого нашли красивый шелковый платок, видимо, подарок для невесты. Убитый похоронен в каменистой турецкой земле.
– Мне тяжело, Коля, – прошептала Катя. – Красивый платок, красные, как кровь, пионы. Помнишь, он принес мне в день рождения целую охапку пионов?.. Пуля курда… Кремнистая чужая земля…
Катя провела по щеке ладонью и ушла в темную комнату.
Жалкий стихоплет
Юмские события взволновали Николая. Ведь все было хорошо: обретенное другом счастье, вдохновенные стихи. И вдруг – гибель попа Клавдия, поспешный, похожий на бегство, отъезд Валентины Ивановны и Митино отчаянье.
Лихорадочное состояние автора письма передалось Николаю. Мешкать было нельзя. Засунув письмо в карман, он полетел на Овечью гору. Там у заборов вольно росла крапива, летали над ней черно-оранжевые бабочки.
Внизу, среди неразберихи серых кровель, дымила труба бывшей Коробовской паровой мельницы, высилась белая колокольня Хлыновской церкви. Правее поднимались на взгорок гуськом древние березы Казанского тракта.
Николай огляделся. «Вот овраг, а вон и самодельная вывеска переплетчика. Ага, значит, надо идти сюда», – сообразил он, звякнув кольцом калитки.
Во дворе, на скамейке у домика, похожего на баньку, он никак не ожидал увидеть своего товарища, о котором думал.
Митя, наклонив голову, водил прутиком по земле, а женщина в темном старушечьем платке, сидевшая рядом, что-то говорила.
Появление Николая прервало их разговор.
Митя приподнял лицо. Улыбка явно ему не удалась. Он быстро встал, кивнул женщине и потащил друга к калитке. Встревоженный, расстроенный Митя хотел что-то сказать и не мог. Лишь в сквере Александровского собора, когда они сели на первую попавшуюся скамью, он нащупал в кармане спички, посмотрел на этикетку, жалко улыбнулся и сунул коробок обратно.
– Не обращай на меня внимания, Коля. Реву, обливаюсь слезами, как баба на вокзале. Ох, и дурень же я, размазня, лепешка… – Митя закрыл ладонями лицо, уперся локтями в колени: – Сегодня приехал и сразу, в четыре ночи, к этому дому.
Николай дернул товарища за локоть:
– В чем дело? Возьми себя в руки, эй, Митька! Торба со стихами! Не вздумай в самом деле голосить, как деревенская молодушка. Ну?
Митя выпрямился, придвинулся ближе к товарищу:
– Понимаешь, друг, облачком растаяла Валентина-то Ивановна. Напророчил на свою шею, жалкий стихоплет. – Митя раскрыл записную книжку и подал Николаю фотографию. – Ни письма обещанного, ни словечка мне. Это я стянул из альбома еще в Юме.
На Николая в упор смотрели большие улыбчивые глаза, чуть накрытые темным навесом ресниц. Четко очерчены дуги бровей. Над ясным лбом корона волос. Пухлый детский рот полуоткрыт. («Такие лица никогда не забываются», – подумалось Николаю). Она была в вышитой украинской кофточке. Правый край фотографии по прямой обрезан тупыми ножницами. Видимо, хозяйка не дорожила этой половинкой с чьим-то изображением.
– Грустно, брат, мне, – возвращая фотографию, сказал Николай. – И все-таки я не могу поверить, чтобы эта милая женщина с глазами счастливой девочки лгала тебе, обманула. Тут что-то другое, не зависящее от нее. Ты зря расклеился. Наверное, она написала тебе, все объяснила, и письмо ждет тебя дома. Но скажи толком, что ты узнал о ней, куда она уехала? Почему?
Митя поморщился, как от боли:
– Ничего путного. Случайной знакомой Валентины Ивановны я не видел, говорил с матерью ее. Понял одно, что Валентину Ивановну потянуло после пережитых в Юме горестей на родину, к матери, в какое-то Спасское городище. А ко мне, наверное, было у нее что-то такое – от одиночества. А лгать она не захотела.
– Человека, Митенька, как и птицу, всегда влечет в родные места. Естественное желание. Ну, а о тебе-то она говорила тут с кем-нибудь?
– Ни слова. Будто меня и на свете нет. Старуха не сразу пустила меня в свою лачугу.
Николай положил руку на Митино плечо:
– Ну, знаешь… Мамаша могла всего и не знать. Зря ты не свиделся с ее дочерью.
– Поговорил бы, да в деревне она. А, впрочем, так мне и надо, дураку. Уеду я. Осточертело сургучом дышать. Проводи, если можешь, до вокзала. Тебе ведь по пути. Почта моя на замке, кабы худа не было.
В вокзальной сутолоке Митя оживился:
– Послушай, Николай, а может твоя правда – письмо-то Валино вдруг ждет меня?
Николай обнял Митю:
– Ждет – не ждет, а такие правдивые у нее глаза. Какой ей смысл кривить душой, обманывать тебя? Ты напиши мне обязательно, как приедешь.
– Напишу, напишу. Ты извини меня, самолюба. Ничего не спросил о твоей жизни, о Наташе, о друзьях.
– Это бывает… – ответил Николай. – Работа у меня живая, но рвусь в армию, а не пускают. Федос оказался военным человеком по натуре. Хочет учиться на красного командира. Донька выступает с большевистскими речами на собраниях печатников. Вечка и Агафангел – на железной дороге. Тимоня погиб… Ну, а у меня с Наташей – и хорошо и плохо. Даже как-то неудобно говорить тебе об этом сейчас. Но не скрою, с норовом она, – Николай приостановился, взглянул на Митю, не зная, сможет ли тот сейчас понять его, но сказал, потому что надо было для самого себя выразить то, что давно гвоздем сидело в голове: – И ясная она временами и смутная. В мозгах у нее какая-то каша. Не задумываясь, она может увлечься чем-то случайным и даже враждебным, чужим, если это чужое покажется ей красивым. Но я люблю ее давно и хочу бороться за нее. Да, за нее… за себя… Ничего, я ее обломаю, добавил Николай грубовато, чтобы скрыть свое смущение.
Митя взглянул на его тяжелые жилистые руки, на широкие плечи и рассмеялся.
– Ты не подумай в прямом смысле. Я выразился фигурально, – пояснил Николай.
– Понимаю, понимаю, – продолжал смеяться Митя. – Эх, табачку нет. Запретила Валентина Ивановна. Не курю, а коробок спичечный зачем-то таскаю в кармане. Ну, лети на свой завод. Спасибо за все.
– Приезжай почаще. И пиши, пиши, а стихи обязательно! – пожимая Митину руку, сказал Николай.
Красный директор
Уехали в Москву и Соколов и Цейтлин. При прощании Соколов свою библиотеку подарил Николаю, и теперь у него на полочках, сделанных Игнатом, стояли и радовали глаз книги.
Николай все-таки познакомил Игната с Соколовым. Виталий Андреевич проговорил с грузчиком в первый раз до полуночи. Игнат на другой день очень хорошо отзывался о Соколове:
– Умнейший человек Виталий Андреевич. Только не в мой лад он говорит. Нету в нем злобности на жизнь. Мягкости в нем много.
– Так, чудак человек, – возражал Николай, – большевики никогда не могут быть злобными. Они ведь борются за счастье для всего народа. Самая человечная идея на свете, чистая, добрая!
– Так-то, вроде бы, так… – задумывался Игнат и каждый день ходил на Кикиморку почаевничать с Соколовым.
А Виталий Андреевич однажды посоветовал Ганцыреву:
– Надо бы подумать о том, чтобы Игнат не со стороны наблюдал за нашей работой, а жил бы вместе с нами. Как всякий человек практического склада ума, он судит о политике не по речам, а по делам.
После этого разговора Николай уговорил Игната перейти грузчиком на Шмелевский завод. Игнат предложение принял с хохотом:
– Хо-хо! Вот это по мне! Вот это по моему характеру, в масть. Давно горлышко у меня ссохлось, пора бы и размочить. А не боишься ты, директор, что убыток от меня громаднейший заводу произойдет?
Работал Игнат хорошо: ворочал огромные бочки, таскал через весь двор чувалы с зерном со склада в цех, не отказывался и от слесарной работы. А выпивал в обед три ковша пива и вечером после работы тоже.
На заводе дела шли плохо. Николай скоро стал замечать, что зерна расходуется гораздо больше, чем нужно для нормальной суточной работы завода.
С рабочими и работницами он сошелся быстро. И пожилые, и молодые скоро стали считать его своим парнем и были с ним откровенны. Он с утра до вечера был на заводе, в цехе, нередко помогал слесарям, бондарям, в часы привоза зерна организовывал выгрузку и сам, на пару с Игнатом, показывал настоящую работу. Особенно удивляло всех, что директор не выпивает и никакой работой не гнушается.
Главный пивовар из старых служащих завода, двадцать лет проработавший с хозяевами, присматривался к нему, лебезил, пытался пригласить к себе в гости. И часто Николай ловил на себе его внимательный острый взгляд из-под припухших век. Человек этот был неприятен Николаю, но дело он знал хорошо. Несколько раз он передавал поклон Тихону Меркурьевичу и приглашение заглянуть на завод. И Тихон Меркурьевич порывался проведать приятеля. Но Николай, обидев папашу, строго-настрого запретил ему появляться на заводе.
Куда же все-таки уплывает зерно? Николай рылся в бумагах, стараясь найти ответ. В бумагах трудно было разобраться. Но стоило спросить у пивовара, как разгадка оказывалась очень простой и понятной. То дрова были подвезены сырые, – действительно сырые, Николай сам это видел, – и часть зерна пошла в брак. То зерно оказалось сорное, незрелое, и его пошло на производство пива вдвое больше нормы.
Между пивоваром и Игнатом установились враждебные отношения. Как бывало к купцам и приказчикам на пристани крючник Игнат, большой, страховитый, подходил мрачно, заранее наливаясь злобой, и разговаривал с ними грубо, с рывка, так и с пивоваром он был злобно груб.
– Ты что это, Игнат, так с ним резко разговариваешь? Уважать надо, начальство все-таки, советский служащий, – сказал ему как-то Николай.
– С какого такого ляда я его уважать должен? Он, как приказчик у купца Ухова, такой же. Я его сквозь вижу, глаз у меня на эту породу острый… «Начальство, начальство»… Какое такое может быть начальство, когда, говоришь, все теперь наше, народное? Сами хозяева! Погоди! Этот служащий гражданин еще покажет себя… Шмелевский пес!
Ячмень на завод доставлялся из Пасеговской и Просницкой волостей. Получал зерно со складов в Пасегове и Проснице русобородый, бойкий, краснощекий Пармен Лукич Новожилов, заведующий складским хозяйством пивного завода. Обычно за зерном в Пасегово и Просницу ездил он сам на заводских лошадях, с двумя сыновьями и племянником. Они сами перевешивали зерно, сами были и за ямщиков и за грузчиков. Такой порядок казался Николаю очень удобным: не надо было лишних рабочих на погрузке и выгрузке зерна.
Так как Николай сам помогал разгружать подводы, он каждый раз убеждался, что потерь зерна в пути не было, вес совпадал точно, до четверти фунта. Несколько раз за зерном в Просницу ездил с Парменом Лукичом Игнат. Он подменял заболевшего племянника Пармена. Возвращался всклокоченный, подпухший, с набрякшими подглазицами, с налитыми кровью глазами, сверх всякой меры переполненный самогоном, но на ногах держался крепко и чувалы с зерном ворочал по-прежнему легко.
– Хо-хо-хо! Кормят Игната, поят кумышкой до верхосытки и работы не спрашивают. А сами, смотри-ка, тверезые? На язык плеснут, вид только сделают, а все мне да мне подливают. Добрые, гады! Сверх всякой меры добрые! А Игната кумышкой не свалишь! Нет. Выпить – выпью, а все будто на каменку плесну – только жар по всем стропилам пойдет… И чего они до меня такие ласковые? С каких таких паренок? Боятся чего-то, гады! Боятся они нашего брата, директор!
И вот из последней поездки Игнат пригнал все четыре подводы на заводской двор. На мешках, связанный вожжами, с запекшейся кровью на бороде, стонал Пармен Лукич, оба его сына, тоже помятые, были, как мешки с зерном, привязаны к телеге и, испуганные, смирно лежали рядком.
Игнат был пьян и ругался, широко открывая рот, показывая крупные желтые зубы.
Через несколько дней из чека сообщили, что Новожилов с сыновьями занимались подменой первосортного ячменя зерновыми отбросами. Было обнаружено два тайных склада с большими запасами зерна в деревне Перелаз у брата Пармена Лукича и в Елесинцах у кулака Никанорова. Новожилов был в сговоре с пивоваром.
Но пивовара задержать не удалось. Он куда-то скрылся с женой и дочерью, оставив в квартире глухую старуху-бабушку и придурковатую прислугу.
Игнат три дня ездил с чекистами в Пасегово и Просницу.
Вернувшись, он высказался так:
– Ничего мужики там, в чека-то, с соображением. А только злобности настоящей в них нету. Мягки больно… Да разве это дело оставлять на земле и еще на службу ставить? Всех извести надо! Всех под корень, чтобы не было на земле этого гадючьего рода! Чтобы этой породой и не смердило на земле!








