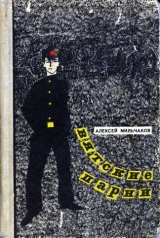
Текст книги "Вятские парни"
Автор книги: Алексей Мильчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Ой, Овечья гора!
Войска Третьей армии, пополненные свежими силами рабочих и комсомольцев, гнали Колчака к Перми. Южнее, на отдельных участках фронта, колчаковцы, цепляясь за каждую деревню, бешено оборонялись, иногда пытаясь наступать.
Белые с трех сторон сжали городок Урем. Полк красных под пулеметным огнем был вынужден спешно отойти на правый берег речки. Арьергардная рота, в которой командовал взводом Донька, оказалась отрезанной от своих. Переправиться под градом пуль не удалось. Красноармейцы заскочили в пустовавшую школу, забаррикадировались партами.
Бой продолжался. Звенело битое стекло рам, крошилась штукатурка.
– Черт бы побрал! Мы тут, как в мышеловке. Но держись, земляки! – орал Донька, заменивший убитого ротного. – Сколько же вас налицо?
Он насчитал два десятка человек и среди них троих раненых.
– Маловато осталось. Но держись, держись, бей в гада Колчака!
Красноармейцы отстреливались, прячась за оконными косяками.
Белые, понимая, что преимущество на их стороне, прекратили бесполезную стрельбу, держа на прицеле окна и двери школы.
Бессонная тихая ночь действовала угнетающе. Хотелось есть, мучила жажда после почти двадцативерстного отступления под палящим солнцем.
Утром на противоположной стороне улицы замаячил с чердака парламентерский белый лоскут.
– Эй, герои! Выходите на солнышко сдаваться! Просяной кашей накормим!
Красноармейцы ответили молчанием.
– Нервы щупают, – облизнулся белобрысый красноармеец, затягивая ремень на животе. – Пожалуй, не отказался бы. Желтая, крупиночка к крупиночке, маслянистая. – Он прищелкнул языком.
Донька сплюнул.
– За чем же дело стало? Оставь винтовку и полезай в окно. Угостись.
Красноармеец заморгал глазами:
– Пошутил я. Для смеху.
– Ладно, – отмахнулся Донька. – Сколько же у нас боевых патронов? Э‑э, по обойме на душу не приходится? Жидковато.
Длинный день тянулся бесконечно. Беляки не стреляли, очевидно, решили взять осажденных измором. Раненые стонали: глоточек бы водицы.
Новая ночь прислонилась к окнам. Где-то далеко с перерывами бухала артиллерия.
– Эй, Калимахин, подь сюда, что я тебе скажу… – позвал сиплый голос Доньку. – Понимаешь, не вояка больше я, обескровел. Пристрели ты меня.
– Держись! Из последних сил держись! Чуешь, как наши пушки колошматят! Слышишь?
Едва забрезжило – в окно внезапно влетела граната и оглушительно разорвалась, посыпались пули, кромсая стены.
– Смерть Колчаку! – заорал Донька и разрядил в окно обойму.
Красноармейцы, оставшиеся в живых, ударили по врагу из винтовок.
В ту же минуту дверь слетела с крючка, загрохотали парты. Белогвардейцы ворвались в помещение.
Шестерых раненых и обезоруженных, в том числе и Доньку, вытолкали прикладами на улицу и повели по пыльной дороге. Из окон, заставленных цветами и кое-где глиняными пучеглазыми кошками, выглядывали обитатели домишек. Донька с всклокоченной шевелюрой шагал впереди, на впалой щеке его запеклась кровь. Вышли на площадь, по бокам которой вытянулись торговые ряды с закрытыми железными дверями. Посредине стояла церковь, упираясь острым золотым шпилем в самое небо. В высоких окнах звонницы чернели молчаливые колокола.
Пленных поставили спиной к церковной ограде.
Гонористый офицер с белым черепом на рукаве френча построил шеренгу конвоя саженях в десяти от красноармейцев. Он торопился поскорей закончить свое дело.
– Рравняйсь! Смирно!
Солдаты вытянулись.
Донька поднял руку:
– Господин офицер, дозвольте перед смертью сплясать «барыню»?
Офицер приподнял брови:
– Повтори – что ты сказал?
– Дозвольте, говорю, сплясать «барыню».
Офицер сдержанно улыбнулся:
– Ну, что ж, дозволяю.
Он скомандовал солдатам стоять «вольно» и приказал правофланговому:
– Слетай за Щербатым и пусть прихватит гармошку.
Через несколько минут посланец появился с коренастым рябым солдатом, который держал гармошку, закутанную в цветастый плат. Гармонист выпучил глаза:
– По вашему приказанию…
Офицер перебил:
– «Барыню» играешь?
– Так точно, играю!
– Освободи свой инструмент от бабьей тряпки. Выходи! – кивнул он Доньке.
Донька попросил у товарища фуражку с красной звездой, надел на приглаженные волосы и стал в независимую позу подле гармониста.
Офицер закурил, покосился на Щербатого: давай!
Гармонист пробежал пятерней по клавиатуре, стиснул меха и, оскалясь, рванул плясовую.
Донька, выбросив в стороны руки, обошел на цыпочках круг, начал выкидывать замысловатые коленца:
Мне бы лаковы сапожки,
Сатинетовую грудь.
На глаза твои в окошке
На смешливые взглянуть!
Ой, Овечья гора,
Умирать мне пора.
Но душа не грешна,
Так и смерть не страшна!
Донька свистнул и пружинисто поплыл над землей вприсядку, легко выбрасывая ноги. Он подмигнул гармонисту, и удар подошвой оземь совпал с последним рывком гармошки.
Солдаты оскалились, одобрительно загудели. У красноармейцев влажно светились глаза.
Офицер протянул плясуну папиросу: угощаю, заработал.
Донька хмыкнул:
– Не‑е, белогвардейских не курю. Он быстро пошел к ограде, отдал фуражку и встал на свое место с краю.
Офицер щелкнул крышкой портсигара, процедил:
– Шлюхин сын…
Солдаты окаменели в ожидании команды.
Прижимаясь локтем к товарищу, Донька видел, как над площадью под розовыми облаками ширяли с тонким свистом стрижи, услышал резкое злое «пли!», винтовочный залп. Земля закачалась под ногами, Донька хотел ухватиться за товарища и не нашел опоры. Глаза захлестнула темень и придавила к земле.
Письмо домой
«Мама, папа, жив, жив ваш первенец и здоров!
Как я испугался, узнав, что вас известили о моей бесславной гибели.
Да, попал в плен и расстреляли бы, но спас от пули счастливый случай. Участвовал в боях командиром батальона.
На земле больше добра, чем зла, и добро сильнее зла.
В последних числах июня увидел черную Каму и на противоположном берегу хмурую Пермь. Первого июля мы с боем вошли в этот город. Потом – хребты Уральского кряжа. Семнадцатого июля мы освободили от Колчака Екатеринбург. Здесь на одной из площадей происходил смотр войск. Парад принимал новый начальник гарнизона начдив Азин. Торжественно гремел сводный оркестр. Начдив объезжал полки, поздравлял с победой.
Я стоял впереди своего батальона и мысленно спрашивал: «Скажите, товарищ Азин, жив ли красноармеец вашей дивизии Донька Калимахин? Где он?»
Сибирская белая армия отступает. Колчак пятится к своей могиле.
Меня перевели в кавалерию и назначили комиссаром кавалерийского полка. Когда я в штабе армии честно ляпнул, что сроду не имел склонности к верховой езде и что на своей паре ног мне надежнее защищать республику, чем на четырех чужих, надо мной посмеялись и вручили приказ.
В кавалерийском полку меня, пехотинца, приняли официально. Командир, этакий смуглый джигит, вызвал усатого скуластого унтера и приказал сделать из меня лихого кавалериста и смелого рубаку.
Мой учитель посмотрел на меня свысока. «Мы, говорит, регулярная воинская часть, испытанная в боях. Нам, говорит, нужен не язык краснобая, а агитация шашкой». Я с достоинством ответил: «По-вашему, мол, может, и так, а по мнению комиссара вашего полка, каковым я имею честь быть, для победы необходимы не только шашка, но и слово большевистской правды».
Унтер крякнул, вывел из конюшни тонконогую гнедую кобылу. «Знакомься, говорит, сумей понравиться Красаве. И когда мы порубаем всех врагов, тебе будет трудно с ней расставаться, как с любимой бабой». Кобыла косилась на меня диким глазом.
Не один раз Красава выбрасывала меня из седла. Я поднимался с земли, сжимал от обиды кулаки, но шел к ней, как виноватый. Я по душам объяснялся с моей Красавой, хотя она отворачивала от меня морду.
– Дура ты, – говорил я лошади, – знаю, насильно мил не будешь. И послал бы тебя к чертям собачьим, да не могу. В интересах Советской власти приказано мне с тобой подружиться.
Ни разу я не ударил ее нагайкой. Полпайки хлеба уделял, кормя украдкой с ладони. Гладил морду, щекотал за ушами, водил щеткой по красновато-рыжим бокам.
И мы подружились. Теперь, когда я захожу в конюшню, она приветствует меня тонким ржаньем, и это трогает меня.
Сейчас наш полк собирается на Южный фронт.
Вчера, проходя мимо военного лазарета, я зашел узнать – нет ли среди раненых наших вятских. И какая радость – я нашел в одной палате Вечку и Агафангела. Вот была встреча! До чего ж хорошие они, мои друзья!
Привет всем и Наташе.
Ваш Колька».
Катино письмо
«Коленька! Братец!
Обнимаем и крепко целуем тебя, воскресшего из мертвых. Извещение о том, что ты не вернулся из разведки и, вероятно, погиб, ошеломило нас. Папа закрылся в комнате и плакал, а мама растерялась, и все у нее валилось из рук. Один Герка отнесся к казенной бумаге скептически и уверял всех, что такие, как ты, живучи. И правда оказалась на его стороне.
Читая твое письмо, мама от радости тоже всплакнула, а отец веселенький бродил по квартире и напевал «Тарарабумбию».
Пишу, а куда послать письмо, не знаю. Ведь ты уже уехал из Екатеринбурга.
…Прошло два месяца, как я начала письмо. Папа и мама здоровы. Мы, молодежь, живем «Неделями».
Были «Недели»: советской пропаганды, сдачи оружия, коммунистической молодежи, партийной пропаганды, сбора книг.
Эта последняя проходила под лозунгом: «Мобилизуйте книгу, двиньте ее в гущу народную. Извлеките из частных рук, шкафов, ящиков и пустите в мир для просвещения трудящихся!» Мы с Женькой и Геркой небезуспешно ходили с корзинами по квартирам, рылись в чуланах, лазили на подволоки. Федос отдал сборщикам всю свою библиотеку и уехал с курсантами на фронт, кажется, на юг. Может быть, вы встретитесь. На Южном фронте и Аркаша. Он – политрук.
Работаем на коммунистических субботниках и воскресниках. Боремся с холодом. Согреваемся революционными песнями.
Передала твой привет Наташе. Мне кажется – она хандрит от безделья. Ты не огорчайся, что она какая-то не прежняя.
Осмеливаемся с Женей поцеловать комиссара полка в колючие усы.
Береги себя!
Катя».
Смерть его не берет
Проносились мимо окон вагона мохнатые, заросшие кедрачом Уральские горы. Солнце в туманной дымке вставало над хребтами и вновь скрывалось в распадках. Луна спешила за поездом, дробясь и косоротясь в дрожащих оконных стеклах.
Своим чередом сменялись дни и ночи. А Николай Ганцырев не слышал ни гудков паровоза, ни шипения пара на подъемах, ни стука колес. Он не замечал времени и совсем не чувствовал своего тела.
Только за Пермью он увидел угол вагонной перегородки. Потом белое пятно надвинулось на него. Из этого пятна выступили черты девичьего лица и большие ласковые глаза. И он ощутил прикосновение к горячему лбу прохладной руки.
– Ты кто? – с трудом раздвигая невероятно тяжелые губы, прошептал он: – Ты Наташа?
– Я Клава же, комиссар, Клавка-Воробей! Клавка же я! Милый комиссар мой, посмотри, ну, посмотри – ведь я Кла-а-ва! – торопился вздрагивающий голос, и влажный девичий взгляд тоже торопился поймать в его глазах ускользающую искру сознания. Но он снова погружался в жаркую тьму, и уже мелькали в угасающем сознании другие картины. Белое поле и вытянутая шея Красавы, и горячий блеск клинка, потом толчок в грудь, почти человеческий крик Красавы, и огромная наваливающаяся на него земля.
Утром на маленьком полустанке поезд остановился, чтобы набрать дров. И Николай Ганцырев вновь открыл глаза. На этот раз, увидев белое пятно, он сразу узнал: халат. Поднял слабые веки и улыбнулся.
– Клава… Клава-Воробей… Это ты, Воробушек?
Вспыхнули ярким светом глаза медсестры, и она засуетилась, маленькая и смешная, в длинном халате с чужого плеча:
– Очнулся? Узнал меня?.. Ну, теперь жить будешь, комиссар, если узнал!
Но тут придвинулась к нему кудрявая голова улыбающегося Агафангела:
– Ну, Черный, выцарапался ты, брат! Я уж думал, что не довезем тебя.
– Если бы не Агафангел, давно бы сняли тебя с поезда где-нибудь на полустанке, – раздался Клавин голос.
– Нет, это Клавка! Она все время тебя отбивала. Она тебя и выходила! Клавушке кланяйся, Черный! Ну, а я что?.. Если уж очень наседали, чтобы тебя с поезда… того… и Клавушка в рев пускалась, тут уж и мне приходилось на басы нажимать, а случалось и пушкой пригрозить.
Николай слушал друзей и улыбался. Он вспомнил тяжелое ранение в грудь, операцию. Потом унылое лежание в лазарете в одной палате с Агафангелом. Шалгин тоже был ранен в том бою – ему осколком перебило правую руку, и кость плохо срасталась. Дальше выписка из лазарета домой на поправку, отпуск, на котором настаивали все врачи и боевые товарищи по бригаде. А комбриг, тот даже прикрикнул и приказал убираться из бригады немедленно. И вот они с Агафангелом в поезде. После третьего звонка прибежала радостно возбужденная Клава. Она уговорила доктора отпустить ее сопроводить слабых раненых в далекий город Вятку. Вот ловкая деваха! Уж если что задумает – добьется!
«А потом? Что же было потом?»
– А что со мной в поезде случилось, Клава?
– Сыпняк, комиссар! Самый злой сыпняк! Вот и обороняли тебя от пассажиров, от медицины, чтобы не вытряхнули среди дороги.
Глаза у Николая закрылись. Он заснул, заснул глубоко и надолго, и сон был легкий, как в детстве.
Проснулся ночью и увидел Клаву, которая сидела за столиком и клевала носом. Слабый свет фонаря падал на ее лицо, худое, измученное бессонницей. Длинные ресницы бросали тень на щеки, припухшие губы были по-детски полураскрыты, круто вырезанные ноздри прямого носа дышали трудно, порывисто; на переносице, над бровями блестели капельки пота.
«Уж не заболела ли наша Клава-Воробей, – с тревогой подумал он. – Не заразилась ли, чего доброго?»
Он пошевелился, и Клава сразу проснулась. Она стала поить его чаем с брусникой. Но Николай положил ей руку на плечо и спросил:
– Не больна ли ты, Воробушек? Я вижу, устала ты. Ложись, Клава, поспи. А я здоровый, совсем здоровый и тоже спать сейчас буду.
Николай уговорил ее лечь. И когда она, свернувшись клубочком, подложив ладонь под щеку, заснула, он долго и жалостливо смотрел на нее.
Случилось это ночью в большой сибирской деревне. Еще днем побывала здесь наша конная разведка и установила, что в деревне беляков нет.
Поэтому втягивалась бригада в деревню спокойно и бесшумно. Николай с пятью бойцами подъехал к ярко освещенному дому на площади и, услышав шум гулянки, открыл дверь.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь гуляют беляки. Двое, что были потрезвее, бросились в угол, к оружию, но были остановлены окриком, а остальные продолжали сидеть за столом в расстегнутых гимнастерках и таращить бессмысленные глаза. Из второй горницы послышался детский крик, полный ужаса.
Николай бросился туда.
В углу, за печкой, прижалась, поджав под себя ноги, девочка в изорванном платьице, а к ней, покачиваясь на слабых ногах, расставив руки, словно куренка ловил, приближался молодой есаул.
Николай свалил есаула ударом кулака, ребята обезоружили его и связали.
Закутав девчонку шинелью, Николай поднял на руки ее легкое тело, вынес в большую горницу, уговаривая, как ребенка:
– Ну, ну, не плачь, девочка. Теперь все хорошо. Мы красные!
И как же смутился Николай, когда при ярком свете увидел, что он держит на руках не ребенка, а девушку.
Она выскользнула из рук Николая и, прижимая к груди обрывки одежды, выбежала в сени.
Так появилась в бригаде Клава Сохатых, сирота, жившая в прислугах у богатого мельника. Николай устроил девушку санитаркой в лазарет и в походах редко ее видел. Но, когда случалось встретиться с ней, всегда ловил на себе ее пристальный блестящий взгляд. Он и прозвал ее Воробушком, и все в бригаде стали звать ее Клавушка-Воробушек. У девушки оказался легкий веселый характер, отзывчивый и мягкий. А в тяжелых походах и даже под пулями она проявляла твердость духа и недевичью храбрость…
Миновали Глазов. Долго стояли, опять грузили дрова.
Николай начал есть, и аппетит был такой, что даже во сне он чувствовал запах пищи и видел пироги – капустные, с яйцами и луком, с грибами и морковью, а еще свекольник, знаменитый свекольник, изобретение и гордость Марины Сергеевны.
Клава суетилась, куда-то убегала и добывала для Николая то полкружки молока, то яичко. Он тянулся к хлебу, но Клава отбирала кусок и строго покрикивала:
– Но-но, комиссар! Не балуй, давай, однако! Ничего! Слушайся медицину! Тебе еще нельзя, комиссар!
Теперь Николай не отрывался от окна. Проплыли знакомые дома Зуевки, мелькнула за красными стволами сосен река Чепца. И сердце Николая радостно, неуемно и в то же время тревожно забилось.
Пока бригада с боями шла на восток по просторам Сибири, он не получал из дома писем.
И только в лазарете, уже перед выпиской, пришло три письма.
Первое – от Мити, примерно, трехмесячной давности, с дороги на Южный фронт. Митя, как всегда, подробно и ярко описывал свою жизнь в Москве. Рассказывал, как он был потрясен до восторженных слез оперой «Борис Годунов» с участием Шаляпина. Упомянул о девушке-морзистке Лене, которая проводила его к эшелону. Ох, Митя, Митя! Нежная твоя душа. Милый романтик, наделяющий каждую девушку чертами любимых героинь из классической литературы. Какая жажда большого и высокого чувства в его душе!.. О юмской Вале, которая заставила его так страдать, Митя в этом письме не вспоминал…
Второе от Тихона Меркурьевича в его бодром и мило-комическом стиле…
И, наконец, от Кати. Катя рассказывала о домашних делах, о комсомольской работе, и в длинном письме снова промелькнула странная скупая обмолвка о Наташе: «Наташа передает тебе привет, комиссар, и желает, чтобы ты был от пули невредим. А в общем, бог с ней, с Наташкой. Я теперь с ней редко встречаюсь. Странная она очень стала. У нее свои дела и свои интересы».
А от Наташи снова ни строчки. Все письма, которые Николай послал ей за это время, остались без ответа. И загрустил комиссар Николай Ганцырев, вспоминая все-все, что было между ними с тех лет, когда он учился еще в пятом классе и был просто-напросто соловей-разбойник, луковицкий озорник-подросток Колька Черный. Вся трудная его любовь к Наташе вспомнилась, прошла по сердцу, и, вздохнув, комиссар полка Николай Тихонович Ганцырев слегка застонал в тяжкой муке.
И сразу быстрые, осторожные и боязливые руки подоткнули одеяло, поправили шинель под головой и робко остановились на груди на узлах повязки:
– Что? Опять плохо, тебе, комиссар? А?
– Нет, Воробушек, мне ничего. Спасибо. Так, взгрустнулось что-то.
– А, может, надо тебе чего-нибудь?
– Нет, Воробушек, спасибо, ничего мне не надо, – посмотрел на нее, слегка пожал руку, по-прежнему лежащую на узлах повязки, приподнялся на локте. – Нет, вру я, Воробушек, надо! Ох, как мне много надо!
– А чего, чего тебе, комиссар?
– Чего? Чтобы мы победили всякую сволочь. И мы победим, я знаю! Но чтобы победить скорей и в мировом масштабе! Вот что мне, птичка-Воробушек, надо! И чтобы мир был на нашей Советской земле. Чтобы все: и Печенег – это мой давний дружок, – и ты, и я – чтобы все, кто хочет, могли учиться и строить новую светлую жизнь для всех. Вот что надо!
– Так ведь будет! Будет же все это!
– А еще радости… и счастья. Счастья надо твоему комиссару, Воробушек…
Комиссар, Наташа и другие
Клава и Агафангел привезли его на родную Луковицкую – лежал уже неделю, изредка с помощью Клавы передвигался по комнатам на дрожащих ногах.
Но и лежачий, кашляющий кровью Николай принес в дом Ковырзнева на Луковицкой праздник. Марина Сергеевна с утра уходила на барахолку, что-то уносила в узлах, а возвращалась с продуктами, и потом таинственно и радостно колдовала на кухне. И запахи печеного и пряженого, как на большом празднике, наполняли всю квартиру.
Тихон Меркурьевич, худой, постаревший, с седой головой, только густые брови по-прежнему черны, веселенький, ходил по комнатам, напевая и насвистывая «Тарарабумбию».
С утра и до вечера скрипела в квартире Ганцыревых дверь. Побывали у Николая, конечно же в первую очередь, все луковицкие дружки, которые случаем – кто на побывку так же, как Николай, после ранения, кто проездом оказался в городе. С Агафангелом вваливались группами заводские ребята.
И однажды заскочил ненадолго Игнат. Он заполнил всю квартиру своим телом и грубым голосом.
Игнат не похож на себя прежнего. Он был в шинели, явно не по его могучей фигуре, затянутый ремнями, с маузером на боку, в желтых ботинках на толстой подошве и в грязно-серых, похожих на онучи обмотках. Буденовка кривовато сидела на макушке, из-под нее в разные стороны буйно лезли пламенеющие волосы. Вместо знаменитой бороды – густая стерня щетины.
Николай расхохотался так, что пришлось идти к тазу и плеваться кровью.
А Игнат трогал рукой свое голое лицо и смущенно объяснял:
– Что, несвычно без бороды-то меня видеть? Да и я ровно как голый хожу. Богом молил, чтобы разрешили носить. Так нет, командир приказал убрать.
Игнат очень торопился. У ворот бил копытом в доски, звенел щеколдой и всхрапывал его конь.
Оказывается, Игнат теперь боец особого отряда чека по борьбе с контрреволюцией.
– Узнал я, что ты вернулся. Отпросился вот на часок.
Недолго пробыл Игнат, поговорить не удалось, но с Тихоном Меркурьевичем они все-таки успели выпить какого-то зелья из фляжки Игната.
Многие побывали за неделю у Николая. Только Наташа не приходила. А он все ждал, прислушиваясь к шагам прохожих, к стуку калитки, приподнимался на постели, когда скрипела дверь в сенях. И тускнела радость от встречи с родными, с друзьями, тосковал, задумывался Николай Ганцырев.
Клава сразу замечала перемену в его лице, подбегала, совала под мышку градусник, осматривала повязку на груди. Клава-Воробей сразу так пришлась по сердцу Марине Сергеевне, что та даже, бывало, ворчала на нее, как на свою.
Тихон Меркурьевич тоже ласково поглядывал на Клаву и велеречиво восхвалял ее как «милосердную сестру, жизнь дающую».
Клаве давно надо было уезжать в часть, она не раз намечала и день отъезда – и вдруг откладывала.
Николай стал набираться сил, выходил на улицу подышать на скамейке во дворе. Он написал всем друзьям по полку и бригаде письма и целой стопкой сложил на столе, на самом видном месте. Но Клава делала вид, что писем не замечает.
Наконец, пришлось настаивать на отъезде. Провожали ее все: Агафангел, Катя, Тихон Меркурьевич и даже Марина Сергеевна. Вот уже простились. Бледная Клава сунула Николаю руку лодочкой, надавала ему всяких советов, а губы ее дрожали.

Ушли. И Николай остался один во дворе. Но вот простучали торопливые шаги, скрипнула калитка, и Клава бросилась к нему, припала к груди.
Он поднял руку, погладил ее мокрую щеку.
– Комиссар, комиссар… – она вскинула лицо. – Поцелуй меня на прощанье… Может, не увидимся больше…
Он поцеловал ее соленые губы.
– Ну, как же не увидимся? Куда я без полка?.. Эх, Воробушек, Воробушек! Если бы ты только знала.
Клава посмотрела ему в глаза, отстранилась и сказала печально:
– Знаю, комиссар… – и уже от калитки: – Не любит она тебя.
После отъезда Клавы прошло полмесяца. За это время Николай так поправился, что мог сам, без посторонней помощи ходить в лазарет за пять кварталов от дома, где ему делали перевязки. Правда, в средине пути приходилось присаживаться на скамейку два раза.
По утрам он уходил в дровяник и, корчась от боли, заставлял себя заниматься гимнастикой. «Разлежался, изнежился, – бранил он себя. – Подумаешь – инвалид! Нечего тебе, Черный, распускаться».
От Наташи он получил за это время две записочки. В первой просто сообщалось, что она рада возвращению Николая, и обещала обязательно-обязательно прийти, как только закончатся хлопоты по подготовке спектакля. Во второй – снова обещалась заглянуть и приглашала на премьеру.
В городе в это время было много приезжих артистов, занесенных в провинциальную Вятку буйными временами из Москвы, из Питера, из Риги, – и почти все с именами, знаменитости.
Наконец, Николай настолько окреп, что решил сходить в театр. Ставили Гауптмана – «Потонувший колокол».
Николай сидел в партере и посмеивался над собой, замечая, что чувствует он себя сейчас примерно так же, как в далеком прошлом, когда он пришел на доклад Игоря Кошменского в клуб «Молодых патриотов» с единственным непреоборимым желанием хоть на минутку, хоть издали увидеть Наташу.
«Все то же, все так же… Эх, комиссар, комиссар, а сердце-то у тебя все то же, Кольки Черного сердце, глупое!».
В антракте в толпе он уловил общее движение и шепот девушек:
– Смотрите, смотрите, вон там – Гремин-Дарский!
– С кем это он?
– Это художница, Наташа Веретина.
Наташа в сиреневом платье шла под руку с очень стройным мужчиной в черном костюме, с тонким породистым лицом.
Ганцырев ушел из театра.
Он не давал себе пощады: с утра занимался гимнастикой, обтирался холодной водой, много ходил по городу и много ел.
Наконец, наступил радостный для Ганцырева день, когда врачи сказали: почти здоров. Николай стал готовиться к отъезду, но начальство распорядилось иначе. Его назначили комиссаром дивизии, которая формировалась здесь, в Вятке.
И замелькали дни, заполненные всякими делами так плотно, что подумать о себе, сосредоточиться можно было только ночью. И этот бурный вихрь дел, до предела уплотненное время очень были по нраву Николаю Ганцыреву. По городу – в штаб, из штаба – в губком, губисполком, на заводы и в железнодорожные мастерские он теперь носился на орловском жеребце Изумруде. Крупный красавец в яблоках, с тонкими бабками в чулочках, с легкой и злой мордой, был так же неутомим, как и его хозяин. Николай нечасто теперь бывал дома, иногда не показывался по нескольку суток.
Однажды он увидел Наташу в толпе артистов у театрального сквера. Чуть впереди остальных, она шла ему навстречу. Николай придержал жеребца, сильно натянул поводья. Изумруд заплясал, цокая копытами.
Наташа – она всегда любила лошадей – остановилась, вмиг узнала, и, улыбаясь, вытянув руки, закричала:
– Николай! Коля!
Было видно, что радость Наташи искренняя, неподдельная. Она и прежде вот так же радовалась каждой встрече с ним после долгой размолвки, так же просто, как будто бы ничего особенного между ними не произошло.
Николай спрыгнул на землю, взял жеребца под уздцы, подошел.
И сначала Наташа совсем по-детски восхищалась лошадью, потом повернулась к артистам:
– Это мой давний-давний друг и защитник… вот с такого возраста, – она показала на аршин от земли. – Мы с ним давно не виделись.
Николай подхватил Наташину болтовню, рассказал, как он, бывало, бил из-за Наташи гимназистов-старшеклассников, поговорил еще немного о спектаклях для красноармейцев и простился.
Наташа взяла с него слово, чтобы он обязательно побывал в театре или зашел к ней домой.
Странное и смутное чувство оставила в сердце Николая эта случайная встреча. Наташа держалась так, словно и не было никакой разлуки, и в то же время он ощущал в ее поведении какую-то отчужденность. Что это? Поверхностная, очень неглубокая натура? Впечатления жизни зацепляют ее ненадолго, как легкий туманчик, не оставив никаких следов? Или, может быть, жизнь не толкала ее, может быть, не приходилось ей задумываться над жизнью, и она до сих пор осталась такой же девочкой-подростком?
«Ах, Колька, Колька! Что за глупое у тебя сердце!»
Формировка близилась к концу, но еще многое надо было сделать, и времени свободного по-прежнему не было. В театр Николай так и не попал, а думал о Наташе постоянно. Пришло решение: он должен увидеть ее, поговорить и попытаться понять, наконец, что она за человек. Для него самого это нужно. Настоятельно, необходимо.
Вечером он привязал Изумруда к забору возле крыльца Наташиного дома. Поднялся по знакомым ступенькам.
Родители Наташи не узнали, конечно, в этом широкоплечем командире того паренька-хулигана с Луковицкой улицы, который постоянно торчал под окнами их дома.
Приняли вежливо. Мамаша угощала чаем, а больше рассказывала о себе, о своей молодости, о своих успехах в театрах и показывала свои фотокарточки. Папаша, который в молодости был антрепренером, а потом стал адвокатом, вспоминал о встречах и своей дружбе со знаменитейшими артистами России.
Мамаша была убеждена, что у Наташи незаурядное дарование драматической актрисы, а она не замечает или не ценит своего дара и увлеклась живописью. Упрямая девчонка, даже отказалась выступать в роли феи Раутанделейн в «Потонувшем колоколе».
В восемь часов пришла Наташа и с нею тот самый Гремин-Дарский.
Дарский поздоровался вежливо, но сдержанно.
Наташа просто, весело подбежала к Николаю, схватила его руку и, не выпуская из своих, покачивая ее и похлопывая, все радовалась:
– Ну, наконец-то, ты пришел. Как хорошо, что и ты, Коля, здесь! – Она села на низенький круглый стульчик близко к нему и, не выпуская его руки, заглядывала снизу вверх в его лицо блестящими темными глазами.
Завязался общий разговор о театре. Гремин-Дарский посетовал, что в Вятке мало ценителей настоящего искусства, потому что немного среди местной интеллигенции широко образованных людей. И вот, театр иногда почти пустует.
– А вы выезжайте почаще в уездные города, в красноармейские клубы, в рабочие поселки, – не удержался Николай. – Там вы найдете настоящего, непосредственного, непредубежденного зрителя.
Гремин-Дарский внимательно посмотрел на Николая выпуклыми карими глазами и, слегка улыбнувшись, стал объяснять выразительным баритоном:
– Как для понимания серьезной музыки нужна музыкальная подготовка, так и театральный зритель для того, чтоб понимать и ценить искусство, должен иметь общую культурную подготовку. А там, куда вы нас зовете, зритель еще, извините, дикарь. Он будет восторгаться чисто театральными эффектами, будет аплодировать. Но настоящего понимания мы там, к сожалению, не найдем. Вот о чем речь… Может быть, лучше сказать – пока не найдем.
Николай дважды глянул на Наташу, и она сказала ему глазами и кивком головы: «Слушай, слушай. Дарский – это умница. Это талант».
Николай чувствовал, что все в нем возмущается и дрожит, что второй Ганцырев, тот, которого звали Колька Черный, вот-вот сбросит с себя узду и выйдет из повиновения. И Николай ответил медленно, раздумчиво, даже нашел в себе силы улыбнуться:
– Да, народ пока еще в массе своей неграмотный или малограмотный. И если ждать, когда он сначала овладеет грамотой, а потом, от книги к книге поднимется на вершину культуры и станет именно тем зрителем, какой вам нужен, то пройдет много времени. При таких условиях ваша деятельность вообще теряет всякий смысл. Нет вашего зрителя, так зачем же играть?.. Но я шучу, – остановил он Наташу и Дарского. – Для овладения высотами науки нужно постепенное движение. Для понимания музыки – подготовка. Я согласен. Ну, а драматическое искусство имеет свои особенности, неповторимые. Оно понятно всем, если, конечно, это подлинное искусство. Всем, всем: и образованнейшим людям, и неграмотному крестьянину. Об особенностях этого рода искусства, как ни странно, вы и забыли.








