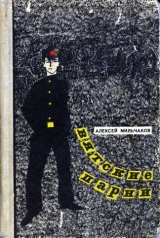
Текст книги "Вятские парни"
Автор книги: Алексей Мильчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Весенняя ночь
В учебных заведениях города закончились экзамены. Гимназистам вручили табели.
– Как дела, Черный? – остановил Кольку на гимназическом дворе Федос Ендольцев, один из любимцев Томеша.
– Потрясающие! Думал перетащат меня на брюхе в шестой. Зарезали.
– Значит, я посчастливее тебя. Нынче у меня без скрипа.
За воротами гимназии Федос спросил:
– Ты ведь домой сейчас? Ну, вот я с тобой маленько пройдусь. Скажи, правда ли говорят, что будто вы там у себя на Луковице построили спортивную площадку и занимаетесь гимнастикой?
– Конечно, правда. У нас – турник, параллельные брусья, шест для лазания, трапеция. Все самодельные. Достали пудовую гирю.
Федос просиял:
– Богато… Ну и занимаетесь? По-серьезному или так, ваньку валяете?
– Скажешь тоже. Конечно, серьезно. Пока нас немного. Восемь человек с девчонками.
– Послушай, а меня, долговязого, в свою семью не возьмете?
Колька окинул взглядом с головы до ног длинного, рукастого Федоса:
– Такому дяде будем рады.
– Черный черт, тогда по рукам!
У скверика Предтеченской церкви они столкнулись с вышедшим из ворот двухэтажного серого дома Дудниковым. Митя нес под мышкой скрипичный футляр. Колька представил друга Федосу:
– Сей юноша из наших. Скрипка не мешает ему заниматься гимнастикой.
– Присядем-ка на скамеечку, – предложил Федос. – Вон на ту.
Все трое перешли дорогу.
– Ну, спасибо, Черный. Люблю я спорт. Эх, если бы нам еще футболом заняться! Вот это игра. Свою бы нам команду из хороших простых парней сколотить! Как думаешь?
– Да я уж думал. Ты приходи к нам, – сказал Колька. – Царевская, дом Ковырзина, за Морозовской, в овраге. Приходи завтра под вечерок.
– Непременно. Часов в шесть-семь. И мячик прихвачу.
На другой день к вечеру собрался дождь, прокатился серебрушками по крыше, прогнал с площадки Кольку и его друзей в дровяник. Тут были и Аркаша со своей неизменной Женей, и Донька Калимахин с двумя своими приятелями – Тимоней и Вечкой.
Братья-близнецы Сорвачевы настолько походили друг на друга, что Женя, поглядывая на них, никак не могла удержать улыбки. Оба коренастые, с короткими, чуть кривыми ногами, белобрысые. Только Тимоня – густо веснушчатый, а у Вечки, когда он краснел, выступали белыми пятнышками на щеках и на лбу следы оспы. Они стеснялись, наверное, потому, что впервые попали в общество гимназисток и гимназистов, и держались ближе к слесарю железнодорожного депо Агафангелу Шалгину, кудлатому, молчаливому и спокойному парню с очень серьезным неулыбчивым лицом.
Пришел и Митя Дудников. Под мышкой он держал толстый сверток в оберточной бумаге, перевязанный голубой ленточкой. Явился в форменной тужурке с твердым крахмальным подворотничком. Хорошо разглаженные брюки, до зеркального блеска начищенные ботинки и фуражка с эмблемой почтового ведомства произвели впечатление. Обычно Митя ходил простецки – темная или серая косоворотка, черные брюки и сапоги. В парадной форме его увидели впервые.
– Митя, Митя-то какой сегодня! – закричала Катя и захлопала в ладоши: – Хорош!
– Не к губернатору ли, Дудников, собрался? – засмеялся Донька Калимахин. – С визитом?
Здороваясь, Митя, как всегда, улыбался своей мягкой застенчивой улыбкой, но вид у него был загадочный и немного печальный. Он присел на край Геркиного топчана и положил рядом с собой аккуратный сверток.
– А что тут такое? – поинтересовался Герка.
– А это… Это мой подарок. Тебе, Коле, Кате, – ответил Митя и стал развязывать сверток.
Герка получил томик Брет-Гарта и, обрадованный, убежал домой. Кольке Митя вручил три тома Джека Лондона, а Катя получила полное собрание сочинений Тургенева.
– Митя, мне, право, неловко получать такой подарок. Ведь я знаю, как ты бережешь свои книги.
– Ну, какая тут неловкость. Я давно хотел что-нибудь… своим друзьям… А больше нечего.
Все сидели в дровянике у открытой двери, ждали Федоса. Но он что-то запаздывал.
Вдруг над забором появилось доброе круглое лицо высоченного парня, и Колька с радостью узнал Печенега.
С Печенегом Колька познакомился недавно. Чтобы заработать себе на спортивную форму, в первый же день каникул Колька подался на пристань и устроился грузчиком. Как ни крепок, ни жилист он был, а заныла поясница, заболели косточки.
Однажды тяжелый ящик так придавил плечи, что у Кольки подкосились ноги. Вот-вот упадет… Ему помогли.
– Э, товарищ, да мы с тобой знакомы! Не тебя ли я весной из воды вытащил?
Колька узнал этого широкоплечего, с хрипотцой в голосе парня. Как-то накануне вербного воскресенья от суеты в квартире, от весеннего неба над городом и отчаянного чириканья опьяневших от весны воробьев Кольке стало так легко и весело, так много силы он почувствовал в своем легком теле, что усидеть дома было никак невозможно. Нужно было двигаться и обязательно сделать что-нибудь особенное.
«Вот бы наломать вербы и принести матери… и Наташе».
Почему-то злость на Наташу долго не удерживалась. Уже через день после бала он посмеивался над своей по-детски выраженной ревностью. Потом начинал думать: а, все равно, нравится и такая, и ничего тут не поделаешь.
Через реку не пускали. Лед уже отъело от берегов, и даже была первая подвижка.
Колька кое-как перебрался через полынью. Пошел по пупырчатому, изъеденному водой льду, и свистки городовых, ругань сторожей за его спиной только веселили его. Возле Дымкова он наломал охапку вербы, снова перешел через реку по льду. В двух местах были разводья, пришлось через них прыгать. Но у берега полынья стала шире. Грузчики, стоявшие на берегу, перебросили пару жердей и советовали ему кинуть свой веник в воду. Но Колька упрямо пошел по качающимся жердям, прижимая охапку вербы к груди.
У самого берега нога поскользнулась, и он потерял равновесие. Падая, услышал женский визг. Чьи-то сильные руки схватили его за ворот и подняли на воздух…
– И я тебя узнал! Честное слово, узнал. – Тебя, кажется, Афоней зовут?
– Ага. Фамилия – Печенкин. Но кличут Печенегом. Пускай – Печенег.
После работы Афоня затащил Кольку к себе. Жил он на горе, у Раздерихинского спуска, в подвале покосившегося дома.
Смотря на Печенега, на его добродушное, широкоскулое лицо в рябинках, Колька с удовольствием откусывал ломоть, намазанный толстым слоем ливерной колбасы.
Афоня улыбался:
– Ешь, питайся, силы больше будет.
– А я часто о тебе вспоминал, – признался Колька, – особенно в последнее время. – Вот, думал, такого бы силача в нашу команду!
И вот он, Печенег, явился; смущенно улыбается, возвышаясь над забором.
Вскоре подошел и Федос.
Дождик прозвенел, и солнце засияло жарко и весело. Легкий влажный пар пошел от земли, свежо и сильно запахли и трава, и листья деревьев.
В тот вечер долго играли на влажной площадке. Сначала Печенег и братья Сорвачевы заметно стеснялись в этой компании голосистых гимназисток и гимназистов. Сорвачевы льнули друг к другу и к Кольке, часто переглядывались, на шутки отвечали улыбками. И Печенега трудно было узнать: ловкий на пристани с мешками и ящиками, здесь он словно бы не знал, куда девать свои сильные руки. Он каждый раз краснел, когда не успевал ударить по мячу.
Но когда ребята усвоили главные правила игры, азарт постепенно захватил и братьев Сорвачевых, и Печенега. Сорвачевы стали покрикивать друг на друга, а к Печенегу вернулась его свободная сила и ловкость.
Митя играть наотрез отказался. Он сел на бревнышко у стены дровяника, охватил руками свои острые колени и внимательно следил за игрой. Но оживления на его лице не было.
Колька вначале поглядывал на серьезного и грустного Митю и с беспокойством думал: «Что это сегодня с ним?» Но потом игра увлекла Кольку, и он забыл о Мите.
Уже занялся и отпылал закат, светлое небо стало наливаться темнотой, проклюнулись первые дрожащие звезды, и по всей Луковицкой засветились в окнах домов желтые огоньки, а на пустыре за ковырзинским домом все еще раздавались гулкие удары по мячу.

Давно бы пора расходиться по домам, но расставаться не хочется, и Федос снова и снова кидает мяч.
Вышли из Ковырзинского двора гурьбой, пошли на берег, к Александровскому саду, и долго бродили над обрывом, вдоль стен монастыря. О чем говорили? Никто не мог потом вспомнить. Братья Сорвачевы, кажется, рассказывали какую-то смешную историю про мастера. Женя Чардымова что-то напевала, Аркаша и Федос заспорили о греческой мифологии. Митя долго молчал. Но когда пошли по откосу над сверкающей рекой, он тоже оживился и стал читать стихи.
Обрывки мыслей, случайные слова, митины стихи, песни, начавшийся и тотчас же гаснущий спор, смех девушек, шутливая перебранка братьев Сорвачевых друг с другом – все это слилось вместе, перемешалось и родило простоту, свободу и большую радость. Прощались на рассвете, и еще долго махали друг другу руками, выкрикивали недосказанные слова.
Рассвет приходил из-за реки, из-за Дымковской слободы, мягкий и влажный. Будет безветренный ясный день.
Колька не пошел спать в дровяник. Спать не хотелось. Он до восхода солнца возился на площадке, подбрасывал гирю. И чувство радости не оставляло его потом весь день.
«А здорово это, что мы сколотили команду, – думал он. – И ребята какие все чудесные».
Афонина артель
Коротки светлые июньские ночи. Сиреневый полусвет опустится над городом, постоит два-три часа, – вот и кончилась ночь. И уже всплывает над легкой тучкой морковное солнце.
В пять часов Колька с усилием, не открывая глаз, поднимался с постели. В трусах выходил из дровяника, позевывал, с хрустом в костях потягивался и окунал голову в кадку с водой. Потом шел по пустынным улицам на пристань, одетый так же, как одевались все грузчики: рубаха из толстого холста на двух медных пуговицах – на выпуск, грубые штаны из мешковины, за поясом рукавицы. Все это подарил Кольке Афоня, увидев, что сатиновая Колькина рубашка с косым воротом за неделю работы пришла в ветхость, а штаны из чертовой кожи приходилось чинить чуть не каждый день.
«Ношатку» Колька сделал сам и для мягкости обил ее снизу старым маминым жакетом, а крюк с цепью отковали ему братья Сорвачевы.
Над рекой еще струится туман, еще спит город, а на пристани уже собираются артели крючников.
Афонина артель из восьми человек – Колька в нее вошел девятым – начинала работу раньше всех, и порядок в ней был установлен, как в деревне во время страды: начать пораньше по холодку, а завтракать, когда солнце на полдень пойдет.
С баржи на берег перекинуты пружинящие при каждом шаге дощатые сходни. Идут гуськом, согнувшись под тяжелыми мешками, крючники, с утра молчаливые, вялые.
Вот Игнат, высокий, сухой, с широкими плечищами и длинными руками, красноволосый с проседью, с рыжей кудрявой бородой, медленно переставляет ноги в опорках. Он несет ящик с консервами. В ящике шесть пудов, и для Игната такой груз – не в тягость. Но Игнат ругается, зло сплевывая слюну в мутную речную воду.
Игнат – бродяга, волжский грузчик и пьяница. Он грубый человек, но занятный, загадочный. Когда разомнется и захочет показать работу, нельзя от него оторвать глаз: он красив и могуч.
В Афониной артели почти все грузчики из местных крестьян, куменские или пасеговские, добродушные мужики и парни, только Игнат пришлый. В Афонину артель он вошел недавно. Сидели грузчики в ожидании, когда с низов подойдет баржа с зерном, и стали от нечего делать на скалке тянуться. Афоня шутя перетянул одного, другого, и тут из толпы зрителей вышел мрачный, весь в рыжей шерсти, похмельный мужик.
– А ну, телята! Кто спроть Игната? Ты что ли пойдешь? – хлопнул он Афоню по спине: – Да я таких, как ты, по паре на одну руку кладу, а другой переметываю!
Стали бороться на поясах. Афоня такой же высокий, но тонкий в талии, поуже в плечах, казался рядом с Игнатом щуплым и слабым.
Улыбка не сходила с его широкого лица, а Игнат, хмурый, с налитыми кровью глазами, был грозен. Он оторвал Афоню от земли, крякнул и готов был перебросить его через себя. Но Афоня извернулся, присел, широко расставив ноги, мигом подался всем телом вперед, и опорки Игната мелькнули в воздухе.
Выплевывая изо рта песок, выбирая из волос солому и щепки, Игнат поднялся, подошел к Афоне и хлопнул его ладонью-лопатой по плечу, ткнул кулаком в грудь:
– Ничего телок! В возраст войдешь – бычком будешь!
…Поскрипывают, качаются сходни, от воды потягивает свежестью, и хорошо чувствовать свое ловкое тело, из которого ушла сонная вялость.
Легко и весело, что-то покрикивая, ходит с грузом Афоня. Все оживились, на баржу взбегают легкой поступью, а с грузом идут шаг в шаг.
Колька очень любит эти часы утренней работы, когда так легко дышится, когда входишь в общий ритм. Появляется острое и очень тонкое чувство слитности со всеми, будто ты не сам по себе, уже не Колька Ганцырев, а часть какого-то организма, состоящего из девяти слаженных и дружных единиц. Хотелось бы пробежаться с грузом по сходням, похваляясь своей ловкостью, но нельзя – общий ритм нарушится и начнется разнобой, хорошей работы не будет.
Но вот Афоня, взглянув на солнце, ускорил шаги, стал носить груз впробежку. И ты с радостью подхватываешь новый темп, и Игнат, идущий за тобой, начинает чаще шлепать опорками.
Солнце уже высоко, палуба баржи и сходни дышат жаром, река стеклянно блестит, на пристани шумит народ, кричат ломовики, пот заливает шею и грудь, горячий воздух обжигает губы, ноют плечи и спина, но взятый темп не снижается.
– Скоро пошабашим! – покрикивает Афоня. – Ходовитей, парни, ходовитей!
Темп нарастает, теперь уже всех охватывает злой азарт, и хочется сделать до завтрака как можно больше.
Завтракать садились в тени, на травку. Покупали у торговок колбасную обрезь, воблу, рубец, вареную картошку, запивали квасом или водой из ключа.
После завтрака ложились на пригорке под тополями, раскинув усталые ноющие руки. Подремывали или переговаривались лениво, посматривая на шумную толпу на пристани.
– Смотри-ка! Никак жандармы кого-то привезли?
Остановилась у дебаркадера тюремная карета. Два жандарма открыли зарешеченную дверь, и из кареты вышел, щурясь на солнце, бледный человек в сюртуке, в пенсне со шнурочком, с саквояжем в руке.
– Политика отправляют. Знать, в ссылку, в Орлов. Туда их много уж загнали.
– Из чиновников, видать, какой-то, из богатеньких. И чего им не хватает? Образованные все, в сыте, в холе живут, обуться, одеться есть на что, дом, наверно, свой, и жалование каждый месяц ему платят. Это не то, что наш брат-зимогор… И чего им бунтовать? Не пойму.
Игнат приподнимался на локте, долго смотрел из-под рыжих бровей на жандармов, цедил сквозь зубы: «Фараоны, сволочи, царевы собаки», – пускал длинное ругательство и, остановив тяжелый взгляд на лице парня, не понимающего, зачем образованные бунтуют, отрывисто и презрительно бросал:
– Мужик ты! Дурак! Куменский репоед! Еда да питье, да одежда и дом свой. И тогда, стало быть, счастье полное? Мужик ты, человек слепой! Дальше своего пупа ничего не видишь! И все вы, мужики, такие!
Потом прикрывал свои белесые, в красных прожилках, глаза ресницами и уже спокойно начинал рассказывать:
– Я всю Сибирь-матушку сквозь испрошел. Видал всякого чуда и всякого люда. И нет людей интереснее и справедливее политиков этих. А какие головы умнейшие! С ним поговоришь, так ровно на гору подымешься, на вершину, откудова далеко все видать… И ведь что главнее всего? А то, что у него все есть: и дом, и деньги, и почет от людей за его образованность, – а он все это бросает и за народ идет в каторгу. Вот какая удивительная вещь! А мужик? Помани его сладким куском, так он и тебя, такого же голодранца-зимогора, и отца с матерью – за кусок продаст! Знаю я их! Кто в тюрьме в попках служит? Мужик. Кто с нас кровь пьет? Мужик с мошной! Вот кто!
Игнат редко говорил спокойно и, даже рассказывая что-нибудь из своей жизни, вскоре распалялся и начинал зло, отрывисто выкрикивать, пересыпая каждую фразу ругательствами.
– Злой я? – кричал он о себе. – А с чего мне, с какого такого праздника добрым-то быть? Вы, куменские, пасеговские, добрые. Потому что слепые! Молод, глуп, не толок круп! А уж я сам толок беду, и меня толкли в ступе да через терку пропускали.
Подвыпив, он затевал драки с ломовыми извозчиками, дрался жестоко и весело. Или повторял с пророческим видом:
– Тухлая наша жизнь, душная! Только кончится это все, скоро затрещит, пламем ярким запылает. Помяните мое слово: заполыхает все наше жизненное строение с четырех углов, в одночасье огнем займется.
Иногда он приставал к Афоне:
– Ты, Афанасий, не по-нашему живешь. Не так, как, скажем, эти мужики пасеговские. И не так, как я. Ты почему не злобный и почему не жадный? Нет, ты скажи, скажи? Может, ты что особое о жизни знаешь?
Афанасий отмалчивался, улыбаясь, отшучивался или отвечал с глубоким вздохом:
– Ничего я толком не знаю. Хочу узнать, да где же узнаешь, когда грамота моя всего одна зима. Эх, поучиться бы мне!
– Ты что? Из книги про жизнь узнать хочешь? А ты лучше от людей узнавай.
– Есть и люди у меня знакомые, хорошие, умные ребята. Только через книгу, как бы сказать, вернее будет.
Эти разговоры захватывали Кольку и заставляли смущаться от сознания того, что он, гимназист, самый образованный среди грузчиков человек, никогда до встречи с этими людьми о жизни не задумывался.
Когда обращались к нему, чтобы он разрешил какой-нибудь спор между Афоней и Игнатом, Колька смущался еще больше, не зная, как быть. Единственно, что ему удавалось и вызывало общее одобрение, это пересказ книги Джованьоли «Спартак».
Часто среди нарядной толпы, спешащей к парому, Колька видел знакомые лица гимназистов и гимназисток. Его узнавали, многие здоровались, взмахивая фуражками.
Колька первое время чувствовал себя неловко в одежде грузчика, старался скрыться за спинами товарищей, но потом перестал стесняться, стоял на виду у всех, свободно и легко здоровался.
К концу дня приходил на пристань Донька Калимахин, садился на скамеечку, ожидая, когда Колька освободится. Иногда скатывались с откоса, как веселые медвежата, братья Сорвачевы. Они надевали свободные «ношатки», брали в руки крючья и сноровисто помогали артели закончить работу.
В этот час грузчики рассаживались на откосе группами, отдыхали. То там, то здесь раздавалась песня, звучали голоса тальянок. Если в какой-то группе затевалась пляска, Донька Калимахин обязательно входил в круг и ловко, задорно отплясывал «барыню».
А потом Афоня, Колька и Донька шли на Луковицкую. Во дворе у кадки отмывали грязь и, закусив, чем придется, ждали в дровянике, когда подойдут все члены футбольной команды на тренировку.
Встреча с бакалейщиком
Был золотой полдень.
Федосова лодка, покрашенная охрой, покачивалась у столбика, звякая цепью. На мостках стояли Катя, Женя и Аркаша в широкополой соломенной шляпе. Колька и Герка подавали Федосу продукты в корзинах, удочки, мяч, топор, лопаты, ведро, чайник, и он укладывал все в лодке.
Колька узнал, что приглашена и Наташа. Сердце его упало, а потом забилось часто и жарко. После юбилейного вечера, когда он опозорился, как мальчишка, Колька не встречался с Наташей. Он видел ее только издали и всегда в окружении молодых людей, среди которых обязательно был и Кошменский. И теперь ему было мучительно трудно встретиться с Наташей. Он хотел было сбежать, но Женя крикнула звонко:
– Идет, идет! Засоня, скорей же, скорей! – замахала она своим лиловым шарфом.
Бежать было поздно, и Колька замер, согнувшись на скамейке.
Усаживаясь, Наташа расправила свой легкий сарафанчик, улыбнулась, наклонив голову, и протянула руку:
– Здравствуйте, Коля. Я рада, что и вы с нами. Куда же вы исчезли? Нельзя так сразу забывать старых друзей.
– Я ведь работаю, – пробормотал Колька и взялся за весла.
Оттолкнулись от мостков, дружно взмахнули веслами. Заскрипели ритмично уключины, и «Молния», подхваченная течением, быстро вышла на середину реки.
Навстречу потянулись заводы, склады, заборы, сероватые металлические баки.
Позади блестели в бледной синеве золоченые кресты колоколен. С красного обрыва смотрело подслеповатыми окошками хмурое здание тюрьмы.
А в лицо веяло влажным ветром, насыщенным запахами луговых трав. Над водой, жалобно стеная, низко пролетела одинокая белая птица. Она коснулась крылом волны и метнулась к берегу.
Колька греб, упрямо сжав губы, не видя ничего, кроме своих рук, с силой вцепившихся в весло. Герка, сидевший с ним в паре, раз и другой сделал леща веслом, и Наташа предложила ему поменяться местами. Наташа перешла к Кольке, наклонилась и, улыбаясь, прошептала:
– Не возражаешь?
Неожиданное «ты» обрадовало Кольку, он посмотрел ей в глаза и ответил шепотом:
– Ты же намозолишь руки, добрая душа. – Он хотел сказать это с иронией, но сказалось быстро и радостно.
– Не беда. Я не белоручка.
«Молния» вошла в узкий дугообразный пролив «Боровое». На срезах серых берегов чернели норы – гнезда ласточек. Над быстриной шумели листвой старые ветлы, серые осинки.
– Как хорошо здесь! – сказала Наташа и наклонилась над бортом. – Вода совсем черная.
Колька сидел, касаясь локтем Наташиной руки, и все, что так терзало его эти месяцы, показалось ему сущим пустяком, куда-то исчезли и горечь, и ревность, и стыд.
– Ты не устала?
– Что ты, конечно, нет. Мне просто хорошо.
Лодка вышла из пролива на просторный плес. На левой стороне, в ельнике, виднелись голубые маковки Филейского монастыря, а чуть подальше на откосе – одинокая белая часовня.
Левый берег постепенно снижался. Кое-где на лужайках темнели купы кустарника и редкие стога молодого сена. Вдали висели над рекой ажурные фермы Загарского моста. Федос направил «Молнию» к правому возвышенному берегу, где краснел стволами соснячок.
Лодка ткнулась носом в песок.
– Кинем якорь здесь, вылезайте! – скомандовал Федос. – Разгружайте трюм, не оставляйте мячик.
Среди сосенок, на самом берегу, оказалась уютная, усыпанная коричневыми шишками полянка. Пока ребята строили из ивовых ветвей шалаш, копали поблизости яму для костра, собирали хворост, девушки убежали в лес. Слышались их голоса, ауканье. Возвратились они с охапкой цветов.
Наташа присела на корточки около Кольки, разжигавшего костер:
– Посмотри, сколько цветов.
На ее коленях, среди зеленоватых метелок перловника, желтели лепестки медунки, горели пурпуром колоски кукушкиных слез, синели колокольчики, терпко пахли белые кисти багульника.
– Где ты столько набрала?
– В лесу, в овражке. А пахнут как!
Река серебряно сверкала, голубела даль. За кустами можжевельника, саженях в ста, виднелась серая отмель. Наташа разбирала цветы, откусывая белыми зубами длинные стебли.
Колька возился возле костра, взглядывал на Наташу, видел ее шею в завитках волос, и стало ему теперь очень хорошо и просто.
Тех дурных мыслей о Наташе, которые долго мучили его, сейчас не было. Ему захотелось все рассказать ей откровенно, без утайки. И как он мучился, ругая себя за тот поступок, и как хотел подойти к ней на улице, но не решался, как он злился, когда видел ее в таком окружении, как противен ему этот Игорь Кошменский. И даже то, что он думал о ней, как о пустой кокетке, которая может растоптать все хорошее ради развлечений с богатеньким бакалейщиком Кошменским, – все, все хотел рассказать Колька. Но Наташа отбросила связанные букеты, встала, отряхнув платье:
– Мне хочется туда, к реке, – показала она в сторону отмели и медленно пошла по берегу. У кустов оглянулась и скрылась за ними.
Колька бросился за девушкой. Влетел в можжевельник, поцарапал руки, лицо. Вырвался из колючего кустарника и увидел ее на песчаной косе. Она осторожно ступала босыми ногами, ветер трепал подол ее платья.
Колька снял ботинки и одним махом очутился подле девушки.
– Мне подумалось, ты рассердился на меня.
– Нет-нет, что ты, – ответил Колька и вмиг забыл все, что хотел ей сказать.
– Какой горячий песок! Сверкающая река! И это солнце! – Наташа зажмурилась и вдруг предложила: – Давай покупаемся?
– Давай, – ответил Колька.
Наташа побежала к ракитовому кустику, качавшемуся среди серебристых лопухов мать-мачехи, а Колька остался на месте и стал раздеваться.
Смуглый, в черных трусах, он помчался на носочках к реке и бросил себя в обжигающую прохладу. Наташа, одетая в розовый купальник, стояла на песке и засовывала волосы под косынку.
– Как вода?
– Теплая! – откликнулся Колька. – Иди сюда, здесь по пояс.
Вскоре они, громко смеясь, плескались; потом, держась за руки, дошли почти до середины реки. Кольке захотелось отличиться перед девушкой. Широко загребая воду, отталкиваясь ногами, он поплыл к противоположному берегу. На стрежи его быстро подхватило течением.
– Не надо! – крикнула Наташа. – Еще утонешь!
Колька отказался от своей затеи, повернул обратно.
Они шли по краешку косы. Стаи гревшихся на солнце мальков разбегались в стороны.
– У тебя очень красивый загар, ровный, с лиловым оттенком, – сказала Наташа.
Она смотрела немигающими глазами на Кольку, смотрела загадочно, с дрожащей улыбкой в уголках губ. Внезапно толкнула его и побежала.
– Лови! – бросила на бегу.
Колька легко догнал ее, схватил за руку, но не удержал.
– Лови же, лови! – дразнила Наташа, убегая все дальше. Он припустил за ней. За ближайшим кустом она спряталась, дождалась его, увернулась и помчалась в другую сторону. Колька налетел на девушку и нечаянно сшиб с ног.
– Попалась!
Он хотел повернуть Наташу лицом к себе, но она, закусив губы, вцепилась в корни какого-то деревца. Тогда, озлясь, он стиснул Наташино плечо и опрокинул ее навзничь:
– Сдавайся!
Наташа отвернулась. Он чувствовал торопливый стук ее сердца, а, может быть, это стучало его, Колькино? Как легко можно было бы сейчас коснуться сухим ртом ее загорелой, такой близкой щеки! Оба молчали, глубоко дыша. Наконец, Наташа, как бы очнувшись, подняла ресницы и устало прошептала:
– Пусти, медведь…
Колька сразу пришел в себя, отскочил от девушки и пошел, как побитый, к месту, где разделся. Обескураженный, думал, что «совершил страшный поступок, за который бьют по морде».
Через несколько минут и Наташа в своем сарафанчике уже стояла около него.
– Полюбуйся, что натворил своими железными лапами, – она приспустила лямочку с плеча, показала синяки на руке. – Но я не сержусь. Сама виновата. С тобой, медведем, шутить нельзя. Идем быстрее, нас, наверное, потеряли.
У костра сидели Женя и Катя, пекли картошку. Обе напустились на Кольку и Наташу:
– Бессовестные! Где пропадали?
Наташа спокойно ответила:
– Купались. Вон там ниже – отличный пляж.
– Купались?
– А тебе какое дело? – взъелся Колька.
– Ну, ладно. Вытаскивайте пока из золы картошку, сейчас будем обедать.
Показался Федос, за ним остальные.
– А-а? – воскликнул он. – Наши Ромео и Джульетта уже возвратились? Катенька, Женечка, где скатерть-самобранка? – засуетился он. – Накормите проголодавшихся Монтекки и Капулетти!
У шалаша, в тени, на домотканной скатерке мигом, как по щучьему веленью, появились: пирожки и ватрушки Марины Сергеевны, колбаса, сыр, золотая вобла, перья зеленого лука, печеная картошка, каравай ржаного хлеба, кулек тянучек и стаканы.
– Прошу к столу! Гера, тащи чайник! – распоряжался Федос. Когда все расселись, он в полупоклоне раскинул руки: – Милые синьорины, перед вашими лучезарными очами и, высокочтимые мужественные синьоры, перед вашими носами:
Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами манят;
С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются…
– Смеются… Гм. Дальше забыл. Кстати, кто это написал? Ну‑ка?
– Пушкин! – высунулся Герка, уплетая ватрушку.
– Эх, ты, Пушкин! Написал это, запомни, Гавриил Романович Державин. «Приглашение к обеду» называется.
Смеркалось. Невдалеке, за кустами, тоже запылал костер. Оттуда донеслись веселые голоса, смех, потом звуки граммофона. Пластинки были редкостные. Женя прислушалась.
– Ого! Полька, – сказала, приподнимаясь, Наташа: – Но не танцуют? Кто бы там мог быть? А у них весело.
– У нас не хуже, дружнее, и по-своему, – ответил Колька и стал разливать чай.
Федос шутил, разыгрывая Герку.
Но Женя, Катя и Наташа не поддерживали шуток Федоса; они сидели, обнявшись, и слушали музыку.
Граммофон замолк. Через несколько минут из-за кустов вышли двое в белых фуражках. Колька узнал Игоря Кошменского, с ним был Бибер, чиновник канцелярии губернатора.
– Добрый вечер, соседи, – приподнял фуражку Игорь: – Не желаете ли к нам на чашку чая? Мы только двое и, право, будет веселее, если вы к нам присоединитесь. Ба, да здесь же знакомые все лица: Ендольцев, Пахтусов, Наташа, – он весело здоровался с каждым: – Ганцырев, кажется? Добрый вечер, Ганцырев, – протянул он Кольке руку, и, когда Колька отвернулся, Игорь чуть заметно пожал плечами.

– Вот хорошо, вот чудесно! – закричали Наташа и Женя: – Только давайте сделаем так: не мы к вам, а вы сюда переселяйтесь.
– Что же. И прекрасно. Только нужны помощники, чтобы переселение прошло побыстрее.
Охотников помочь нашлось немало. У костра остались только Федос и Колька.
Колька посмотрел вслед радостно оживленной Наташе и сказал:
– Пойду-ка еще раз искупаюсь. Вечером вода, как парное молоко.
Колька долго шел вдоль пляжа. Издали слышал он веселые голоса, смех, потом Наташа и Катя закричали:
– Коля! Коля! Хватит купаться, иди скорей, у нас весело!
Федос и Герка тоже кричали.
Но Колька уходил все дальше и дальше по песчаной косе.
Темнело густо-синее небо, дрожали зеленоватые звезды, и от этого казалось, что небо колышется, как тугая вода. И в темной воде плеса тоже дрожали и вспыхивали звезды.
Колька разделся, вошел в парную воду по грудь, оттолкнулся от дна и поплыл на середину плеса, разбивая ладонями отражения звезд. Он долго плавал, ложился на спину, на бок. Со средины реки хорошо был виден костер и черные силуэты танцующих. Костер стал пригасать, умолкли звуки граммофона, и Колька вышел на берег. Поднялся по крутой тропинке в сосновый лес. Все ближе костер, но голосов уже не слышно. При выходе на полянку он раздвинул кусты и увидел Игоря. Тот стоял рядом с Наташей, склонив голову, заглядывая ей в лицо.
– Вот смешной, – говорила Наташа. – А я пойду подремлю, – она помахала рукой и ушла к костру.
Кошменский раскурил папиросу и направился по тропинке вдоль берега – навстречу Кольке. Колька вышел из кустов, и Кошменский приостановился:
– Ну, как вода, Ганцырев? Я тоже хочу искупаться.
Оттого, что Игорь Кошменский не испугался неожиданной встречи и заговорил с ним таким небрежно-будничным тоном, Кольку обожгла ненависть к этому типу.
Он вырвал у Игоря изо рта папиросу и бросил в воду.
– Вот я помогу тебе искупаться, бакалейщик! Где твои кулаки? Ну!
Игорь выставил вперед ногу, поднял сжатые кулаки и, весь подавшись вперед, сказал со смешком:








