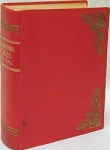Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава 7.Театр
Посадский, дворянин, маркиз, граф,
князь, владетель
Восходят на театр: творец находит путь
Смотрителей своих чрез действо ум
тронуть.
А. Сумароков
1
Театр был обязательным придворным развлечением, и те, кто состояли в штате императрицы или великого князя, на спектакли должны были являться аккуратно.
В зиму 1764–1765 годов во дворце дважды в неделю играла французская труппа, один раз выступала русская, а в городе, кроме того, была и немецкая комедия.
Великий князь не любил театральные зрелища и говаривал, что не находит в них большого веселья и пользы. Ему нравилось вычитанное в одной из французских книг мнение, что театральные пьесы развращают нравы, отвлекают от повседневных дел и могут даже привести человека в некоторое тунеядство. Порошин, однако, полагал, что причины эти, называемые вслух Павлом, были для него отнюдь не главными. Мальчик не любил театр потому, что спектакли долго тянулись, и при живости характера это было ему несносно. Боялся он, что опоздает лечь в постель и заснет позже обыкновенного, отчего проснется не в свое время. Но так как при дворе спектакль был частью официальной программы дня, Павлу приходилось смирять свой нрав и по вечерам являться в зрительную залу. Он и сам ведь был официальным лицом при дворе ее величества.
Значительность своего положения цесаревич ощущал и часто желал в этом убеждаться.
На представлении нового балета «Охотник» Павел громко аплодировал танцовщикам Тимофею, Парадису и танцовщице Мекур.
Государыни в театре не было, и великий князь чувствовал себя старшим в зале. Он первый начинал хлопать, как бы подавая команду, и затем прислушивался к дружным аплодисментам. Но дважды зрители хлопали без его сигнала, на что он очень обиделся. Вернувшись к себе, за ужином Павел ворчливо изъявил свое недовольство.
– Не стоит огорчаться, ваше высочество, – сказал Александр Сергеевич Строганов. – Смотрители в зале никакого преступления не содеяли. Понравилось – и ударили в ладоши. Вспомните, государыня при себе дозволяет аплодировать, хоть и не изволит сама начинать.
Павел обиженно молчал.
– Я не слыхивал, – наконец сказал он, – чтобы государыня разрешала при мне аплодировать, когда я не начинаю. И потому первый знак должен быть мой. Вперед я попрошу, чтобы тех можно было высылать вон, кто будет при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности.
Подчиняясь вкусу придворных, великий князь предпочитал французский театр русскому. Все же со временем Порошин сумел добиться у него примирительной формулы:
– Французский театр у нас лучше, чем русский, но русский надобно привесть в лучшее состояние.
– Верно изволите судить, ваше высочество, – обрадовался Порошин. – Театр ведь наш не так и плох, а многие хулят русских комедиантов для того только, чтобы хулить. Нам следует быть не столь строгими, а думать о том, как недостатки театра нашего исправить. Ветреная хула прилична только безмозглым вертопрахам. Надобно любить свое отечество, на смех его никому не выставлять и всеми силами стараться прикрывать от чужих глаз его недостатки, а между тем эти недостатки исправлять…
– Да что же делать, когда наши актеры дурно играют? – воскликнул Павел.
– А чтобы играли хорошо, – сказал Порошин, – нужно вашему высочеству желать, чтобы они так играли, а не пренебрегать актерами.
– Что из того прибыли, – возразил Павел, – что я, сидя здесь, буду желать, чтобы они хорошо играли? Они все равно такими же останутся.
– Нет, ваше высочество. Похвальный отзыв комедиантов ободрит, когда они о нем узнают, и заставит лучше играть. А при худом отзыве они и стараться не станут.
Французская труппа ставила во дворце комедии, одноактные пьески, комические оперы Филидора, Дюни, Монсиньи. В репертуаре были также балеты или танцовальные пантомимы. Трагедий не разучивали: императрица их не любила.
Комическая опера на придворной сцене была новинкой и понравилась не всем зрителям.
Посмотрев оперу Кетана и Филидора «Кузнец», Никита Иванович объяснил великому князю, отчего многие не приняли этот жанр.
– Мы привыкли, – говорил он, – к зрелищам огромным и великолепным, а в музыке ко вкусу итальянскому – обширные хоры, процессии, толпы актеров, короли и королевы. А тут в музыке простота, и на сцене, кроме кузниц, кузнецов и кузнечих, никого не было.
– Отчего перед тем, как затанцевать в конце, актеры смеялись? Я не понял, что они пели, – сказал Павел.
– В комической опере, – ответил Никита Иванович, – слова значат, пожалуй, не меньше, а больше, чем музыка, и чтобы следить за действием, их надобно слушать. Однако у человека поющего не все понять бывает удобно – этот слог он тянет, а тот произносит скоро. И оттого, думаю, необходимо комические оперы печатать и продавать, чтобы смотрителям вдвое приятности было. Вся красота таких опер состоит в шутках, в замысловатых песенках, а не читавши их прежде, многое пропустишь, не оценив.
Из спектаклей русского театра великий князь одобрил комедию «Мот, любовью исправленный», аплодировал актерам и пожелал видеть автора.
Комедию эту написал Владимир Игнатьевич Лукин, один из служащих дворцовой канцелярии, помощник секретаря императрицы и ее друга Ивана Перфильевича Елагина. Но «написал» для Лукина, да и для многих других литераторов той поры не всегда значило «сочинил». То, что выходило у какого-нибудь автора удачно, можно было взять у него, переделать, если нужно, – и вставить в свое произведение. Идеи, мысли считались общими, хорошие выдумки служили разным писателям, литературные заимствования встречались часто, и закон их не преследовал, потому что и законов о печати еще несуществовало – они появились позже.
Лукин был убежден, что именно так и должен поступать писатель.
– Заимствовать необходимо надлежит: на то мы рождены, – утверждал он, – но надобно в том и признаваться, а чужое присваивать – дело совсем не похвальное.
То, что было взято у иностранного автора, следовало приспособить к русским обычаям и нравам, изменить имена и, например, вместо Клитандра, Доранта и Цита– линды вывести на сцену Добросердова, Злорадова и Марину. Предполагалось, что зрители не относят к себе мораль и сатиру переводных пьес, отчего театр утрачивает значение училища нравов и школы воспитания. Этого допускать нельзя, и потому заграничных персонажей требуется превращать в русских, склонять на наши нравы.
До появления пьес Лукина в распоряжении театра было пять-шесть русских комедий, из которых три принадлежали Сумарокову. Лукин чуть не вдвое расширил репертуар, и сделал это не бездарно: в его комедиях просвечивал русский быт, и они зрителям нравились.
Когда кончилось представление «Мота», драматурга проводили в ложу великого князя.
Павел дал ему поцеловать руку и бросил на Порошина взгляд, означавший: «Поговори с ним!»
– Комедию вашу, – сказал Порошин Лукину, – его высочеству угодно было одобрить. Подлинно, что пристрастие к игре в карты погубить может человека, и счастлив тот, кто от этакой заразы исцеляется.
Лукин почтительно поклонился мальчику.
– Игра, – ответил он, – вот где молодые люди тратят время и деньги в позорном мотовстве и приходят в бедность, от бедности – в крайность, а от крайности – в дела предосудительные, навлекающие вечный стыд не только им, но и всем родственникам. И я стараюсь, чтобы эти люди исправились, для чего им полезны будут наставления добродетельных девиц, их возлюбленных. Об этом и говорит моя комедия.
– Средство недурное, – посмеиваясь, заметил Никита Иванович, – но для всех ли зараженных картами оно доступно? Сколько у нас таких девиц есть, какую вы показали?
– Не спорю: мало, и очень мало, – с готовностью согласился Лукин. – Но мы должны ожидать умножения их числа, потому что воспитание человеческое у нас давно уже началось, а что девиц не много еще воспитано, в том родители небрежные виноваты.
– У вас в комедии, – сказал Тимофей Иванович Остервальд, – выведен слуга мота Василий, который лучше барина все дела его знает и за ним как родной отец смотрит. Таких слуг нет и не бывало. Это вы не из жизни взяли!
– Что за беда? – возразил Лукин. – Василий для того мною и сделан, чтобы произвести в народе ему подобных. Он будет образцом, как примерный русский слуга. Совестно смотреть, что во всех переводных комедиях слуги бездельники, господ обманывают – и без наказания остаются.
– Но к чему же вдруг преподали вы столь избранное нравоучение для подлого рода слуг? – спросил Остервальд.
– Чтобы очистить оный от подлости и научить усердию к господам и честным поступкам. – Вот тебе на! – сказал Никита Иванович. – Разве не знаете вы, что слуги никаких книг не читают?
– Неправда! – возразил драматург. – Очень многие читают, а есть и такие, которые и пишут. Мыслить же все люди могут, потому что каждый с мыслями родится, кроме дураков и вертопрахов. И напрасно мнимовластный судия в наших словесных науках присуждал меня из города выгнать за мои пьесы. Нет у него на то права, и ни у кого нет! Я пишу для пользы единоземцев, в свободное от службы время…
Никита Иванович не мог сдержать смех.
Лукин умолк.
Великий князь, кивнув на прощанье головой, вышел из ложи.
2
«Мнимовластный судия», о котором говорил Лукин, был Александр Петрович Сумароков. Манеру Лукина переделывать иностранные пьесы он порицал, уверенный, что таким способом нельзя создавать национальную драматургию.
Путь к ней, думал он, должна открывать трагедия.
По назначению своему трагедия – так вместе с другими драматургами эпохи понимал ее Сумароков – занималась особами царской крови, от которых зависели судьбы государств и народов. Ошибки правителей создавали подлинно трагические конфликты, неверный шаг какого-нибудь монарха колебал безопасность отечества. Любовная страсть повелителя получала всеобщий интерес, ибо от ее исхода зависело благополучие страны – на сцене, как и в жизни. Дела и чувства частных лиц такого значения не имели, и углубляться в них, казалось, не стоило. Позднее такой взгляд на задачи драмы и вообще литературы был назван классицизмом.
Такова была драматургия Корнеля, Расина, Вольтера – любимых писателей Сумарокова. Но их опыт переставал быть для него только традицией.
Жизнь, которую знал Сумароков, сначала ограничивалась стенами Сухопутного шляхетного кадетского корпуса – наглухо отгороженной от житейских впечатлений дворянской школой. Оттуда он вынес мысли прочитанных книг, дополненные собственными раздумьями. А затем Сумароков столкнулся с жизнью придворной, став генеральс-адъютантом графа Алексея ГригорьевичаРазумовского, некоронованного мужа императрицы Елизаветы Петровны, и правителем дел в лейб-компании – буйном и пьяном отряде ее телохранителей. Двор он изучал ежедневно. Окружение Елизаветы и Разумовского, включая бесшабашных поручиков-гренадер, – среда, в которой Сумароков проводил свое служебное время. На его глазах уже не раз сменялись царствующие особы, и он знал, как это происходит, чьими руками добываются короны и чем расплачиваются за них.
Вместе со своими учителями и современниками Сумароков считал человеческую природу исторически неизменной, полагал, что во все времена люди думали, чувствовали, действовали одинаково. Обстановка событий поэтому была несущественна. Драматург передавал основное, ведущее – борьбу идей, столкновения между разумом человека и его чувствами, между его обязанностями перед государством и личными влечениями.
Сумароков написал трагедию «Хорев», а вслед за нею – «Гамлет», взяв основу ее у Шекспира, прочитанного во французском переводе. На очереди были «Синав и Трувор», «Артистона», «Семира».
Ставить эти пьесы было негде.
Сумароков начал создавать русский театр.
Царь Петр в начале века пригласил в Россию немецкую труппу и отдал в актерскую науку два десятка купеческих детей и подьячих. Он желал увидеть спектакли, прославлявшие государевы труды и победы над шведами, пьесы без шутовства, полезные для тех, кто их смотрит, пусть таких людей пока и не много.
Приезжие немцы старались угодить монарху, но ничего путного подготовить не смогли. Театра не вышло, и Петр к нему охладел.
Однако интерес к театральным зрелищам был пробужден. Спектаклями увлеклась сестра царя Наталья Алексеевна, а потом и вдова царского брата ПрасковьяФедоровна. Пьесы разыгрывали ученики доктора Бидлоо в московском госпитале. Библейские сюжеты школьных драм чередовались в их репертуаре с интермедиями в духе народной сатиры скоморошеских представлений.
Позднее возникли недолговечные труппы любителей из числа подьячих, придворных служителей, солдат. Они играли для ремесленников, купцов, мелких чиновников, – словом, для горожан, – инсценировки популярных рыцарских романов, перемежая действия больших пьес сценками грубоватых и смешных интермедий, или, как их еще называли, междувброшенных действий.
При дворе в царствование Анны Ивановны бывали спектакли немецкой труппы Каролины Нейбер и французской – Сериньи, ставились пьесы Корнеля, Вольтера, Мольера.
Кому же играть новые трагедии? Иностранные труппы для того не годились. У них контракт, свой репертуар, и русские стихи учить актеры не будут.
Сумароков вспомнил о корпусе. В его время кадеты, обучавшиеся у танцмейстера Ланде, иногда приводились во дворец исполнять балетный дивертисмент в итальянских комедиях. Однажды группа кадет, занимавшихся французским языком, разыграла трагедию Вольтера «Заира». Зимой 1748 года ее повторили во дворце.
Сумароков побывал в корпусе. Он встретил старых преподавателей, почтительно его узнававших. О службе его генеральс-адъютантом у Разумовского было известно, как и то, что императрица любит театральные представления. Сумарокову разрешили обучить кадет и разыграть трагедию.
Охотников явилось много. Сумароков прочитал им свою трагедию «Хорев», распределил роли – женские тоже достались юношам – и приступил к репетициям. Кадеты очень старались, автор и режиссер учил их со страстью и довольно скоро признал, что спектакль готов.
Трагедия «Хорев» была сыграна в корпусе, а затем и во дворце, всем понравилась. Вслед за нею Сумароков поставил с кадетами вторую свою трагедию – «Гамлет», основанную на пьесе Вильяма Шекспира. Сумароков постарался ее исправить – не все там ему пригодилось. Вслед за Вольтером он полагал, что Шекспир пишет как пьяный дикарь, не соблюдая никаких литературных правил. Шекспир может трогать сердца, но оскорбляет образованный вкус хаосом действия. В нем много и очень худого, и чрезвычайно хорошего. Сумароков постарался, как он думал, улучшить шекспировского «Гамлета».
Для этого он оставил в трагедии только одну идею: власть берут обманом, за нее борются насмерть, убивают. Все, что не было прямо связано с этой темой, он беспощадно отсек. В пьесе не стало Фортинбраса, Лаэрта, Розенкранца, Гильденстерна, актеров, могильщиков. Взамен возникли наперсник Гамлета Арманс и подруга Офелии – герои разговаривали с ними, излагая свои взгляды и сообщая зрителям о причинах своих поступков. Трагедия пронизалась единством действия, а действие было таким: месть принца за убийство короля-отца, совершенное матерью и царедворцем Полонием. Новый король Клавдий – отъявленный злодей. Добившись трона, он хочет умертвить своих бывших союзников и взять в жены Офелию.
Гамлет у Сумарокова лишен колебаний, нерешительности, раздумья и устремлен к одной цели – им владеет жажда мести. Он любит Офелию, но знает, что ее отец Полоний участник злодейства, и выбирает между необходимостью убить его и сознанием несчастья, которое будет причинено Офелии. Об этом он рассуждает в монологе вместо решения вопроса «быть или не быть?». Как и у Шекспира, монолог пришелся на третье действие:
Что делать мне теперь? Не знаю, что зачать.
Легко ль Офелию навеки потерять!
Отец! Любовница! О имена драгие!
Вы были счастьем мне во времена другие…
Гамлет хватается за шпагу, желая покончить с собой. Выбор мучителен. Умереть просто, но что будет с тем делом, которому ты обязан служить на земле? Эта мысль останавливает Гамлета. Он сознает свои земные обязанности и не может пренебречь ими. Так велит ему сыновний долг, этого требуют государственные интересы.
Но и Клавдий с Полонием не дремлют. Полоний собрал отряд воинов – рабов, по его выражению, то есть подданных тирана, солдат, – для того, чтобы убить Гамлета, а за ним королеву Гертруду. У Шекспира нет этих сцен. Сумароков сочинил их, думая о лейб-кампанцах, мастерах устраивать дворцовые перевороты. У Елизаветы Петровны эти молодцы были в чести. Царица боялась, что удачный первый опыт может перейти во второй, не столь ей приятный, и потому сверх меры задаривала своих гренадер. Коварный Полоний намеревается уничтожить наемных убийц после того, как они расправятся с врагами короля, чтобы все следы остались навсегда скрыты. Расплата разная, но поручения примерно были одинаковыми…
Гамлет управляется быстрее. С помощью граждан он разгоняет убийц, врывается во дворец, и Клавдий падает под его мечом. Он останавливает руку Полония, занесенную над Офелией, и, отправив его в тюрьму, объясняется с возлюбленной. Зритель видит, что в датском королевстве снова все благополучно, скипетр получили надежные руки. Разумная Офелия будет помогать Гамлету управлять страной, которую он избавил от жестокого тирана.
Герои трагедии Сумарокова «Артистона» назывались персами, и среди них был царь Дарий Гистасп, однако рассуждали они как образованные русские дворяне.
Перед зрителем была семья вельможи Отана. Он сохранил царство и передал Дарию персидскую державу, оказал множество услуг – и все для того, чтобы выдать за молодого царя свою дочь Федиму и самому еще ближе придвинуться к трону. А сына Орканта Отан хочет женить на Артистоне, дочери царя Кира.
Придворным, смотревшим спектакль кадетского театра, трудно было не вспомнить светлейшего князя Меншикова. Подобно вельможе Отану, он сватал для сына цесаревну Елизавету и собственную дочку обручил с мальчиком-императором Петром Вторым. Но сорвался дерзко задуманный план, кончились дни Меншикова в сибирской ссылке, а ведь как близко сумел подобраться он к российской короне! Совсем было примерил ее!
Сумароков совсем не думал показывать эпизоды истории русского императорского двора. На примере, почерпнутом из древности, нужно было осудить деспотичность монарха, открывая однако ж ему пути к исправлению. В трагедии «Артистона» так совершается перемена в Дарии – он переступает через губительную страсть к женщине и становится хорошим царем для своих подданных. Но придуманная отвлеченно характеристика придворных отношений вобрала в себя жизненный опыт Сумарокова. Стараясь предостерегать и учить, он стремился к убедительности, и порой под его пером проступали контуры столь известной ему русской действительности.
Все частное, конкретное оставалось за пределами художественного сознания Сумарокова. В трагедию попадала только схема, в главных чертах иногда соответствовавшая историческим фактам, и по ней удавалось понять расстановку сил, какой-то пунктир реальных характеров. Герои трагедии двигались в безвоздушном пространстве, но зрители дышали воздухом современной эпохи. Примеры пороков, изображенные актерами, заставляли думать о том, что происходило вокруг, и сравнивать двор персидского царя Дария Гистаспа с обитателями Зимнего дворца в Петербурге.
Одну за другой писал и ставил свои трагедии Сумароков. Кадетский театр обретал репертуар, но понемногу направление его стало внушать при дворе некое смутное беспокойство. Зрители стали тревожиться сходством положений, описанных драматургом, с памятными для них лично событиями, они пытались угадывать его намеки, действительные или кажущиеся. К тому же тиранство монархов нельзя было считать популярной темой, а Сумароков именно ее разрабатывал с увлечением.
Но почему, собственно, пьесы пишет один только Сумароков? Разве в России нет других писателей?
В сентябре 1750 года указом Елизаветы Петровны было повелено профессорам Ломоносову и Тредиаковскому сочинить каждому по трагедии. Тредиаковский произвел трагедию «Деидамия», огромную размером и тяжелую слогом. Труд его с превеликой натугой прочитали и в театре не ставили. Трагедия Ломоносова «Тамира и Селим» была посвящена теме из русской истории – в ней говорилось о Куликовской битве и разгроме хана Мамая, – и она была напечатана и дважды играна в кадетском театре.
Через год Ломоносов принес вторую трагедию – «Демофонт». Судьба ее сложилась иначе – в постановке трагедии отказали, найдя в тексте намеки на дворцовые тайны. Случайно или умышленно, Ломоносов коснулся злободневной для российской монархии темы, как бы посягнул на раскрытие дворцовой тайны.
Трагедия была основана на древнегреческом мифе. Сюжет ее целиком принадлежал Ломоносову, и речь в пьесе шла о захвате трона, о происках придворных, об изменчивой судьбе монархов:
Как в свете все дела преобращает рок!
Сегодня свержен вниз, кто был вчера высок.
Сей час нам радостен, но следующий слезен,
Тот вечером постыл, кто утром был любезен…
Самое главное – в трагедии участвовал мальчик, возможный претендент на троянский престол, которого похищают греческие цари, чтобы избавиться от его возможной в будущем мести. Нельзя было не вспомнить, что такой мальчик существовал в России – свергнутый Елизаветой император Иван Антонович, Иоанн Шестой, скитавшийся вместе с родителями по далеким тюрьмам и монастырям. Сопоставления такого рода были неуместны.
Пьесы академических профессоров не изменили тон кадетского театра. Елизавета приказала поискать других актеров, в надежде, что с ними придет и новый репертуар.
Труппа придворных служителей показала императрице свое искусство, но одобрения не получила. Тем временем стало известно, что в городе Ярославле купеческий сын Федор Волков с товарищами ставит спектакли, которые от зрителей очень похваляются.
В начале января 1752 года был подписан указ о вызове ярославских комедиантов в Петербург, и за ними с великим поспешением выехал гвардейский офицер.
Сумароков неодобрительно отнесся к этой затее. Он подозревал тут происки своих врагов и завистников. Славу кадетский театр получил немалую, и Сумароков связывал ее со своим старанием и талантом. Он писал пьесы, учил актеров, и спектакли теперь не уступали тем, что ставили иностранные гастролеры.
Правда, кадеты кончали корпус, уезжали служить, это народ в театре временный. Но есть придворные певчие. Если с ними заняться, выйдут заправские актеры. Зачем же нужны молодцы из ярославской провинций?
Между тем Федор Волков с братией прибыл в Петербург.
Сумароков узнал, что он из купцов, владел серным и купоросным заводами, но торговлю бросил, потому что всей душой пристрастился к театру. Живал в Москве, когда учился, видывал итальянские спектакли и пьесы, что разыгрывали в частных домах любители из простого люда – типографские рабочие, бывшие семинаристы, канцелярские служители – на святках и масленице. И сцена его увлекла.
Ярославцы сначала в помещении немецкой труппы на Большой Морской показали трагедию Сумарокова «Хорев». Автор остался доволен выбором пьесы, но игру осудил: она была природной, без школы, без уменья напевно произносить стихи.
Потом приезжих комедиантов пригласили во дворец. Великим постом светские пьесы играть было нельзя, и Волков поставил церковную – «О покаянии грешного человека».
Выступая перед императрицей, актеры перепугались, играли плохо, повесть же о кающемся грешнике показалась зрителям длинной и скучной. Ярославцев приказали отправить домой.
Сумароков был отчасти рад этой неудаче, но похлопотал о том, чтобы отпускать не всех провинциальных комедиантов. Были оставлены Федор Волков, его брат Григорий, Иван Дмитревский, Яков Шумский и Алексей Попов. Одних раньше, других позже определили в Сухопутный кадетский корпус – образовать ум, навести петербургский блеск. С ними вместе зачислили и семерых придворных певчих. А так как не были они дворянами, то, в отличие от кадет, не позволили носить шпаги: оружие – принадлежность благородного сословия.
Через два года образование актеров было признано законченным, и можно было сколачивать русскую труппу, открывать театр. Сумароков был уверен, что молодые Русские актеры заставят потесниться французов и итальянцев, игравших в Петербурге.
Указ о театре был подписан императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года. Создавался российский для представления трагедий и комедий театр. Помещение ему отводилось в бывшем доме графа Головкина на Васильевском острове, близ кадетского корпуса. На содержание театра отпускалось в год по пяти тысяч рублей. Дирекция поручалась бригадиру Александру Петровичу Сумарокову.
Новый театр открыл свои двери для всех. За вход нужно было платить: место – рубль, ложа – два рубля. Сборы подлежали сдаче в казну.
Васильевский остров населяли ремесленники, огородники, чиновничья мелкота, – кому придет в голову тратить рубль, чтобы посмотреть комедию? На зрителей из города надеяться нечего – далеко, в карете через Неву не проедешь, а понтонный мост чаще разведен, чем наведен, бывает. Сумароков добился разрешения играть в оперном доме, когда отдыхала французская труппа, для этого нужно было просить особое разрешение у гофмаршала двора. Жалованье актерам штатс-контора задерживала, денег на декорации, костюмы и освещение не было. Сумароков просил, требовал помощи, но судьба русского театра никого при дворе не занимала. Промучившись несколько лет, Сумароков настоял на том, чтобы театр был передан в ведомство придворной конторы, и взял отставку с должности директора. Команду над театром принял обергофмаршал Сиверс.
3
Сиверс был опытным царедворцем. Начинал он карьеру форейтором и кофишенком цесаревны Елизаветы – то есть находясь в разряде слуг, – а когда она заняла императорский трон, стал гофмаршалом, генерал-лейтенантом, бароном, графом. Не утомляясь рассуждениями о будущем национального русского театра, – Сиверс не мог бы понять, что это такое, если б ему и объяснили, – он полагал, что спектакли должны быть придворным развлечением, и других целей театрального искусства не видел.
Сумароков насмехался над Сиверсом устно, печатал насмешливые статьи о нем в своем журнале «Трудолюбивая пчела», и его сатирические нападки приходились по вкусу Никите Ивановичу и всем комнатным великого князя, дружившим с поэтом.
Называл он Сиверса подьячим, – мелким канцелярским служителем – и писал о нем так:
«Озлобленный мною род подьяческий, которым вся Россия озлоблена, изверг на меня самого безграмотного из себя подьячего и самого скаредного крючкотворца. Претворился скаред сей в клопа, ввернулся под одежду Мельпомены и грызет прекрасное тело ее, и хоть грызение такой малой твари ей и сносно, но дух, который сие животное испускает, несносен ей. Страдает богиня, а клоп забавляется…»
Подьячий, невежда и крючкотвор, как его аттестовал Сумароков, граф Сиверс все же сумел занять досуги придворных тремя спектаклями в неделю. Смотрителей собиралось много, зала была наполнена, и ложа великого князя также никогда не пустовала.
Для зрителей Сиверс придумал афишки с пересказом пьес, что помогало понять их содержание: по-настоящему сильны во французском языке были не многие, большинство придворных располагало сотней слов, необходимых для салонной болтовни и суждений о предметах моды.
Афишки составляли и переписывали от руки пажи – молодые люди, кадеты Пажеского корпуса, прислуживавшие во дворце, в стенах которого они как бы проходили непрерывную практику.
В Пажеском корпусе учили плохо. Все науки – фортификацию, историю, географию, фехтование, языки – преподавал француз Морамберт. По штату полагался еще один учитель, но должность его оставалась вакантной.
Классами пажей не обременяли. Должность их была – служить при дворе, то есть быть на посылках у государыни и у Григория Орлова, во время обедов и ужинов принимать кушанья от официантов и носить к царскому столу или передавать кавалергардам, – императрица должна была брать еду из благородных, а не из лакейских рук.
Пажи служили за обеденным столом государыни, вмещавшем в обычные дни не более двенадцати персон, а по воскресеньям, с приглашенными, – вдвое больше. Наградой пажам были конфеты, варенье и другие сласти, которые они делили между собой после обеда, и далеко не всегда по-мирному. Возникавшие драки были быстры и бесшумны. Крикунов гофмаршал наказывал розгами.
Пажей набрали из дворянских детей числом сорок человек, да, кроме того, шести юношам – графу Девьеру, князю Хованскому, Саблукову и еще троим – пожаловали звание камер-пажей, чтобы командовали остальными.
Кадеты Сухопутного шляхетного корпуса презирали пажей, и Порошин, не так давно вышедший из корпусной среды, разделял их оценки. Пажей не учили ружейным приемам и строю, отчего кадеты считали их штатскими неженками, а прозвище «блюдолизы», вероятно, закрепилось за ними не совсем незаслуженно: кормили пажей скверно, и почиталось удачей схватить на придворном обеде кусок мяса, если и не с блюда, то с тарелки.
В один из ноябрьских вечеров, придя в театр, Порошин получил для великого князя программу представления. Ее вручил паж, юноша лет пятнадцати. На нем был светло-зеленый мундир с петлицами, обшитыми золотой нитью, зеленые штаны и красный камзол. Красные каблуки его туфель обозначали дворянское достоинство.
Великий князь прошел в ложу, Порошин остался у занавеса, прикрывавшего вход в нее, привлеченный необычайно умным взглядом черных глаз и красотой кадета-пажа.
– Я что-то не встречал вас во дворце, – сказал он, – но многие ваши товарищи мне знакомы.
– Правда, я не люблю дежурства, – ответил паж, – и стараюсь от них уклоняться, но все-таки хожу сюда, пусть и не часто, и вас, например, знаю, господин полковник Порошин!
– Назовите же и себя!
– Александр Радищев. Я из Москвы, в пажи там принят и вместе с двором после коронации прибыл в Петербург. Сегодня я в наряде, вот и программу писал.
Порошин посмотрел программу, которую держал в руке. Она была переписана четким, изящным почерком, и после текста следовала пометка о том, что составляли ее Челищев и Радищев, пажи двора ее императорского величества.
Пьеска Пуассона «Прокурор-арбитр» – Порошин уже видел ее раньше – была пустяковой, но, вместившая более десятка действующих лиц, говоривших бойкими стихами, она вызывала аплодисменты зрителей. Сюжет ее давал возможность появиться влюбленной паре, двум сердитым отцам и двум гасконцам, чьи манеры и особенности речи с нажимом передавались актерами. Эти люди приходят на прием к Аристу, желающему занять место прокурора и влюбленному в его вдову, он мирит просителей, устраивает чужое счастье. Узнав об этом, вдова забывает свое неприязненное отношение к нему, и Арист получает ее руку и сердце вместе с должностью прокурора.