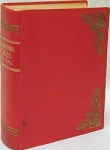Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
– Знаю, знаю, – сказал Павел. – Прости, братец, не сердись. Я только ведь пошутил. Расскажи мне что-нибудь про Ломоносова, – прибавил он, желая загладить свои несправедливые слова.
– Рассказывать вашему высочеству о Ломоносове не знаю что, – ответил Порошин. – Жизнь тех, кто посвятил себя науке или поэзии, – а Ломоносов той и другой вместе, – проходит в ежедневных трудах на этих поприщах. И для того повесть о таких трудах была бы лучшим ответом на вашу просьбу, государь. Однако обо всем говорить долго и утомительно, начать же удобнее со стихов. И у меня есть новенькие. Извольте послушать, я принесу.
Порошин прошел в дежурную комнату и возвратился с тетрадью.
– Сюда внес я стихи господина Ломоносова, недавно им написанные, под названием «Разговор с Анакреоном». Греческий поэт и российский будто бы разговаривают между собою, как им полагается, стихами, – пояснил он. – Анакреон говорит, что хотел было воспевать героев, да гусли отказываются звенеть военные песни и велят петь любовь.
Ломоносов ему отвечает:
Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам…
– Как бегать по струнам? – спросил Павел.
– Значит, перебирать струны лиры. Слушайте дальше, ваше высочество, – сказал Порошин.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле
Любовны мысли, ум,
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.
– Все? – спросил Павел. – Он, что ли, против любви?
– Нет, ваше высочество, поэт говорит, что вовсе не лишен сердечной нежности, он знает любовь, но будет воспевать героев, верных сынов отечества. Они восхищают его больше любезных красавиц. Дальше Анакреон выражает желание гулять с приятелями, веселиться и просит живописца написать портрет его возлюбленной. Ломоносов в ответном стихотворении тоже обращается к художнику, но просит написать не девушку-красотку, а его возлюбленную мать – Россию. Вот его слова:
О мастер в живопистве первой,
Ты первый в нашей стороне
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне,
Изобрази ей возраст зрелый
И вид в довольствии веселый,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу.
– А потом он, – продолжал Порошин, – описывает, какой сильной и величественной она выглядит:
Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец;
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно,
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать.
– Почитай еще! – попросил мальчик.
– Пожалуйте в учительную комнату, – ответил Порошин, закрывая тетрадь. – Там Тимофей Иванович кашляет и нам знак подает кончить беседу с музами.
3
К обеду собрались обычные сотрапезники Никиты Ивановича и великого князя – Петр Иванович Панин, Иван Григорьевич Чернышев, Александр Сергеевич Строганов, голштинский министр Сальдерн, дежурный офицер гвардии (в этот день это был граф Брюс, советники Иностранной коллегии, работавшие с Паниным, переводчик оттуда же, офицеры свиты великого князя. Кроме них пришел Александр Петрович Сумароков, старинный приятель Никиты Ивановича, по чину – от армии бригадир, бывший директор российского театра, а что самое главное, и отнюдь не бывшее, а всегдашнее, – поэт, драматург, журналист. Человек прямой и острый, с беспокойным и трудным характером, он выше всего на свете ставил звание писателя и неутомимо старался просвещать своих единоземцев стихами и пьесами, исправлять их нравы сатирой. Он считал себя первым поэтом России, но завидовал славе Ломоносова. Жил в то время еще один стихотворец и ученый – Тредиаковский Василий Кириллович, – но Сумароков его презирал и отзывался так:
– Всех читателей слуху противен он. Подобного плохого писателя никогда ни в каком народе от начала мира не бывало, а он еще и профессор красноречия! Все его и стихотворные сочинения, и прозаические и переводы, таковы, что нет моего терпения на них смотреть…
Сумароков был неправ в своем отзыве, но ведь все поэты самолюбивы.
Когда Павел появился на пороге столовой, гости встали, и он обошел их, каждому протягивая руку для поцелуя. Едва дождавшись конца этой церемонии, Сумароков вернулся к прерванной беседе:
– Ах, если бы его со мною не ссорили и следовал бы он моим советам!
Павел догадался, что Александр Петрович говорит о Ломоносове, как уже не раз делывал это.
– Правда, не был бы он и тогда столько расторопен, сколько от искусного стопослагателя требуется, но был бы гораздо исправнее. А способности к поэзии, – хотя только в оде выраженной, – имеет он весьма много. Вся слава Ломоносова как поэта в одних его одах состоит, а прочие его стихотворные сочинения и посредственного в нем поэта не показывают.
– Как? – в изумлении переспросил Порошин. – Не показывают в нем поэта «Разговор с Анакреоном» или письмо о пользе стекла? Быть того не может, Александр Петрович!
– Что ж, возьмите это письмо к господину Шувалову о стекле, – горячо воскликнул Сумароков, – и посмотрите на стих! Везде Ломоносов путает стопы! Надобно ямб и амфибрахий – он ставит дактиль и хорей, надобно ямб – он снова хорей и дактиль. Или вот изображение: «И чиста совесть рвет притворств гнилых завесу». Допустим, что стопы здесь исправны, зато ведь нет ни складу, ни ладу: стрв, тпри, рствгни… Как же выговорить это? Сыщется ли человек, который сей гнусный стих по содержанию и по составу похвалит?! И пускай кто-нибудь поищет в моих сочинениях такого стиха! Не найдет!
Сумароков перевел дух и, часто мигая, обвел глазами собеседников. Все молчали.
– Вы были в Академии художеств, ваше высочество, и видели инспектора Кювильи? – обратился Сумароков к великому князю. – Так знайте, что это такая бестия и такой невежа, какой другой нет в России.
– Иван Иванович Бецкий господином Кювильи очень доволен, – сказал Панин, – и уверяет, что он полезен ему бывает в воспитательных учреждениях.
– Да ведь учреждения-то эти каковы! – воскликнул Сумароков. – Ваше превосходительство, как человек разумный, о них по наружности судить не будете, а во внутренности своей никуда они не годятся. Сказать правду, Кювильи надобно метлами отсюда вон выгнать, а Бецкого под присмотром какого-нибудь основательного и дельного человека определить в училище на место Кювильи, смотреть, чтобы мальчики хорошо были одеты и комнаты у них вычищены.
Панин улыбнулся.
– Есть в Академии наук некий Тауберт, – торопясь, рассказывал Сумароков. – Он смеется Бецкому, что тот ребят воспитывает на французском языке. Бецкий смеется Тауберту, что он в училище, кое недавно при Академии заведено, воспитывает на языке немецком. А мне кажется, Бецкий и Тауберт – оба дураки. Должно детей в России воспитывать на языке российском.
– Русские дети обязаны учить иностранные языки, – наставительно сказал Сальдерн. – Взрослым ничего не запомнить. Адмирал Мордвинов, например, долго жил во Франции, а на французском ничего не разумеет.
– Очень странно выговаривает он, – заметил великий князь.
Иван Григорьевич Чернышев, не вслушавшись, придал разговору другой поворот.
– Семен Иванович Мордвинов капитан весьма искусный, – сказал он, – можно считать, почти совершенный, но адмиралом быть не его дело. Имея флот в руках, не может сообразить, кого куда направить, что кому приказать.
– Во Франции учился он вместе с графом Петром Семеновичем Салтыковым, ныне фельдмаршалом, – припомнил младший Панин.
Павел потянул за рукав Ивана Григорьевича и спросил шепотом:
– Который же из них лучше?
Чернышев засмеялся и пересказал этот вопрос Никите Ивановичу. Тот ответил вслух:
– Морской из них едва ли не лучше. Он хоть что– то выучил, а сухопутный совсем ничего не знает.
– Знания одного мало, – сказал Чернышев. – Вот адмирал Алексей Иванович Нагаев. Он теорию мореплавания очень сильно знает и весьма учен, а моря боится и плавать не может.
Выходило, что в русском флоте нет ни одного достойного командовать эскадрой флагмана… Порошину было неудобно критиковать мнения старших начальников, но совсем промолчать он не смог и сказал:
– Российское государство имело многих отличных адмиралов. Были у нас Головин, Сенявин…
– Это, батюшка, – прервал его речь Петр Иванович, – при покойном императоре Петре такие адмиралы служивали. А вы теперь их поищите – нету, вывелись. Флот у нас не в должном порядке, и заботы о нем не видно, а доложить о том государыне, открыть ей правду, никто из моряков не решается. Это у них не принято.
– Теперь, может быть, не принято, – сказал Чернышев, – а были ведь в России люди, которые монарху правду в глаза говаривали!
– Были, верно, – подхватил Петр Иванович, – Только надобно добавить, что монарха того звали Петр Великий, а подданного, ему не льстившего, Яков Федорович Долгоруков.
– Расскажите про него, – попросил великий князь.
– Извольте, ваше высочество, – сказал Панин. – Сообщить о нем представление может такой анекдот. В одно время, когда государь был гневен, князь Яков Федорович прибыл к нему по какому-то делу. Монарх свое мнение выразил, Долгоруков с ним не согласился, дерзко спорил и гневного государя так раздражил, что его величество выхватил из ножен свой кортик и устремился на Долгорукова. Князь Яков Федорович не устрашился. Он ухватил монарха за руку и сказал: «Постой, государь! Честь твоя мне дороже моей жизни. Что скажут люди, если ты умертвишь верного подданного только за то, что он тебе противоречил по делу, которое иначе понимал, чем ты? Если тебе надобна моя голова, вели ее снять палачу на площади – и останешься без порицания. А с тобой меня рассудят на том свете». Государь остыл и стал просить прощения у князя в своем поступке.
– Послушайте и меня, ваше высочество, – сказал Иван Григорьевич. – В конце шведской войны государь прислал в Сенат указ доставить из низовых по Волге мест большое количество хлеба для флотских команд. Когда прочли указ, князь Долгоруков покачал головой и сказал, что указ подписал государь не подумав и выполнить его невозможно – не успеют перевезти и выйдет хлеб ценою вдвое дороже. Тотчас о том донесли государю, и он прибыл в Сенат. «Почему не исполнен указ мой? – спрашивает князя Долгорукова. – От тебя всегда слышу противоречия. С чем теперь флот выйдет в море?» – «Не гневайся, государь, – говорит Долгоруков. – Твой указ хлеба к сроку привезти не поможет. А лучше сделаем так. У меня в Петербурге больше хлеба, чем нужно на употребление дому моему, у Меншикова и еще больше, у каждого генерала, сенатора и начальника лежит хлеб, и я уверен, что ежели мы этот хлеб соберем, хватит его на все флотские нужды. А между тем в свое время и без передачи в цене придет хлеб с низовых мест, ты рассчитаешься с нами, и все будут без убытку». Монарх поцеловал его в голову и сказал: «Спасибо, дядя! Ты, право, умнее меня, и не напрасно тебя называют умником». – «Нет, – сказал Долгоруков, – не умнее, но у меня меньше дел, и потому есть время обдумать каждое, у тебя же их без числа, и не дивно, что иной раз чего-то и не додумаешь». Государь взял свой указ и при всех разодрал. Так он любил правду и так не стыдился признаваться в ошибке.
– Но зато и не терпел, когда его обманывали, – сказал Строганов. – Сибирский губернатор князь Матвей Гагарин был замечен в противных закону поступках, и государь приказал одному из любимых своих и заслуженных полковников ехать в Сибирь, о Гагарине разузнать и, если найдет его виновным, кабинет запечатать и все бумаги привезти в Петербург. Об этой комиссии узнала государыня Екатерина, покровительница Гагарина. Призвав полковника, просила, чтобы он обелил Гагарина перед государем, и тот обещал. Прибывши в Тобольск, полковник ничего исследовать не стал. Гагарин его встретил, обласкал и отправил назад в Петербург не без подарков. Тем временем государь за полковником вслед послал одного из своих денщиков, и тот в Сибири узнал, что Гагарин виновен во многих преступлениях по должности, а полковник его покрывает. Государю о такой неверности доложили, и он спрашивает полковника: кому тот присягал – царю или его жене? Говорит, что сам давал присягу нерушимо сохранять правосудие, а потому полковник должен быть казнен как укрыватель злодейства и преступник перед верховной властью. Полковник падает на колени, обнажает грудь свою, указывает на раны, полученные в боях за отечество, молит о прощении. «Сколь я почитаю, раны, – говорит государь, – я тебе докажу, – он преклоняет колено и целует их, – однако при всем том ты должен умереть. Правосудие требует от меня сей жертвы…» Вся милость, ему оказанная, была та, что казнь его задержали до разбора дела князя Гагарина и до казни его, чтобы полковник имел время принести покаяние о грехах своих и приготовить себя к смерти.
– При покойном государе Петре Алексеевиче, – сказал Панин, – был у нас порядок, и немалый. А потом – все под гору пошло. Возьмем царствование покойной императрицы. Тогда законы никакой цены не имели, а все решали фавориты и случайные люди. Как они скажут, так генерал-прокурор и сделает. Расположение же фаворита можно было купить лестью, либо деньгами, либо еще чем-нибудь. Временщики и куртизаны – вот главный источник зла в государстве.
– Справедливо говорите, Никита Иванович, – заметил Сумароков, – но благодаря чему они такую власть получают?
– Беда в том, что у нас нет основательного закона, кому принимать монаршую власть, – ответил Панин. – Государь Петр Алексеевич скончался, не учредив такового закона, и самовольное желание вельмож, а сказать яснее – князя Меншикова, на престол возвело бывшую пленницу, из черного народа произошедшую, жену царя, Екатерину. Петр Второй имел законные права на престол, но дни его были коротки, а потом опять господа из Верховного тайного совета и прочие знатные люди на российский престол старались посадить ту, которая им надобна бывала. А при ней состоявшие любимцы начинали распоряжаться в государстве, будто в своих вотчинах, им за любовные услуги подаренных. Стыд вспоминать.
– Может быть, и видеть? – тихо спросил Сумароков.
Панин не обратил внимания на его реплику.
– Видно, мы женский пол мужскому предпочитаем, – заметил Строганов, – и хотим на троне видеть цариц, а не царей. И забываем пословицу: у бабы волос долог, да ум короток.
Собеседники засмеялись.
Строганов был женат на Анне Михайловне Воронцовой, дочери канцлера, крестнице императрицы Елизаветы. Умная, образованная, очень красивая, фрейлина служила истинным украшением двора. Строганов женился на ней по любви, но брак вышел неудачным. Возможно, виною были причины политические: муж был сторонником Екатерины Алексеевны, а жена – Петра Федоровича, ее двоюродная сестра, Лизавета Воронцова, была фавориткой этого государя. Пожалуй, все же рознь между супругами началась из-за легкомысленного поведения Анны Михайловны, совсем не считавшей необходимым соблюдать верность человеку, с которым связал ее Церковный обряд…
Александр Сергеевич хлопотал о разводе и за столом великого князя, когда хвалили ум и красоту его жены, обычно говаривал, что приятностей у нее действительно много, однако раздаются они другим, а ему ничего не доставалось.
– Покойный государь Петр Федорович, – сказал Панин, – все прусское предпочитал нашему, российскому, и больше всех орденов ценил орден Черного орла, что пожаловал ему прусский король Фридрих. На этом ордене такой написан девиз: «Suum cuique» – каждому свое. Что ж, он и получил потом, как заслужено было.
– Каждому свое, – подхватил Сумароков. – Об этом у меня и притча есть!
Не дожидаясь приглашения хозяина, Сумароков принялся читать свою притчу «Отстреленная нога»:
Послушайте, о чем моя рассказка.
Читали ль подпись вы у «Черного орла»?
Рассказ мой к этому прибаска…
В притче говорилось, что на войне ядром отшибло ноги солдату и полководцу. Солдат кричит от боли и проклинает войну, а ему велят прекратить жалобы, потому что горе его – пустяк по сравнению с потерей ноги его начальником:
«– Пускай твоя нога пропала,
Получше здесь твоей нога отпала:
А ты солдат простой».
Солдат ответствует: «Фельдмаршала я ниже;
Но ах! моя нога была ко мне поближе…»
– Славно замечено! – сказал Панин. – Каждому свое, и своя рубашка ближе к телу. Однако, если подумать, «каждому свое» значит не только «получай, ежели достоин», но и «взявши – держи», «мой достаток – не твоя корысть» и прочее в таком роде. Не таковы девизы российских орденов. На звезде ордена Андрея Первозванного стоит: «За веру и верность». На звезде ордена Александра Невского написано: «За труды и отечество». Отечество, верность, труды – вот идеи каковы. Не в собственности дело, а в трудах на пользу отечества.
– Собственность вернее, – серьезно сказал Сальдерн. – Много ли вам, ваше превосходительство, неусыпные труды об отечестве принесли? Каждому свое, пускай так, но всем ведомо, что и своего вы не получаете, хотя достойны самых высоких наград и почестей.
Сальдерн, – эту дворянскую фамилию он присвоил незаконно, его звали Салерном, – не так еще давно служил в Голштинии земским писарем, был уличен во взятках и подделке бумаг, убежал от суда в Петербург, разжалобил Петра Федоровича рассказом о мнимых своих бедствиях и остался при малом дворе. Наследник поручил ему в заведование голштинскую канцелярию – любимое свое учреждение.
Когда во главе Иностранной коллегии встал Никита Иванович, он обратил внимание на Сальдерна и приблизил его к своей особе. Ловкий интриган умел польстить Панину, называл его отцом и громко расхваливал план «Северного аккорда» – международного политического союза, над созданием которого трудился Панин.
Сальдерн был высокомерным, по натуре грубым и лживым человеком, что не мешало Никите Ивановичу продвигать его по службе. Вероятно, он видел коварство Сальдерна, но поддавался лести голштинца, изучившего его слабости, больные места, любимые идеи.
Вот и сейчас он сразу откликнулся на соболезнование Сальдерна:
– Какая собственность?! Я только что перебиваюсь с хлеба на квас. Судите сами. Крестьян у меня шестисот душ не наберется, в деревнях я своих не бываю, оттуда прибытков ждать нечего. Вместе с жалованьем в год и семи тысячей не выходит.
– У меня сорок тысяч рублей дохода, – сказал Александр Сергеевич Строганов, – и то мне жить не на что. Столица не по карману, впору отъезжать в уральские вотчины.
– Что ж обо мне-то говорить? – сокрушенно сказал Никита Иванович. – По всей Европе нет министра, который такое малое жалованье, как я, получал бы.
И, наклонясь к сидевшему рядом великому князю, прибавил:
– Да ежели бы, сударь, я к тебе так бы не привязался, и здесь давно бы мог иметь шестнадцать тысячей дохода. При покойной государыне Елизавете Петровне тогдашний канцлер граф Михайло Ларионович Воронцов и с ним Иван Иванович Шувалов предлагали мне чин вице-канцлера – и я отказался, желая быть при вашем высочестве. А чин сей достался князю Александру Михайловичу Голицыну, который и по сей день его носит…
4
Уйдя с Порошиным в учительную комнату, великий князь, возбужденный застольными разговорами, не мог заставить себя заниматься арифметикой. Выслушав объяснения Порошина о ломаных числах, он схватил суть, но рассуждать не пожелал.
– Если бы из наших имен и отчеств, – принялся дурачиться Павел, – сделать доли, то те, у которых имена совпадают с отчеством, были бы равны целым числам, – например, Иваны Ивановичи, Степаны Степановичи. А из Павла Петровича вышла бы дробь, доля, из Семена Андреевича тоже.
– Полно, ваше высочество, – остановил ученика Порошин. – Оставим шутки!
– И арифметику тоже! У меня болит голова, – сказал мальчик. Здоровье великого князя требовало постоянного внимания воспитателей. Павел знал это и обычно возможностью отлынивать от уроков не злоупотреблял. Однако сегодня ему совсем не хотелось слушать про ломаные числа, и Порошин должен был закончить урок.
– Пойдемте в опочивальню, ваше высочество, – предложил он.
– Не надо, это не сильно, может быть, и так пройдет, – сказал Павел. – Ты знаешь, голова у меня болит на четыре манера. Есть болезни круглая, плоская, простая и ломовая. Сегодня – простая.
– Такое деление навряд ли медицине известно, – засмеялся Порошин. – Надобно будет у лейб-медика Карла Федоровича справиться на случай.
– Карл Федорович знает, я ему говорил, да он от каждой боли один рецепт выписывает – слабительные порошки. Круглая болезнь – когда голова болит в затылке. Плоская – если болит лоб. Простая – просто побаливает голова. Хуже всех ломовая, – это значит, что вся голова болит. Понял? И довольно об этом. Сегодня не бездельные разговоры мы слушали за обедом, верно? А скажи, какой обед варили для царя Петра?
– Вкус у государя был самый простой, – сказал Порошин. – Обыкновенно с утра он приказывал для себя студень приготовить и к нему щи да кашу. За стол он садился в полдень.
– В этом и я легко мог бы блаженныя памяти государю последовать, – заметил великий князь, – и весьма радовался, если б дозволили. Желаю, – подумав, прибавил он, – чтобы мог последовать и во всем том, за что он Великим наименован.
– Это исполниться может, природа вашему высочеству даровала к тому способности. Надобно лишь учиться и слушаться добрых советов, – не упустил случая преподать наставление Порошин.
Павел, припрыгивая, побежал в столовую, и Порошин, сложив тетради и книги, последовал за ним.
Гости еще не разошлись, и в их кружке беседовал пришедший с той половины гофмаршал князь Николай Михайлович Голицын. Он передал приглашение государыни великому князю и его штату прийти на концерт.
Увидев Павла, Голицын церемонно взял его руку, наклонился к ней, стряхивая пудру со своего парика, и высказал удовольствие по поводу встречи с великим князем, как будто, идя на его половину, он ожидал найти там не того, к кому шел, а бабу-ягу или Кощея.
Он расспросил Павла о его играх и занятиях, выслушивая ответы с преувеличенным вниманием, и наконец осведомился, что учит великий князь из математики.
– Мы проходим дроби, – ответил мальчик.
– Отчего же дроби? Это неправильно, – сказал Голицын. – Сначала нужно тройное правило учить, а дроби после. Не так ли, Никита Иванович?
Панин собрался было что-то сказать, но Павел опередил его.
– Знать, что не нужно, – резко возразил он, – когда мне иным образом показывают. А тому человеку, кто меня учит, больше вашего сиятельства в этом случае известно, что раньше надобно показывать, что позже.
Порошин с чувством внутренней гордости выслушал ответ своего ученика. В самом деле, возможно ли тройное правило, основанное на геометрической пропорции, толковать прежде, нежели свойства и действия ломаных чисел? Натуральный порядок этого не позволяет!
«Есть русская пословица, – думал Порошин: – „Знай сверчок свой шесток“. Я никогда не вступлю в спор, сколько свечей нужно в какую комнату дворца или какое блюдо на парадном столе надо поставить с краю, какое в середину: это дело гофмаршала. Но что и когда объяснять ученику, это я знаю, и гофмаршальских советов здесь мне совсем не требуется».
Приглашение на концерт было, в сущности, приказанием явиться. Так его и поняли гости великого князя. У всех в памяти был недавний гнев императрицы, вызванный тем, что когда она отправилась в церковь, перед ней пошел только обер-камергер граф Петр Борисович Шереметев, а позади были две фрейлины. Камергеры и камер-юнкеры не явились на выход государыни, не составили ее свиту, и за это каждый из них получил нагоняй.
Концерт был удачный, музыку Моцарта нельзя не любить. Его пьесы отлично играл придворный оркестр, а дирижировал им славный в Европе музыкант Боронелло-Галуппи. Затем он сел за клавикорды, и оркестр исполнил его сочинение, посвященное императрице. Оно так понравилось ей, что последнюю часть повторяли три раза. Вообще же Екатерина музыку не любила и называла ее шумом.
За вечерним столом Павел вспоминал своих товарищей по маскараду и особенно визиря Колю Шереметева, которого вдруг неистово залюбил, как это с ним бывало. Он твердил, что этот мальчик умен, очень хорошо воспитан, и просил поскорее привезти его во дворец.
Слушая эти горячие излияния, Порошин подумал о некоторых свойствах своего воспитанника, проявлявшихся бурно и вдруг. Иногда Павел прямо влюблялся в какого-то человека, выражал желание видеть его ежедневно, говорил о нем с каждым. Но вскоре охладевал, наступала очередь нового увлечения. И нельзя сказать, что он узнавал какие-нибудь неприятные черты в том, кем только что восхищался, – нет, он остывал к нему, и все тут.
«Наверное, – размышлял Порошин, – душевная прилипчивость великого князя должна утверждаться и сохраняться истинными любви достойными свойствами того человека, который имел счастье ему полюбиться… Но для этого нужно, чтобы такой человек о расположении великого князя к себе знал, да и сам бы имел отличные качества. Словом, легче внезапно понравиться его высочеству, нежели обрести дружбу, даже и не весьма близкую».
И он с удовольствием подумал, что вот уже в продолжение двух с половиною лет он сохраняет доверенность Павла и чувствует его любовь.
С такими мыслями Порошин отправился на свою квартиру, в дом купца Краснощекова, стоявший неподалеку от дворца, на Миллионной улице, а тем временем произошло событие, которое, можно сказать, определило его дальнейшую судьбу.
Великий князь, против обыкновения, медлил с отходом ко сну, бродил по столовой, поглядывая на Панина, и эти взгляды наконец были замечены гофмейстером.
– Что-нибудь случилось неприятное, ваше высочество? – спросил он. – Нет, у меня ничего не случилось, – ответил мальчик.
– А у кого же?
– Ни у кого. Только вы дайте слово, что никому не скажете, Никита Иванович, хорошо? – Если то, что узнаю, ничем не грозит императорской фамилии, престолу и отечеству, – не скажу.
– Ничем не грозит, – поспешно сказал Павел.
– Тогда говорите, ваше высочество.
– Семен Андреевич все про нас пишет.
– Полковник Порошин?
– Он каждый день записывает, что я делал, кто у нас был и о чем разговаривали.
– Это поручила ему государыня императрица?
– Нет.
– Может быть, граф Григорий Григорьевич Орлов? – Орловых Панин опасался более всего, ибо соперничал с ними в расположении императрицы.
– Нет, нет, он пишет сам по себе.
Панин задумался.
– Зачем же он это делает, как полагаете, ваше высочество?
– Я не полагаю, а он сам сказал мне, зачем: чтобы я видел в дневнике свои дурные поступки и отучался от них, чтобы лучшие стороны моего характера развивал бы и тем готовился к восприятию моей государской должности.
– Гм, – сказал Никита Иванович, – идея вроде бы справедливая, но между записей не вмещено ли осуждение чьих-либо речей и поступков?
– Семен Андреевич на каждый предмет имеет свои замечания. Он сегодня читал мне из тетради за прошлую неделю, однако просил, чтобы я все им сказанное хранил в тайне, и я вас о том же прошу.
– Если дурного умысла нет, зачем секретничать? – спросил Панин. – Ваше высочество уверены, следственно, что и сегодняшний день будет записан и что все наши разговоры Семен Андреевич занотует?
– Всенепременно, – сказал мальчик. – Он все запоминает, а что было без него, у меня спрашивает, и очень быстро пишет, перо так и мелькает. Я видел.
– Не надо никому об этом рассказывать, ваше высочество, и пусть Семен Андреевич продолжает писать. Так, будем думать, составляются драгоценные страницы истории вашего благословенного царствования. Вы свой долг выполнили – мне, яко обер-гофмейстеру вашему, изволили доложить. Остальное теперь мое дело.
«Конечно, мое, – рассуждал Никита Иванович на пути в свои комнаты. – Мне, чаю, больше всех там достается, каждое слово небось выставлено, а я на язык смел. Попадет сей дневник ее величеству или, не дай бог, улетит за границу – Порошину головы не сносить, только и беды, а я всего на свете лишусь, братец Петр Иванович из-за меня пострадает… И зачем во дворце писатель?! Да полно, как-нибудь выкрутимся. Ты, Семен Андреевич, хитер, но и мы, благодаря бога, не глупее. Потягаемся!»