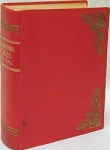Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
За Петра Борисовича в 1743 году вышла княжна Варвара Черкасская, чье приданое, кроме денег и драгоценностей, составляли восемьдесят тысяч крестьян. К Шереметеву перешли Останкино, Кусково и все подмосковные имения Черкасских.
Стало быть, Анна Петровна Шереметева была самой богатой невестой в России – стране, где среди вельмож удивить богатством было, кажется, нелегко: приближенных к трону сановников монархи награждали щедро.
В то время состояние дворян исчислялось в России количеством крепостных крестьян, принадлежавших владельцу и работавших на него. На бумаге они обозначались словом «души», и счет велся только мужикам, женщин покупали в придачу.
Кто имел двести – триста «душ», слыл помещиком средней руки. Тысяча «душ» – крупное хозяйство. Известны и громадные богачи. Братьям Орловым императрица Екатерина подарила тридцать тысяч крестьян. Семье князей Голицыных принадлежало сорок пять тысяч «душ».
У графа Петра Борисовича Шереметева было, как считали современники, сто сорок или даже сто шестьдесят тысяч крепостных крестьян, а годовой его доход превышал семьсот тысяч рублей.
И Порошин, влюбившийся в Анну Петровну, понимал, что значит различие состояний, повторяя про себя стихи старшего друга, Александра Петровича Сумарокова:
Тех браков много, где богатство кажет власть,
И мало, где она сочетавает страсть…
Он был уверен, что все дело в доходах Шереметевых, и если б не они, счастье с Анной Петровной было бы, наверное, возможно.
Но главного Порошин не знал.
Анна Петровна видела – женщины всегда это чувствуют и видят – робкую влюбленность Порошина и ничем ее не поддерживала. Она также читала стихи Сумарокова, но вспоминались ей такие строки:
Другим разженна я, противяся тебе;
Другой меня разжег, противяся себе…
Да, сердце Анны Петровны было не свободно, причем сама она об этом не очень догадывалась и знала только, что замуж не хочет. Равнодушие дочери к молодым людям смущало родителей, но ее строгий характер не позволял им расспрашивать или поучать взрослую и разумную девушку.
Про Анну Петровну никто не говорил, что она засиделась в девках, – понимали, что для такой богатой и знатной невесты нужен и жених если не какой-нибудь принц, так около того, – но с замужеством не спешила она. А вокруг не редкостью были невесты и новобрачные в четырнадцать и пятнадцать годов.
Однако Анна Петровна – не торопилась. И на вопрос о причинах такой неспешности вряд ли могла прямосердечно ответить, потому что не нашлась бы, что сказать.
А причина была, и составлял ее троюродный брат Анны Петровны – Андрей Николаевич Щербатов.
Кавалер этот был сыном Николая Петровича Щербатова и Анны Васильевны Шереметевой, двоюродной сестры графа Петра Борисовича Шереметева. Шестнадцати лет из родительского поместья Андрея привезли в Петербург, вскоре после коронации императрицы Елизаветы Петровны. Начал он службу сержантом Измайловского полка, а поселился у дядюшки, Петра Борисовича, где за ним смотрели как за сыном. Свои сыновья У Петра Борисовича появились много позже, а первая Анна, родилась в 1744 году.
Этого ребенка Андрей полюбил с первого дня. Он играл с девочкой, возвращаясь из полка, смешил, когда она плакала, баюкал ее, пел песни, а как стала постарше, рассказывал сказки. Чины давали ему, по фамилии, без задержки, стал он обер-офицером, получил майорское звание – и по-прежнему все жил в доме Петра Борисовича, играя с Анютой или читая с ней книги. Любил он ее сильно – как дочь, как сестру, как друга. Но кто знает, не возникло ли в его душе и более сильное чувство?
Родители не боялись этой дружбы. Восемнадцати лет достигало различие в возрасте, к тому же родство было слишком близким: такой брак по законам православной церкви невозможен. Конечно, за деньги попу запрет нехитро и нарушить, но если бы на то пошло, деньги Петра Борисовича непременно взяли бы верх над кошельком Андрея Щербатова и такой тайный брак церковь не признала б действительным.
Что же оставалось в шереметевском доме? Сердечное влечение да осторожность старшего друга, от всей души желавшего счастья Анне.
Но с кем же?
Андрей Николаевич знал о Порошине, а Порошин о нем – нет. Однако что искания его стараются не замечать, видел. И, провожая великого князя с новогоднего бала в его покои, воспитатель говорил себе стихами Сумарокова:
Я чувствую в себе болезнь неутолиму:
Несносно, коль любить – и ах! не быть любиму…
4
С бала вернулись рано, великий князь был весел.
– Почитай мне, братец, напомни, чем мы с тобой в последние дни отличились, – попросил он Порошина. – Никита Иванович говорит, что в таких тетрадях не обо всем, что у нас происходит, писать надобно.
– Обо всем и не пишем, – уверенно ответил Порошин. Смысл сказанного не вдруг дошел до него, он лишь через секунду спохватился: – А откуда его превосходительство осведомлен о моих записках?
Павел сообразил, что проговорился. Во-первых, было нарушено слово молчать о дневнике, которое он дал Порошину. А во-вторых, Никита Иванович тоже велел ему не сказывать, что теперь он знает о ежедневных записях воспитателя.
Выходит, виноват дважды…
Лгать он не умел.
Да и зачем лгать? Разве он не государь, великий князь всея России?
– Я нашел так нужным – и сказал, – надменно вздернув подбородок, ответил Павел.
– Пусть на то была воля вашего императорского высочества, однако и волю держать царское слово не надобно забывать, – возразил Порошин. Он предполагал сам рассказать Никите Ивановичу о дневнике и огорчился тем, что обер-гофмейстер, выслушав сообщение великого князя, может составить себе неверное представление о его записях.
Но дело сделано, воротить нельзя.
Будь что будет…
– Что ж, извольте слушать свою повесть, ваше высочество, – сказал Порошин и взял со стола тетрадь.
Он перевернул несколько страниц, пробежав их глазами, и прочитал записи последних дней:
– «Государь великий князь изволил встать в осьмом часу. Одевшись, сел было учиться, но вдруг занемог, сделалась дрожь и позевота. Его превосходительство Никита Иванович, пришед в это время с половины ее величества, приказал великого князя раздеть, и он лег в опочивальне на канапе. Его преподобие отец Платон при том был, и тут происходили у нас некоторые рассуждения».
– Верно, – сказал Павел, – все так позавчера и было. Я не учился, и мы проговорили до обеда.
– «Кушать великий князь изволил один в опочивальне за маленьким столиком. После обеда зашла у нас речь о крестьянском житье, и я его высочеству рассказывал, как живут наши крестьяне, как они между собой в невинности увеселяются и какие между ними есть разные обряды. Его высочество прилежно просить меня изволил, чтоб я оное рассказал ему подробно».
Читая следующую фразу, Порошин поглядывал на мальчика —
«Таковое желание удовольствовать не нашел я ни малой противности; напротив того, почел сие за нужное, чтобы его высочеству сведомо было, как люди в разных званиях жизнь проводят и чем обязаны отечеству».
– И за это спасибо, братец, – небрежным тоном бросил великий князь. – Читай дальше.
– «Ввечеру была сегодня, – продолжал Порошин, – на придворном театре русская комедия „Лекарь поневоле“, балет ученический, маленькая пьеса „Завороженный пояс“. В сие время изволил его высочество смотреть со мною эстампы в энциклопедическом лексиконе. Там, между прочим, дошло до конских уборов. Я его высочеству рассказывал, как все части у хомута по-русски называются, и государь изволил после сам все то переговаривать».
– И сейчас про хомут все помню, – перебил чтение Павел. – Надевается через голову лошади ей на плечи, и к нему крепятся постромки или оглобли. Главная часть – хомутина с деревянными клещами, внутри обшита войлоком, чтоб не набивала шею лошади. Хомутина связана ремнем, это супонь…
– Завидная у вас память, ваше высочество, – похвалил Порошин. – Все в точности запомнить изволили! Однако дочитаем ваш день. «Упомянул я и о пословице старинной: коль взялся за гуж, так не говори, что не дюж, и объяснял, что оная пословица значит».
– И это помню! – воскликнул Павел.
– Ну и хорошо, – сказал Порошин. – И тут настал конец этому дню: «В девять часов изволил государь лечь опочивать».
– А что было завтра?
– На следующий день болезнь у вас прошла, занятия велись, как обыкновенно. Дальше у меня записано так: «После учения сели за стол. Из посторонних был только граф Александр Сергеевич Строганов. За столом по большей части разговаривали о театре и о комедиантах. Как говорили с восхищением, что в Париже самый лучший театр во Франции и что здешний театр и сравнить с тем нельзя, то его высочество весьма основательно сказать на то изволил:
– Это и натурально. Где ж во Франции лучшему театру быть, как не в Париже? У нас здесь, в Петербурге, есть русский театр, в Москве театр, в Ярославле театр, а здесь все лучший! А что французский здешний хуже парижского, и тому, кажется, дивиться нечего: если б король французский захотел иметь у себя русский театр, конечно б, тот театр никогда не мог сравниться с петербургским русским театром.
Сие рассуждение его высочества весьма мне понравилось, и я после показывал ему свое о том удовольствие».
– А про собачек есть? – спросил Павел.
– Есть и о них: «Его высочество ввечеру собачками долго изволил забавляться».
– Мы их отдадим егерю в ученье, – сказал Павел, – я буду с ними охотиться.
– Вы уже изволили приказывать о егере, и за ним послано. Не угодно ли дослушать? «Его высочество сей вечер на меня несколько изволил коситься. После ужина, невзирая на сие, добрую я ему проповедь проговорил о нетерпеньи и обладании самим собою, когда государь стал часто на часы поглядывать, чтобы улечься поскорее. В сие время изволил только, повеся головушку, взад и вперед по комнате расхаживать, ничего не говоря. В девять часов с четвертью изволил лечь опочивать».
– Этого можно бы не писать. – Павел был недоволен услышанным. – Зачем ты стараешься меня порочить? Если другие прочтут, они обо мне худо подумают. Зачеркни!
Порошин, улыбаясь, покачал в знак несогласия головой и закрыл тетрадь.
Глава 9.Во дворце и дома
Стараться о добре, коль дозволяет мочь,
День в пользе провождать и без покоя ночь
И слышать о себе недоброхотны речи
Не легче, как стоять против кровавой сечи.
Кто оны победит, тот подлинно герой.
М. Ломоносов
1
Четвертого апреля умер Ломоносов.
Без малого два с половиной десятилетия трудился он в Петербургской академии наук как поэт и ученый на благо российского просвещения, в пользу отечественной промышленности, сельского хозяйства, мореплавания. Оды его содержали отклики на все важнейшие события царствования Елизаветы Петровны. Когда вступал напрестол Петр Федорович, Ломоносов воззвал к нему от имени науки и объяснил, чего она ждет от монарха и на что надеется. Его советы и предупреждения не помогли полупьяному голштинцу царю, через полгода жена свергла его с трона, а караульные офицеры задушили. Новая императрица Екатерина Алексеевна в длинных манифестах перечислила вред, принесенный России бывшим государем, и пригласила подданных выразить радость по поводу того, что она избавила страну от опасного недоумка.
Ломоносов напечатал оду, посвященную Екатерине, – и не угодил. Императрица не хотела, чтоб ее учили, чтобы говорили о немецком засилье при дворе, в армии, гражданской администрации, требовали от нее соблюдения законов и при этом восклицали:
О коль велико, как прославят
Монарха верные раби!
О коль опасно, как оставят
От тесноты своей в скорби!
Она подписала указ об отставке Ломоносова, которую назвала «вечной», но привести его в исполнение не сумела. Ломоносов был прав тысячу раз, когда говаривал, что этого сделать невозможно: «Разве Академию от меня отставите?» – прибавлял он.
Ломоносов остался работать в Академии, но тяжко болел и почти не писал стихов. Екатерина была достаточно умна, чтобы не продолжать ссору. Ломоносов получил звание статского советника и прибавку к жалованью, за что благодарил государыню в оде на новый, 1764 год. Однако больше ничего Екатерине приятного не сказал.
А теперь он умер.
Порошин услышал эту печальную весть вечером того же дня в доме Краснощекова, она тотчас облетела трудовой и торговый Петербург. И оказалось, что говорившиезнают о Ломоносове довольно много, причем полны сочувствия к нему и сожалеют о ранней смерти.
На следующее утро Порошин принес траурное известие во дворец. Там о кончине Ломоносова еще не слыхивали да, кажется, и узнав о том, не придали значения горестной утрате. Тимофей Иванович Остервальд, которому Порошин сказал о Ломоносове, не вымолвил ни слова, только посмотрел на говорившего и отошел от него.
Великий князь отнесся к сообщению с участием, пожалел покойного и спросил, велика ли у него семья.
Порошин рассказал о жене и дочери Ломоносова, о большом горе, охватившем всех сотрудников ученого.
– Еще узнал я, – сказал он далее, – что на столе рабочем Ломоносова осталась собственноручная записка и там есть слова такие: «За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти; пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». А все бумаги Ломоносова граф Григорий Григорьевич Орлов собрал, велел в пачки связать, печатью запечатал и отвез к себе, чтоб сохраннее были.
– Наверное, государыня так распорядилась, – заметил Павел.
– Граф и сам уважал Ломоносова, не раз наблюдал его опыты и с ним беседовал. Он и стихи его любил, ничего, что Ломоносов стихотворец веку вашей бабки, государыни Елизаветы Петровны. Стихи поныне живут и долго жить останутся. Дай боже, чтобы в век вашего высочества такие же были бы стихотворцы.
– Может быть, Богданович таков будет, – сказал Павел по-видимому серьезно представив себе, как необходим будет его царствованию порядочный стихотворец.
– Сердечно того желаю, – ответил Порошин. – Однако этакие люди не растут, как грибы из-под земли.
Надобны для того хорошие учреждения, ободрения и покровительство. А голов годных много в России, хотя такие головы, какова Ломоносова, и реденьки несколько.
2
Ломоносова хоронили восьмого апреля, и Порошин был одним из нескольких тысяч участников траурной процессии.
День выдался теплый, солнечный. Шествие тянулось по Невской перспективе к Лавре два или три часа. В окрестных церквах звонили колокола.
Зимний дворец ничем не откликнулся на похороны и не пожелал их заметить. Государыня, надев мундир Конной гвардии, – мужское платье было ей к лицу, – вечером смотрела в театре французскую комедию. И никто из ее приближенных не провожал прах Ломоносова.
Однако их отсутствие прошло на улицах незамеченным. За гробом шли сенаторы, вельможи, профессора Академии наук, почетные члены Академии художеств, а духовенство возглавлял архиепископ Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил.
Это были первые в рядах людей, заполнивших Невскую перспективу. За ними двигались служащие Академии наук, работники и мастера, с которыми долгие годы вместе трудился Ломоносов, типографские наборщики, моряки, мастеровой народ с петербургских верфей, кадеты Сухопутного шляхетного и Пажеского корпусов и люди всякого звания, столичные жители, привлеченные именем Ломоносова и картиной процессии.
Порошин возвратился во дворец к обеду и занял свое место за столом рядом с великим князем. Мальчик знал, где был с утра его воспитатель, и, повязывая салфетку, спросил:
– Ну как, похоронили своего Ломоносова?
Тон вопроса был неприятным, дерзким. Порошин понял, что среди собравшихся, – это были братья Панины, братья Чернышевы, Сальдерн, Строганов и комнатные, то есть кавалеры и учителя, – был разговор о Ломоносове, и говорили о нем дурно. Павел был очень восприимчив к отрицательным оценкам и сразу делал их своими.
– Не один я хоронил, ваше высочество, – ответил Порошин, – но многие тысячи русских людей прах Ломоносова на кладбище провожали и о смерти сего ученого и доброго человека жалели.
– Что о дураке жалеть, – возразил великий князь.
– О делах Ломоносова его изобретения, открытия и диссертации повествуют, – сказал Порошин, – и о том вашему высочеству справиться не худо было б, прежде чем чужие недоброжелательные суждения повторять.
Мальчик обежал глазами стол, ища чьей-нибудь поддержки, но никто из гостей вмешаться не рискнул.
Порошин продолжал:
– Притом Ломоносов был поэт и советчик государей, которых наставлял он управлять населением разумно и мягко, как о том в оде сказано:
Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы.
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То бог благословит ваш дом…
И прочее. – Порошин замолчал и положил себе на тарелку жаркое с блюда, поднесенного официантом.
Великий князь понял серьезность обиды Порошина и уже раскаивался в своих словах.
Никита Иванович видел смущение великого князя и, чтобы отвлечь от него внимание, стал вспоминать о своей службе в Швеции – стране, порядки которой он считал образцовыми.
– Швеция – прямо разумное государство, – говорил он. – Там в королевской семье принцев и даже принцесс обучали разным наукам. Помнится, наследный принц Адольф-Фридрих на одиннадцатом году был экзаменован по математике, истории, географии. Часа три стоял, не сходя с места, а его спрашивали, и он отвечал на все вопросы. После экзамена сел он обедать. Гофмейстер видит, что принц утомился, и велел привести музыкантов повеселить его. А принц говорит: «Нет, не надо музыки, лучше почитайте мне „Генриаду“ Вольтера».
– Мы тоже «Генриаду» читаем, – сказал великий князь. – Третью песнь.
– Значит, ваше высочество сможете столь же серьезно к своим занятиям и экзаменам относиться, как и шведский принц, – ответил Панин. – Да не сочтено будет хвастовством и лестью, но и в самом деле ученье государя цесаревича идет у нас ровно.
– У меня великий князь хорошо учится, – сказал Порошин. – Жаль только, что полениться иногда любит.
Павел кивнул головой.
– У меня даже очень хорошо успевает великий князь и, если дальше не остынет, знаменитым историком будет, – сказал Остервальд.
– Из покойного государя Петра Второго гофмейстер его барон Остерман тоже готовил историка, – усмехнулся Никита Иванович, – да не сумел приохотить к занятиям, и Долгорукие танцами и охотой его увлекли. Я читал план обучения. Цель Остерман поставил нужную – вкратце главнейшие события прежних времен описать, особливо добродетели царей, и показать, отчего приращение и умаление государств происходит. За полгода он пройти намеревался историю ассирийскую, персидскую, греческую и римскую по учебнику Гибнера, да, кроме того, новую историю по книге Пуффендорфа. Но часа два-три только и позанимались они по этому плану, ибо слишком было много причин к отвращению государя от наук. О том все семейство Долгоруких старалось. Молодой князь Иван Алексеевич в приятели государю вошел и подлинно вел себя так, будто у него ни креста, ни совести не бывало. И то сказать – жену князя Трубецкого, генерал-майора…
Иван Григорьевич Чернышев задвигал своим стулом. Все повернулись к нему, а он посмотрел на Панина. Тот спохватился и продолжал воспоминания уже в другом ключе:
– Еще помню я, что, едучи домой из Швеции, остановился в городе Торнео…
– А каков собой этот город? – спросил Павел. – Красив ли?
– Нет, некрасив, – ответил Никита Иванович. – И дурно выстроен.
– Он лучше нашего Клину или хуже? – опять спросил Павел.
– Уж Клину-то нашего, конечно, лучше, – сказал Панин. – Нам, батюшка, нельзя еще о чем бы то ни было рассуждать в сравнении с собою. Можно говорить, что там, за границею, это дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы верно, всегда потеряем.
– Отчего ж не сравнивать, ваше превосходительство? – возразил Порошин. – Ныне вся Европа знает, что русская армия шведской, прусской и турецкой сильнее, а может быть, и всех этих трех, вместе взятых. Возьмем другой пример. Наш Санкт-Петербург иноземцы Северной Пальмирой величают. Он хорош сам по себе и в рассуждении хорошести своей с любым самым лучшим европейским городом сравним быть может.
Павел переводил глаза с одного своего воспитателя на другого. Возражение Порошина, обычно весьма сдержанного, удивило мальчика своей горячностью. На лбу его выступили две жилки, и они значили, как давно уже подметил Павел, что Порошин сердится.
– Или Тверь, – продолжал молодой воспитатель. – Как быстро и регулярно, по плану, выстраивается этот город!
– Так поэтому Тверь со временем может стать маленьким Петербургом? – спросил Павел. Он спешил на помощь своему кавалеру. – Как выстроится Тверь, она милее мне будет, чем все иностранные города. Я ведь русский великий князь, а не шведский или прусский.
– Напрасно от своих прав отказываетесь, ваше высочество, – сказал Никита Иванович. Он заметил волнение Порошина, но не понял его причины. – Ваш отец, покойный государь Петр Федорович, по рождению своему был наследником не только русского, но и шведского престолов. Лишь благая воля императрицы Елизаветы привела его в Россию. И если б не она, могли бы вы родиться шведским принцем. Тогда, конечно, хвалили бы вы город Торнео, а о том, что существует какой-то Клин, и не слыхивали бы, как не слыхивали вы о какой-нибудь Мальте или Корсике.
– О Мальте великий князь не только может, но и должен знать, – вмешался Иван Григорьевич. – Мальтийцы – очень храбрый народ, пусть их и не много на острове. Сказывают, что однажды восемь человек мальтийцев двести турок прогнали.
– Если бы не ваше сиятельство это говорили, я бы не поверил, – заметил Павел и подмигнул Порошину, давая знать, что его слова имеют особый смысл. И Порошин понял, что великий князь указал на правдивость Ивана Григорьевича в укор тем из своих приближенных, которые любили в беседах приврать или преувеличить чьи-либо недостатки и достоинства.
Он поддержал Чернышева:
– Остров Мальта стоит, почитай, в центре Средиземного моря. Кому куда путь ни лежит – Мальты не миновать. Владели ею разные народы. В древности – финикийцы, греки, карфагенцы, римляне, готы, византийцы, норманны. Наконец захватил ее король Сицилии – тому лет будет двести с лишним – и отдал во власть рыцарского ордена иоаннитов, или госпитальеров. Это был сильный орден. Знатные рыцари согласились защищать Средиземное море от африканских пиратов и турок, а братья из простого люда помогали бедным и больным. Турки пытались отнять у рыцарей остров и учинили осаду крепости Ла-Валетта. У них было сорок тысяч войска, а рыцарей всего семьсот, но при них еще семь тысяч солдат. Четыре месяца турки штурмовали крепость, однако взять ее не смогли – и уплыли в свою Турцию.
– Какие храбрецы! – воскликнул Павел. – Я хотел бы с ними воевать против турок… Расскажи еще про мальтийцев!
– Не время и не место для того, ваше высочество, – ответил Порошин, – а будет вам угодно, почитаю вам книгу из истории мальтийских кавалеров, сочинение господина Верто, откуда и сведений о тех рыцарях набрался.
– Непременно почитай! И я все про Мальту буду знать, Никита Иванович! – не без вызова сказал великий князь. Он уже забыл о своей ссоре с Порошиным, вступившимся за Ломоносова, и мысленно объединился с ним против Панина, чьи насмешки показались ему обидными.
3
День проведя на службе, Порошин вечером ушел к себе на квартиру, в доме купца Краснощекова. Надобно было перечитать страницы дневника, кое-где исправить их и дополнить. Но главное – хотелось побыть одному, перебрать в уме впечатления, может быть – записать их. Могучий отклик петербургского люда на кончину Ломоносова, – а размеры этого проявления народного горя никто накануне не мог бы себе представить, – также требовал размышлений, особенно в сравнении с тем равнодушием, с которым встретили горькую весть обитатели Зимнего дворца. И даже мальчик-цесаревич заговорил было языком врагов Ломоносова…
Дверь дома Краснощекова отворила Порошину младшая дочь хозяина, Настасья. Старшая, Мария, была замужем за придворным лакеем Мишляковским и немало гордилась такой близостью к императорскому двору. Настасья уже заневестилась, но женихов купеческого звания отвергала. Ее манили радости придворного быта, и зять обещал присмотреть хорошего человека из своих сослуживцев.
В ожидании доброго молодца с орлами на парадной ливрее Настасья для пробы влюбилась в Порошина, что сделать было не мудрено, он того стоил. Красивый, умный, добрый офицер, воспитатель его высочества, завладел воображением девушки. Порошин был с нею неизменно вежлив и выучил грамоте. Теперь Настасья переписывала в тетрадку любовные стихи и тратила много листовых румян и ржевских белил, наводя красоту на свое круглое личико, и без того вполне миловидное. Зубы она, по купеческой моде, чернила, и это обыкновение, на взгляд Порошина, делало ее улыбку менее привлекательной. Однако подруги засмеяли бы девицу с белыми зубами.
– Не прикажете ли обедать? – спросила она, встретив постояльца. – Благодарю, милая Настасья, – сказал Порошин, – обедать не хочу.
– Может, подать ужину? Я батюшке собрала.
– Не голоден, спасибо.
В сени вышел Краснощеков, утирая рот повязанной вокруг шеи салфеткой. Его седая борода была подстрижена, кафтан шит рукою мастера, сразу видно – столичный купец.
– Благодетель мой, Семен Андреевич! – заговорил он. – Который день вас, голубчик, не вижу. Все с их величествами небось беседуешь? Про нас, поди, и вовсе забыл? Зайди хоть на час! Поужинай!
– Спасибо, Алексей Иванович, – ответил Порошин.
– Зашел бы, Семен Андреевич, – опустив глаза, вкрадчиво сказала Настасья. – Я у вас что-то спросить хочу.
Порошин вслед за хозяином вошел в столовую – просторную комнату с божницею в красном углу. Обеденный стол был заставлен кушаньями, посреди них возвышались бутылка вина и сулея с водкой.
– Выпьем по рюмочке? – пригласил хозяин.
– Я не пью, вы знаете.
– Да чуть прикушай! Вино испанское, носят с таможни.
Порошин поднял рюмку, чокнулся с Краснощековым и пригубил. Вино в самом деле было отличное.
– Во дворце такого не подадут, – сказал негромко хозяин и оглянулся по сторонам. – Там оно через десять рук пройдет, прежде чем в рюмку нальют, много ль останется крепости и аромату, ежели каждый подавальщик свою долю возьмет?!
Настасья принесла Порошину сложенную бумагу.
– Прочтите, Семен Андреевич, – сказала она. – Верно ли тут написано?
Хозяин с хрустом жевал вилковую капусту, пальцами отрывая от кочана листы. Порошин развернул бумагу. Крупные буквы составляли четыре строки. Их концы свисали, как гроздья.
Строки обозначали стихи.
Стихи были такие:
Меня, я знаю, ты на память не приводишь,
Но у меня ты с мысли не выходишь.
До тех пор буду я твоя,
Доколь продлится жизнь моя.
– Что ж, написано почти красиво, Настасья Алексеевна, – сказал Порошин, возвращая записку. – Только в слове «меня» вместо буквы «ять» надобно поставить «е» простое. А стишок вы сами придумали?
– Нет, это я слышала у соседки.
– Замечу еще, что взамен «с мысли» надо написать «из мысли не выходишь». Тогда как будет с размером?.. А вот как: выкинем «ты», получится у нас: «Но у меня из мысли не выходишь..» Гм-м… Новое слово образовалось – «измысли», то есть «придумай», повелительное наклонение от глагола измысливать… Постойте минутку… – Семен Андреевич, – робко сказала Настасья, – я не об этом хотела спросить… – Нечего спрашивать и гостя отвлекать от ужина, – прервал ее Краснощеков, и девушка убежала. – Кушайте, благодетель мой.
– Право, не могу, аппетита нет.
– Аппетита? – захохотал хозяин. – Я вам сообщу средство для аппетита, каким пользовалась в Туле одна барыня-вдова, и тому я свидетель. Вдова охотница великая была кушать щи с бараниной. И как скоро примется она есть, слуги притаскивают в горницу, где обедают, кухарку, положат ее на пол и станут сечь, покуда не перестанет вдова кушать. Это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита. Зато ж и была вдова собою дородна, ширина ее тела немного лишь уступала высоте роста. Смешно, а?
– История эта не столь смешна, сколь печальна, – сказал Порошин. – Жестоки барские причуды, и не смеяться над ними, а осуждать их надобно.
– Вот вы и внушайте жалость к людям его высочеству, – ответил Краснощеков, – да только ведайте, что ни он, ни матушка его за это вас не похвалят.
– Его высочество к простым людям склонен, – возразил Порошин, – и ласково их привечает.
Он рассказал о поездке по Петербургу, о том, как на улице великий князь пил сусло, и добавил —
И к нам, своим комнатным, великий князь внимателен и заботлив. На днях у нас такой случай вышел. Его высочество вдруг мне говорит: «Пожалуй, ведь ты на оловянных тарелках ешь, когда обедаешь дома?» – «По службе моей, отвечаю, всегда почти имею честь быть при столе вашего высочества и дома не обедаю». – «А все-таки, говорит, может случиться, что заболеешь или кто пришел, угостить надо, – на чем вы станете есть?» – «По моим доходам, ваше высочество, рапортую, на чем же мне есть, как не на олове?» А он взял мою руку, погладил ее и говорит: «Не тужи, голубчик, будешь есть и на серебре». – «Спасибо, отвечаю, ваше высочество, на добром слове, но оловянные тарелки наказанием себе отнюдь не почитаю!»
В столовую вбежала Настасья.
– Семен Андреевич, к вам гость, – сказала она. – Закусить я принесу. Краснощеков лет пять как вдовел, и Настасья была в доме за хозяйку. В первой из двух своих комнат – кабинета и спальной – Порошин увидал Сумарокова. Поэт был мрачен. Кружевное жабо потемнело от винных пятен, парик сдвинулся на затылок.
– Семен Андреевич! Друг любезный! – воскликнул он, обнимая Порошина. По щекам его катились слезы. – Напоследок я к тебе в этот горестный день. Ведь с утра, после кладбища…
– Ничего, Александр Петрович, – сказал Порошин. – Что уж там… Рад, что зашли.
Настасья, постучавши, толкнула дверь, поставила на стол поднос, полный закусок, вышла и через минуту принесла водку, вино и стаканы.
– Спасибо, Настасья Алексеевна, – сказал Порошин.
– Спасибо, спасибо, – рассеянно повторил Сумароков, разливая водку. – Не в последний бы раз, Семен Андреевич!
– Пейте, Александр Петрович, будьте здоровы, – пожелал Порошин, плотно притворяя за Настасьей дверь.
– Выпью, меня просить не нужно, – сказал Сумароков. – И еще раз помяну Михайлу Ломоносова. Ссорились мы с ним частенько, старшинство в российской поэзии делили, но, может быть, я один понимал, сколь велики были его труды на пользу нашей словесности, хотя и мои – не малы.
Он снова налил свой стакан и выпил.
– Теперь жалею, – продолжал Сумароков, – что я, в обиду покойнику, писал как бы его слогом вздорные оды. Например, так: