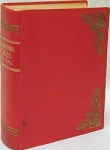Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Увидев, что Иван мертв, Мирович покорно дал себя арестовать. Ставка была бита, оставалось расплатиться по крупному счету.
На следствии выяснилось, что Мирович товарищей не имел. Освободив пленника, он привез бы его в Петербург. Что будет дальше – рисовалось ему в общих чертах: сбегутся солдаты, присягнут законному монарху Иоанну Шестому, петербургские обыватели их поддержат, и новый царь займет свое место во дворце, свободном от хозяйки, потому что Екатерина в это время находилась в Риге.
Императрицу сразу известили о бунте Мировича, и она возвратилась в Петербург, чтобы поторопить следствие и предупредить неприятные разговоры в публике и за границей.
Такова была «петербургская нелепа», как назвала Екатерина попытку Мировича произвести переворот. Что же следует сообщить о том великому князю?
Порошин сосредоточенно молчал, вспоминая обстоятельства дела и обдумывая возможный ответ. Мальчик терпеливо ждал, помаргивая рыжими ресницами.
– Взамен Тайной канцелярии у нас ничего нет, ваше высочество, – наконец сказал Порошин. – А Мирович посягал на государственную власть, злоумышлял против императрицы, вашей матушки, за что и был осужден.
3
К столу великого князя собрались, как обыкновенно, друзья Никиты Ивановича, два советника канцелярии Иностранной коллегии с дежурным переводчиком, кавалеры Павла. Кушанье готовилось на дворцовой кухне, официанты носили блюда и миски через десятки комнат, и потому за столом великого князя всегда ели холодное. Вероятно, можно было как-нибудь улучшить питание наследника, но для этого пришлось бы ломать заведенный порядок, а Панин ленился что-либо исправлять.
За супом гости великого князя разговорились об удобствах заграничной жизни. Скотину там бьют во дворах, никто того не видит, а у нас бойни стоят открыто, воняют на весь город, мясники перемараны кровью, что палачи.
– В Данциге, – сказал Петр Александрович Румянцев, – тоже чистота великая, хоть город и российский. Взять, например, мясной ряд. Разные части туши там прицепляют к крючьям, повешенным на веревке с блоками. Посмотрел кусок, не понравился – передвинь веревку, возьми другой кусок.
– Что до чистоты и опрятства касается, – заметил Порошин, – их и у нас легко завести, лишь бы смотрела полиция.
– Это так, – согласился Никита Иванович. – Но и народ приучать к порядку надобно. Полицмейстер не может своим людям на все случаи жизни дать наставления, и каждый из них должен понимать, когда хитрость и когда строгость употребить ему следует.
Александр Сергеевич Строганов лениво сказал:
– Даст ли наставления наш полицмейстер, не знаю, а что власть свою покажет, это наверное. Где ж у нас найдешь такого человека, чтобы данной ему власти во зло не употребил?
Слова Строганова рассердили великого князя.
– Что ж, сударь, – с сердцем воскликнул он, – так разве честных людей у нас вовсе нет?!
Вспышка была неожиданной и за столом на минуту воцарилось молчание. Строганов не ответил мальчику, Никита Иванович сделал вид, что разрезает мясо и не слышит, Порошин не счел удобным вмешаться.
Выручил Иван Григорьевич Чернышев.
– А вот я был в Вене, – перевел он разговор на другую тему, – там судят не по-нашему: кто украл со двора собаку или кошку – смертная тому казнь, кто лошадь уведет – лишь телесное наказание. И смотрите, как здраво рассуждают: лошадь, мол, в стойле найти и отвязать нетрудно, а кто незаметно унесет кошку, тот, конечно, в состоянии и другое что украсть. И если он, кроме кошки, ничего из дома не унес, то затем только, что украсть там было нечего.
– Воровства много за границей, больше, чем у нас, – тотчас откликнулся Никита Иванович. – Живем здесь весьма оплошно и открыто. Если бы мы на такой манер в других землях жили, давно бы у нас все перекрали и самих перерезали. Ворота не запираем, заборы – одна видимость.
– Отчего ж нас не режут? – спросил Павел. Тон вопроса был дерзким.
– Наш народ добродушный и основательный, – ответил Румянцев. – Душегубство не в его свойствах, и с ним жить безопасно.
– Поверьте мне, – опять вмешался Строганов, – что это не добродушие, а глупость. Наш народ таков, каким мы хотим, чтобы он был. Так нам удобнее.
Павел сердито посмотрел на Строганова.
– Разве ж это худо? – быстро заговорил он. – Чем плохо, что наш народ таков, каким хочешь, чтобы он был? В этом, кажется мне, дурного еще нет. А если так, все зависит только от того, чтобы те хороши были, кому хотеть надобно, каким должен быть народ.
Иван Григорьевич одобрительно покивал головой. Строганов пожелал поправить свою ошибку и заговорил о другом.
– Вы заметили, Никита Иванович, – сказал он, – как нынче придворные маскарады стали бедны? Если они и дальше так скаредно содержаться будут, то не многих станут собирать. Стола нет, пить не допросишься, в карты не играют.
– Справедливый укор, – сказал Никита Иванович. – По мне лучше уж совсем не давать при дворе маскарадов, чем давать их с такой экономией.
– А если кушанье и вина гостям ставить, – сказал задумчиво Строганов, – так, пожалуй, очень много изойдет: у нас на даровое падки.
Порошин с негодованием посмотрел на говорившего. Он знал, что такие как бы сделанные вскользь замечания влияют на великого князя едва ли не сильней, чем прямые укоризны, и в данном случае способны поселить в нем худую идею о характере общества, ибо в маскарадах бывали гости разных званий и даже кое-кто из купечества. Кажется, на этот раз и Никита Иванович посчитал нужным вспомнить свои обязанности воспитателя и слегка поправить собеседника.
– Где для публики устраиваются увеселения, – молвил он, – как там не быть издержкам? Непременно будут, и немалые. А если бояться, что много припасов и денег изойдет, лучше ничего и не устраивать.
– Я тоже так думаю, Никита Иванович, – ответил Строганов, – и сам ничего устраивать не стану. Да и не только я таких мыслей. Посмотрите кругом – все боятся лишний рубль на свое удовольствие истратить, а стараются, как бы поэкономнее прожить. В нынешних маскарадах богатых костюмов не бывает, заметили? Из этого вкуса совсем уже вышли. Кроме простых домино и капуцинского платья, почти не видно других.
– Да, в прежние годы куда роскошнее бывали маски, – согласился Никита Иванович. – Помню, во время свадьбы принцессы Анны Леопольдовны – да тому никак, почитай, уже лет с двадцать пять стукнуло? – вдруг удивился он, – горный генерал-директор Шомберг для маскарада сшил себе костюм гусара и украсил его бриллиантами полтораста тысяч рублей ценою. В Москве у своего двора этот Шомберг для иллюминации сделал превысокую гору, и на ней все горные работы представлены были. Да разве он один не жалел издержек? Все друг друга старались в расходах обогнать. Одной милостыни бедным, говорили, на два миллиона роздано было.
– А в карты играли как! – с восхищением воскликнул Строганов.
– В карты и теперь играют, – сказал Никита Иванович, – но нет прежней простоты. Нынче играют с азартом, стремятся сорвать банк и свои дела поправить. А прежде бывало, граф Алексей Григорьевич Разумовский огромные банки держал и нарочно проигрывал, кому хотел. У него из банка Настасья Михайловна Измайлова и другие крадывали деньги и после щедрость его перед государыней восхваляли. Да не только такие Настасьи Михайловны, но люди совсем неважные его карточными деньгами пользовались. За князем Иваном Васильевичем Одоевским один раз подметили, что он тысячи полторы со стола Алексея Григорьевича перетаскал и в сенях отдавал своему слуге.
– Подлинно, – сказал Иван Григорьевич Чернышев, – в большой силе был тогда Алексей Григорьевич. Граф Петр Иванович Шувалов к нему подслуживался, всегда в Москве езжал с ним на охоту, и графиня Мавра Егоровна молебны певала по их возвращении, что Петр Иванович батожьем от него не бит. Алексей Григорьевич весьма неспокоен был пьяный.
Порошин раскашлялся. Никита Иванович взглянул на него и встал из-за стола. За ним поднялись гости.
Великий князь пошел в залу и принялся готовить флажную иллюминацию своего линейного корабля: полный набор сигнальных флагов российского флота доставил ему адмирал Мордвинов. Когда Порошин позвал мальчика на занятия, он сначала сделал вид, что не слышит, а на повторный зов ответил так:
– Мы сейчас все равно едем в Академию художеств, что ж на минуту книги раскрывать?
Поездка в школу при Академии предполагалась, но в ней должен был участвовать Никита Иванович, а он выехал из дворца и, очевидно, мог вернуться лишь через час-полтора.
– Идемте, ваше высочество, – сказал Порошин. – Отлынивать от учения негоже.
– Что ж, – обиженно проворчал Павел, – не все государю трудиться-то. Он, чай, не лошадь, надобно ему и отдохнуть.
– Никто не требует, – ответил Порошин, – чтобы государь трудился без отдыха. Он такой же человек, как и прочие, возвышен же в свое достоинство не для себя, а для народа. Поэтому он всеми силами стараться должен о народном благосостоянии и просвещении. А увеселяться он будет тем, что представит себе, сколько подданных благодаря его трудам и попечениям наслаждаются довольством.
– Экий ты, братец, привязчивый, – сказал Павел. – Ин ладно, сядем, посчитаем один да один, мы с тобой известные математики.
Но до занятий было еще далеко. Павел, зайдя в учительную, начал играть с собаками, – у него было их две, испанской породы, с большими ушами и коричневой шерстью, Дианка и Филидор.
Порошин посадил ученика. Собаки подошли, поднялись на задние лапы, положили передние на колени Павла и задрали головы, требуя ласки.
– Прогоните собак, ваше высочество, – сказал Порошин.
– Диктуй задачи, они мешать не будут, – ответил великий князь, поглаживая собак.
– На уроке надобно думать об ученье, а не о собачках, прогоните их, – приказал Порошин.
Павел встал, спаниели запрыгали вокруг него на задних лапах.
Порошин сурово глядел на великого князя, и тот понял, что нужно кончать веселье. Ссориться ему было незачем, он выпустил собак в соседнюю комнату и тщательно притворил дверь: вид открытых дверей был ему ненавистен. В том покое, где Павел находился, двери всегда были притворены, и если это забывали делать лакеи, он притворял сам.
На уговоры мальчика и возню с собаками ушло много времени, и когда наконец урок начался, Никита Иванович прислал сказать, что лошади поданы ехать в Воспитательное училище при Академии художеств.
Великий князь был в числе почетных членов Академии, или, как их называли, почетных любителей, и потому перед отъездом камердинер надел на него присвоенный этому званию форменный кафтан – малиновый, вышитый золотом.
Ученики, дети петербургских жителей и сироты, состояли на казенном иждивении. Директор училища, он же инспектор Академии художеств, Кювильи встретил почетного гостя в сенях, потащил его по классам и спальням, – везде было прибрано, приезда великого князя ожидали, – а затем повел в залу, где собрались все ученики. Один из самых юных будущих художников, семилетний мальчик, на французском языке пробормотал приветствие Павлу и выразил надежду, что он в дальнейшем станет покровителем искусств. Директор попросил великого князя раздать премии, заслуженные некоторыми учениками. Их вызывали к столу, и Павел вручал кому книгу, кому небольшую картину или статуэтку, которые подавал ему Кювильи.
Получивши награды, дети пошли на ужин, и Павел со свитой отправился за ними. Он обходил столы, разговаривал с ребятами, спрашивал, как они учатся, – те почтительно ему отвечали, и Порошин видел, что робость их приятна Павлу. Это настораживало воспитателя, но как бороться с чувством собственной значительности, часто прорывавшимся у Павла, Порошин себе не представлял.
Во дворец возвратились вечером к восьми часам.
– Почитай мне из новой книги, попросил Павел Порошина, ложась на диван.
Переводчик Петр Семенов накануне поднес великому князю переведенную им с французского языка книгу, которой дал, как было принято в то время, длинное и подробное заглавие:
«Товарищ разумный и замысловатый, или собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древних и нынешних веков».
Порошин полистал том. Любовные приключения или далеко не учтивые насмешки не годились для слуха десятилетнего мальчика. Наконец Порошин отыскал нравоучительный анекдот и прочитал его Павлу:
– «Некоторый богатый афинянин спросил у философа Аристиппа, что бы он взял за научение его сына, которого он ему намеревался отдать. Аристипп потребовал у него тысячу драхм.
– Как тысячу драхм? – закричал афинянин.
– Я могу себе купить слугу за эти деньги.
– Купи себе, – отвечал Аристипп, – так будешь иметь двух.
Под этими словами предсказывал ему Аристипп, что его сын будет иметь такие же пороки, какие имеет и слуга, если он пожалеет расходов на его воспитание».
– Все? – спросил Павел, когда Порошин закончил чтение анекдота. – Скучно.
Порошин не мог не согласиться с мальчиком и прочел другую историйку:
– «Некоторый принц жаловался некогда о том, что его казна находится почти всегда в расходе.
– Прошу покорнейше, ваше высочество, – ему сказал тогда один из министров, – дозвольте себе дать совет.
– Какой? – спросил принц.
– Если ваше высочество, – отвечал министр, – примете на себя труд быть своим казнохранителем, то скоро найдете способ к собранию бесчисленного богатства».
– Еще скучнее, – сказал Павел. – Довольно пустяков. Подай-ка мне лучше вон этот курс философии.
Он показал на стол, где лежала книжка «Описание мундирам строевого убранства, конфирмованного высочайшим ее императорского величества подписанием». Эта книжка только что вышла в свет, в ней было несколько страниц текста и пятьдесят пять рисунков. Павел уже не раз любовался изображениями мундиров, замечая их взаимные отличия, и сейчас, дразня Порошина, упрекавшего его за пристрастие к выпушкам и петличкам, нарочно назвал ее «курсом философии».
– Слушай, теперь я тебе почитаю, – сказал он, получив книжку. – «Генералам-фельдмаршалам. Кафтан зеленый, суконный, без лацкана, камзол. Воротник у кафтана, обшлага небольшие, крупные. Штаны красные, суконные же, пуговицы медные золоченые, а на обшлагах по три пуговицы, подкладка под кафтаном красная, на кафтане и камзоле шитье образцовое в три ряда, то есть узкое и два ряда широкое, а на воротнике один раз узкое и по всем швам широкое…»
– Скучно, ваше высочество, – в свою очередь искренне сказал Порошин. – Так ли, этак ли украшен мундир – не все ли равно, если в сердце храбрость, а в голове мысли?
Принесли ужин. Павел быстро пошвырял в рот куски сального мяса, залпом выпил чай и побежал в опочивальню. Ложась в постель, он спросил у Порошина о поединках: отчего они бывают и разрешено ли драться людям между собой на шпагах?
– Поединки ни в каком государстве не дозволены, – ответил Порошин, – а кто убьет своего соперника, тому везде полагается смертная казнь. Но нередко и прощение дерущимся выходит, а потому и поединки не выводятся. Особливо в немецких землях часто они бывают, причем за самые безделицы, по одному только ложному понятию о чести.
– Как это? – спросил великий князь.
– Какому-нибудь напыщенному гордостью дворянину покажется, что другой дворянин косо на него посмотрел или не оказал ему почтения, – и он вызывает неучтивого на поединок, хотя им драться не из-за чего. Но со всем тем бывают иногда случаи, где подлинно по принятым у нас мнениям честь обязывает дворянина вынуть шпагу. Однако такие случаи не часты. Люди стали теперь умнее, образованнее, просвещение в свою силу входит.
Павел внимательно выслушал Порошина.
– Как-то мне быть, если дойдет случай выйти на поединок? – спросил он.
– Оставьте эти мысли, ваше высочество, – сказал Порошин. – Конечно, у вас такой необходимости никогда не будет. С равным себе вам встретиться и насмерть поссориться не доведется, а нижнему или подчиненному прощать надобно, великодушие того требует.
– Но ведь государь с государем не только за персональную свою обиду может вынуть шпагу, – возразил Павел, – а если какой ущерб его государству будет нанесен, государь другого владетеля вызовет на поединок. – Удобнее против такого неприятеля все свое войско двинуть, – сказал Порошин. – Это значит, что произойдет у них война.
Павел замолк, но было заметно, что мысли о дуэлях занимают его. И почему, собственно, он не может выйти на поединок с другим императором или королем? Ездил же Петр Великий за границу, он также поедет, и где-нибудь во дворце вдруг произойдет такой случай – встреча, ссора, дуэль… Надо учиться владеть шпагой.
С этой мыслью он уснул.
Глава 6.Собеседники
Уже давно лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим…
А. Пушкин
1
Дети, назначенные участвовать в маскараде вместе с великим князем, собрались во дворце и разучивали кадриль с танцовщиком Гранже. Портные сняли со всех мальчиков мерки и спешно шили турецкие платья. Стоили эти наряды не дешево – без малого две тысячи рублей! А пригодились они лишь на один вечер: дети гуськом – впереди церемониймейстер, за ним капитан янычарский, визирь, муфтий, султан, которого изображал великий князь, потом евнухи, капитан гвардии, другие чины свиты – прошли в залу, смешались с толпой придворных и начали танцевать. Павел скоро затревожился – не поздно ли? – и поспешил возвратиться к себе в сопровождении Никиты Ивановича и своих комнатных.
Маскарадом он остался очень доволен, дорогой благодарил Никиту Ивановича и ластился к Порошину.
– Сейчас ты что-то получишь, – сказал Павел тихонько, входя в парадную свою залу. – Постойте минутку, – продолжал он громким голосом, – я сейчас.
Великий князь убежал в опочивальню и через минуту возвратился.
– Господин Порошин! – произнес он торжественно. Руки его были спрятаны за спиной. – За вашу верную службу мы решили выдать вам диплом.
Он протянул своему кавалеру скатанный в трубку лист бумаги. Остервальд шагнул поближе к Порошину, чтобы все рассмотреть.
Порошин поцеловал руку великого князя и развернул бумагу. Остервальд читал через его плечо:
«Диплом полковнику Семену Порошину.
Уроженец Великой Пермской провинции, житель Сибирский, наследственный князь Тверской, дворянин всероссийский, полковник армии ее величества».
Порошин узнал четкий, без канцелярских завитушек, почерк Петра Ивановича Пастухова. Значит, великий князь не один готовил свою шутку. И, наверное, товарищи позавидовали расположению к нему Павла, хоть и не показывают виду. Впрочем, кое-что заметно: вон Остервальд побелел от злости. Его великий князь не позвал готовить сюрприз, и оттого он сердится вдвойне – и на Павла, и на Порошина.
«Мы даем сию диплому, – читал он далее, – для уверения об его хороших качествах, а чтобы больше уверить об его хороших качествах, дается ему патент, в котором будут прописаны все его заслуги и будет сделан герб».
Ниже был рисунок герба: на красном поле шпага и циркуль крест-накрест. С правой стороны щита изображен бог Марс на пушках, ядрах и всякой военной арматуре, слева – богиня Минерва на книгах. Символы эти обозначали, что герб принадлежит военному человеку и учителю математики.
Еще ниже – своеручная подпись: «Павел Романов».
Никита Иванович одобрительно смотрел на эту сцену. Он был доволен, что не ошибся выбором и Порошин заслужил привязанность великого князя. Благотворное влияние молодого воспитателя Панин видел отчетливо и уже не раз похваливал Порошина при докладах императрице.
Когда все разошлись вслед за Никитой Ивановичем, первым пожелавшим доброй ночи великому князю, тот, уйдя в опочивальню, позвал Порошина – он оставался дежурить.
– Понравился тебе мой диплом? – спросил Павел, укладываясь в постель.
– Счастлив получить от вашего высочества такую лестную аттестацию, – ответил Порошин.
– А хочешь, чтобы она еще лучше была? – В голосе мальчика слышалось лукавство.
– Добиваться лучшего – наша человеческая обязанность, ваше высочество.
– Я знаю, что ты пишешь дневник моей жизни, – сказал Павел. – Почитай! Мне нужно знать, когда я поступал плохо, чтобы исправлять характер, как ты говоришь.
– Характер ваш я не хулил, но только заметил, что ваше высочество имеет за собой недостаточек, свойственный таким людям, которые привыкли видеть хотения свои исполненными и не обучены терпению. Все хочется, чтобы делалось по-нашему.
– Что ж тут такого? Ведь я – государь. Мои желания должны исполняться.
– Отнюдь не все, ваше высочество, – возразил Порошин, – но лишь те, с которыми благоразумие и попечение о пользе общей согласны.
– А я прошу тебя почитать, разве мое желание неблагоразумно?
– Разумеется, оно вполне уместно, – отвечал Порошин, – и я его сейчас удовольствую. Однако прошу ваше высочество помнить, что краткие записи мои предназначены будущим историкам вашего благополучного царствования, это всего-навсего черновик, требующий отделки, и не нужно, чтобы кто-нибудь о нем ведал. Пусть это будет нашей тайной пока, не правда ли, ваше высочество?
– Читай скорей. Ладно, я не скажу.
Порошин взял тетрадь последней недели.
– Слушайте же, ваше высочество, и поправьте, ежели что не так записано. «Воскресенье. Государь изволил встать в семь часов. Одевшись, по прочтении с отцом Платоном нескольких стихов в священном писании, изволил пойти к обедне. От обедни, проводя ее величество во внутренние покои, изволил пойти к себе. Представляли его высочеству новопожалованного генерал– майора Александра Матвеевича Хераскова и новоприезжего генерал-майора же господина Шиллинга. Потом со мною его высочество изволил прыгать и забавляться».
– Зачем ко мне их водят? – сказал Павел. – Ну, флотских – другое дело, я генерал-адмирал, а сухопутные? Скука.
– Каждый почитает долгом выразить почтение и преданность великому князю, надежде отечества, – сказал Порошин. – И такова судьба великих мира сего, что принуждены они бывают терпеть и скуку, исполняя свои обязанности. Но слушайте дальше. «Сели за стол. Обедали у нас Иван Лукьянович Талызин, князь Михайло Никитич Волконской, господин Сальдерн, Иван Логинович Кутузов. Казалось, что его превосходительствоНикита Иванович очень был невесел. Братец его Петр Иванович рассуждал, как часто человеческие намерения совсем в другую сторону обращаются, нежели сперва положены были. Сказывал притом о расположении житья своего, которое ныне совсем принужден переменить по причине смерти супруги его Анны Алексеевны и князь Бориса Александровича Куракина, его племянника. Его превосходительство Петр Иванович сбирался в Москву для учреждения там домашних обстоятельств по смерти племянника. Шутил притом Петр Иванович, что он после себя любовных своих здесь дел, конечно, мне не поручит. В окончании стола пришли с той половины его сиятельство вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, граф Захар Григорьевич Чернышев и князь Василий Михайлович Долгорукий; выпили по рюмке венгерского». Ну, дальше о том, что пошли в театр, возвратились в девятом часу, за ужином разговаривали о зрелищах, о комедиях при государе Петре Великом, о фокус-покусах, о канатных танцовщиках. После ужина в десятом часу в половине лег государь опочивать.
– Все верно, – сказал Павел. – Ты еще напиши: граф Захар Григорьевич обо мне сказал, что я стал намного крепче и плотнее, чем был, и руки у меня сильные, я ему сжал руку, он лицом изменился от боли.
– Слушаюсь, ваше высочество, – сказал Порошин, делая пером пометку в тетради. – Теперь понедельник. «Государь изволил проснуться в седьмом часу в начале. Жаловался, что голова болит и тошно; вырвало его. Послали за эскулапами, кои тотчас в его высочество порошок всыпали. Оставили его на целый день в постели….»
– Не надо этот день читать, давай следующий, – прервал Порошина мальчик.
– Как угодно вашему высочеству. «Среда. Кавалерский праздник апостола Андрея Первозванного. Ее величество у обедни быть изволила. Потом с кавалерами оного ордена изволила кушать в галерее. Его высочество одет был во фрак и никуда выходить не изволил. Кушал в опочивальне один. После стола зачал его высочество выискивать способов, как бы завтрашний день под видом болезни прогулять и ничего не делать. Третий уже день, как я поступками его не весьма доволен: идет как-то все не так, как бы мне хотелось и, конечно, всякому благоразумному и верному сыну отечества…»
– И про этот день не хочу, – капризным тоном сказал Павел. – Я бы хотел, чтобы некоторые места выскребены были в твоей тетради. Люди подумают обо мне худо.
– Что делать, ваше высочество, – отвечал Порошин. – Историк должен быть справедлив и беспристрастен. Как можно хорошее похулить и как похвалить худое?
Павел отвернулся к стене и захрапел, показывая, что он спит. – Мне можно идти, ваше высочество? – спросил, улыбаясь про себя, Порошин.
Павел захрапел громче.
2
На следующее утро Порошин, войдя в опочивальню великого князя, увидел его смущенным.
– Прости меня, братец, – сказал он, – что я вчера выказал тебе обиду. Я знаю, – да и ты знаешь, – почему так было. Не сердись на меня! Я смерть не люблю, когда обо мне примечают. Ведаю, сколь ты меня любишь, а все ж не могу быть спокоен. И я с тобой оттого не пожелал говорить.
– Понимаю, ваше высочество, – ответил Порошин, – и радуюсь, что наставления мои были не напрасны. Вы невнимательны к своим речам, сбиваетесь в словах. Вчера же вы не хотели быть торопливы, а потому и смолчали, прикинувшись спящим.
– Правда, – сказал Павел.
– Умные люди говорят, что если плохую привычку не истребить у мальчика, то дальше он будет сбиваться не только в словах, но и в делах. С детства надлежит приучать себя упражнять ум, соблюдать правила мышления, не поддаваться порывам чувства, но каждый свой шаг рассчитать и обдумать. Это необходимо каждому человеку. Что ж говорить о государе!
– Я обдумал.
Они сели пить утренний чай. Трапеза не была пышной. Перед великим князем по утрам клали несколько сладких сухариков. Он волен был съесть их сам или поделиться с дежурным, которому также наливали чашку.
Последний раз Порошин сказал великому князю, что его обычная манера дележки – побольше себе, поменьше сотрапезнику – нехороша: хозяин должен быть гостеприимен, отдавать сидящим с ним за столом лучшие куски. Теперь воспитатель был вознагражден за совет: Павел, поколебавшись мгновение, поделил сухари на две неравные части и большую подвинул Порошину.
– Можно хорошо все обдумать, – сказал Павел, вставая из-за стола, – а выразить плохо. Это на самом деле очень трудно – говорить с толком.
– Верно, – согласился Порошин. – Иные так слабы в языке своем, что с чужестранного от слова до слова переводят в речах и говорят, например, так: «Вы очень много имеете проницания, чтобы этого не видеть». Или так: «Требуют, чтобы он не поехал как только на сих днях» и прочее. Александр Петрович Сумароков справедливо пишет против тех, чей язык заражен этой язвой. Какая нужда, спрашивает он, говорить вместо плоды – фрукты, вместо комнаты – камера, мамку называть гувернанткой, любовницу амантой?
– Нужды нет, – уверенно подтвердил мальчик. – Между тем русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется, будто говорят французы. А еще есть люди – помнишь, мы с тобой замечали? – которые произносят русские слова, не понимая их значения. Они так говорят: «материя причины», «мышца силы», «вещь касательства». Зачем это? Для важности?
– Такие люди не знают, – ответил Порошин, – или не хотят знать, что очень хорошая французская фраза в дословном переводе будет очень худо звучать по-русски. А еще думаю, что «вещь касательства» придумана для учености: вот, мол, я как умею! Но если уж мы заговорили о языке, позвольте напомнить вашему высочеству, что сообщил о нем Ломоносов.
Порошин взял «Российскую грамматику» Ломоносова и раскрыл на посвящении этой книги великому князю Павлу Петровичу.
Книга эта была издана в 1757 году, когда великий князь едва достиг трехлетнего возраста, однако автор обращался к нему, будто ко взрослому читателю.
– «Пресветлейший государь великий князь, милостивейший государь, – прочел Порошин. – Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе».
Павлу говорили, что одна из книг Ломоносова посвящена ему, но, привыкший к подаркам и знакам почтительности, он вовсе не придавал цены такому вниманию, исчерпанному несколькими десятками слов. Граф Григорий Григорьевич Орлов подарил ему конский убор, выложенный хрусталями и топазами по рисунку Ломоносова и сделанный на принадлежащей тому фабрике в Усть– Рудице. И Ломоносов, думал мальчик, мог бы лучше подарить ему что-нибудь дельное: ведь он той фабрики хозяин!
– «Карл Пятый, – продолжал Порошин, – римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».
Порошин читал, поглядывая на мальчика. Тот слушал, расставляя рядами на столе шашки.
– «И так, когда в грамматике все науки таковую нужду имеют, того ради, желая, дабы она сиянием от пресветлого имени вашего императорского высочества приобретенным, привлекла российское юношество к своему наставлению, всеуниженнейше приношу оную вашему императорскому высочеству, преисполнен истинного веселия о всевожделенном течении вашего здравствования, преисполнен усердного желания о многолетном оного продолжении…»
– Не надо, – сказал Павел. – Ведь это льстит он? Он это писал мне, когда я ничего еще не понимал. Зачем?
– Автор объясняет, ваше высочество, – ответил Порошин, – что, посвящая вам свою грамматику, он желал придать ей некое сияние от вашего имени, чтобы книга привлекла российское юношество.
– Ну и что? Привлекла она? – спросил Павел.
Да, ваше высочество, и не только юношей. По российской грамматике господина Ломоносова уже несколько лет обучаются своему языку русские люди и воздают хвалу ее сочинителю. По этой книге и вы, государь, свой родной язык познаете.
– Может быть, и познаю, – сказал Павел, – а кроме того, знаю, что Ломоносов разоряет казну и ничего не сделал.
Мальчик повторял чьи-то слова, – императрица не любила Ломоносова, а потому во дворце у него неприятелей хватало, – и Порошин взорвался.
– Полагаю, милостивый государь, – строго сказал он, – что вам неприлично отзываться так о россиянине, который не только здесь, но и по всей Европе знаниями своими славен и во многие академии принят членом. Вы есть великий князь российский. Надобно вам быть покровителем отечественных муз. Какое для молодых ученых людей будет ободрение, когда они приметят или услышат, что даже человек столь великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается?! Что им тогда ожидать останется, таких достоинств не имеющим? Правда, что у Ломоносова много завистников, но что тому удивляться? Большой талант всегда вызывает большую зависть.