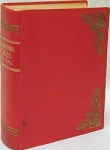Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Глава 13.Нечаянные встречи
Сердце наше – кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну… Ужасно!
Крокодил на нем лежит!
К. Батюшков
1
Возвратившись из своей поездки по краю, генерал Румянцев приказал Порошину изготовиться в дорогу.
– Соберем депутатов Комиссии об Уложении, – сказал он, – повезете их в Москву. Командой, и за каждым присмотр. Разные люди едут, многие порядков не знают, кроме своей степи, ничего не видели, могут и сбежать, не ровен час. Я раньше выеду, там встречу.
Депутатов от украинской Слободской губернии набралось сорок человек. Среди них были полковник Захар Забела, депутат от шляхты Переяславского полка, Дмитрий Исаенко, депутат от казаков того же полка, майор Яков Козельский, депутат от шляхетства Днепровского пикинерного полка, ставший затем одним из видных ораторов Комиссии, Семен Мороз, депутат от поселян Елисаветградской провинции, премьер-майор Адриан Пловецкий, депутат от Желтого гусарского полка, магистратский писарь Григорий Рогуля, депутат полтавский от города, купец Василий Селиванов, депутат бахмутский от города, и многие другие.
Депутаты везли с собой наказы избирателей. Украинское шляхетство желало быть уравнено в воинских и статских чинах с великороссийским, требовало проверки своих рядов, ибо в них числилось немало таких, кто самовольно присвоил себе шляхетское достоинство. Украинские депутаты, не принадлежавшие к родовитому дворянству, поддерживали указ Петра Первого, по которому люди из низших сословий, дослужившиеся до обер-офицерских чинов, – в армии начиная с прапорщика, – получали дворянское звание. Депутат от дворянства Изюмской провинции Зарудный готовился защищать этот указ от его противников. Он говорил:
– Думать об отнятии дворянского достоинства у тех, кто заслужил его многотрудной и полезной отечеству службой, не совместно ни с общею пользою, ни с тем наставлением, которое содержится в «Наказе», – взаимно делать друг другу добро, сколько возможно.
Были просьбы к правительству об учреждении университета в городе Переяславле, кадетского корпуса, воспитательного дома, об открытии на Украине банка. Многие пункты затрагивали юстицию, излагались требования назначать честных судей, знающих законы, и стряпчих, которые были бы обучены юриспруденции, сдавали экзамены при Академии наук и принимали бы присягу.
Казаки просили, чтобы их земель никто не покупал и не отнимал, как было в обычае у казацкой старшины – выборного военного начальства. Шляхта ходатайствовала о закреплении за нею купленных ранее казацких земель и выражала надежду на всегдашнюю к ней милость императрицы. Жители городов жаловались на непосильные поборы администрации, разорение, бедность, вынуждавшую заколачивать дома и идти просить подаяния.
Дорога до Москвы прошла благополучно, никто не заболел и не сбежал. Румянцева нарочным известили о приезде, и он встретил слободских депутатов, помог разместиться, предупредил, чтобы без ума не пили, а Порошина увез к себе.
Императрица еще зимой из Петербурга прибыла в Москву и месяцы май – июнь путешествовала по Волге. Она осмотрела города Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Симбирск. В этом городе она закончила свое плавание на галере, пересела в карету и посуху возвратилась в Москву.
Порошин узнал, что созыв Комиссии возбудил в крестьянстве надежды на какие-то льготы, а может, и на освобождение от крепостной зависимости. Возмутились заводские крестьяне, работавшие у Демидовых. За ними восстали крестьяне, приписанные к заводам графа Ивана Чернышева, покойного канцлера Воронцова и заводчика Походяшина. Всех усмиряли воинские команды. Стал известен сенатский указ о дворовых людях и крестьянах генерала Леонтьева, генеральши Толстой и других владельцев, подавших государыне челобитную на своих господ. Сенат указал:
«… Таковые преступления большею частию происходят от разглашения злонамеренных людей, рассеивающих вымышленные ими слухи о перемене законов и собирающих под сим видом с крестьян поборы, обнадеживая оных исходатайствовать им разные пользы и выгоды».
Челобитная, то есть просьба к государыне о защите от зверства господ, была преступлением. Вот как рассуждали сенаторы, хранители российских законов…
Что говорить, Порошин из письма отца знал, что и на Колывано-Воскресенских заводах, которыми он управлял, стало неспокойно. Порошин-старший считался опытным горным командиром, но когда заводские управители Кругликов и Мельников возбудили народный гнев – они разоряли дома уральских крестьян, юрты башкир, алтайцев, татар, отнимали скот, грабили имущество, – Порошин поддержал своих помощников в ответ на жалобы, вместо того чтобы их наказать. Крестьяне дошли до сибирского губернатора Чичерина, он распорядился арестовать Кругликова и Мельникова, а те собрали рабочих и перебили посланных. Чичерин донес о таком разбое в Сенат, доложили императрице, и она приказала отцу Порошина отрешить управителей от службы и отослать к сибирскому губернатору для наказания.
В народе из уст в уста передавались гневные строки стихотворения, написанного от лица холопов неизвестным сочинителем из деревенских грамотеев. Они выражали настроения крепостных людей, стонавших под властью помещиков, ненависть к рабскому ярму и мечту о свободе:
Ах, когда б нам, братцы, учинилась воля,
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,
Пошли бы мы, братцы, в солдатскую службу
И сделали б между собою дружбу.
Всякую неправду стали б выводить
И злых господ корень переводить.
Императрица Екатерина, стремясь восстановить спокойствие в государстве, всемерно укрепляла сословие помещиков. Им была дана власть над жизнью и смертью миллионов людей. В 1765 году помещики получили право самолично, без государственного суда, отправлять своих крепостных в каторжные работы. Указом того же года, подкрепленным новым указом в 1767 году, крестьянам настрого запрещалось подавать жалобы на своих господ представителям государственной власти и челобитные императрице. Нужно было покоряться и терпеть, никто не мог оборонить крепостного от бешеного нрава его владельца. Закон вспоминал о крестьянине лишь тогда, когда тот его переступал.
В России помещики продавали друг другу крестьян семьями и в одиночку, разлучая сына с матерью и мужа с женой.
Доведенные до отчаяния крепостные нередко мстили жестоким хозяевам. Иногда крестьяне убивали своих мучителей. Дворянское сословие жило под страхом народного гнева и, боясь его взрыва, беспощадно расправлялось с малейшими проявлениями протеста. Бегство крестьян от помещиков в эти годы стало массовым – десятки тысяч крепостных пробирались на юг России, где господская власть еще не давала себя чувствовать так, как в центральных губерниях, переходили за рубеж, в Польшу.
В Москве ожидали решения государыни по делу вдовы ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова Дарьи. Оставшись без мужа на двадцать пятом году, она стала управлять имением и проявила чудовищную жестокость в обращении с дворовыми и крестьянами – она жгла их раскаленными щипцами, обливала кипятком, травила собаками, приказывала сечь до смерти, уверенная, что никто ничего сделать ей не может. Связи и деньги помогали Салтыковой прекращать розыски, иногда начинавшиеся по жалобам ее жертв. Молва обвиняла ее в убийстве семидесяти человек. Когда Юстицколлегия расследовала дело Салтыковой, она сочла доказанным убийство тридцати восьми человек и оставила злодейку в подозрении относительно убийства еще двадцати шести.
Императрица не хотела применять к дворянке Салтыковой пытку и требовала от нее чистосердечного признания, но убийца свою вину отрицала и ничьих увещеваний не слушала.
– Ничего ей не будет, – уверенно говорили в Москве, – хоть бы и не сотню, а тысячу замучила, потому что это люди ее крепостные. Что пожелает, то с ними и сделает…
Так оно, в сущности, и вышло. Позже Порошин услыхал, что императрица велела выставить Салтычиху на Красную площадь, повесив ей на шею доску с надписью: «Мучительница и душегубица», продержать в течение часа, а потом поселить в подземной келье в женском Ивановском монастыре. Правда, дворянского звания Салтыкову лишили.
2
Комиссия о сочинении нового Уложения была торжественно открыта тридцатого июля 1767 года. Депутатов, – а их съехалось четыреста шестьдесят человек, – в этот день собрали к семи часам в Чудов монастырь. Командовал ими князь Александр Вяземский, только что назначенный на должность генерал-прокурора, – построил в две шеренги, повернул и парами повел в Кремль.
Екатерина во главе громадной свиты шествовала на заседание из Головинского дворца. Она водрузила на голову малую корону и накинула на плечи императорскую мантию с горностаевыми хвостиками. В ее карету запрягли восьмерик лошадей. Процессию открывали придворные экипажи, одна за другой шестнадцать карет, за ними ехала императрица. Ее сопровождал взвод кавалергардов в золотых кирасах. Их вел граф Григорий Орлов. Далее следовал экипаж великого князя Павла Петровича и за ним – десятки карет генералов, сенаторов, придворных дам.
Императрица подъехала к Успенскому собору и сошла на площадь. Князь Вяземский, держа в руке жезл маршала Комиссии, провел перед нею колонну депутатов – двести тридцать пар, – составленную по старшинству: депутаты от правительственных учреждений, от дворянства, от городов, от однодворцев, от поселян всех видов. В сословиях депутаты занимали места согласно списка губерний: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская и так далее. Прибывшие из Слободской Украинской были на пятнадцатом месте, за ними следовали депутаты еще пяти губерний, кончая двадцатой – Новороссийской. Депутаты казацких войск шли с депутатами той губернии, в которой было их жительство. Личное старшинство в составе губернских делегаций наблюдалось по времени их прибытия в Москву и явки в Сенате. В таком порядке депутаты должны были рассаживаться и на заседаниях Комиссии в Грановитой палате.
Депутаты православной веры вошли в Успенский собор, иноверцев попросили подождать у храма окончания службы. Впереди было принятие присяги и шествие в аудиенц-зал, где ожидалось слушание приветственных речей в присутствии императрицы.
Остался с иноверцами ждать и Порошин. В собор пускали, кроме депутатов, только придворных, а он в их полку не числился и напоминать охраняющим двери о себе не пожелал. Толпа, окружившая поезд императрицы, понемногу редела, на площади стало свободнее, и, рассеянно глядя на церковные стены, Порошин думал о тоненьком мальчике, стоявшем на ступенях собора близ Екатерины. Лицо его выражало нетерпение. Рядом стоял Никита Иванович Панин. А мальчик был сам по себе, одинокий и гордый.
«Как же это случилось? – спрашивал себя в тысячный раз Порошин. – Почему нужно было расстаться с ним? Кто тому виною? Не сам ли я? Теперь-то вижу, коль многое в делах и поступках людей уходит от нашего проницания и открывается порой, когда пропущенное невозвратимо. Какое поэтому требуется внимание к тому, что происходит вокруг! Очевидно, тот не великий еще человек, кто умно вымышляет и блещет остроумием. Великим будет тот человек, который сверх всех дарований заключит в сердце столько твердости, столько бодрости, а также искусства, чтобы все придуманное к совершению успешно произвести в действие!»
Порошин вспомнил, как незадолго перед его изгнанием из дворца за столом великого князя зашла речь о том, кто из кавалеров Павла какие ухватки имеет. Сам Павел принял горячее участие в общих припоминаниях, показывал жесты своих приближенных, повторял их любимые словечки.
За Порошиным Павел знал больше мелочей поведения, чем за другими, наблюдая его и на занятиях, и во время забав. Он очень похоже изобразил, как Порошин дергает в пылу спора собеседника за кафтан, желая внушить ему свою мысль, как показывает пальцем, когда хочет обратить внимание ученика на предмет, как он кланяется и прочее. О чем великий князь позабывал, то ему Остервальд и другие торопились подсказывать, и Порошин мог бы уже тогда сообразить, как внимательно следили за ним его сотоварищи. Зачем? На всякий, видимо, случай. Вот и пригодилось: выпала возможность посмешить великого князя неловкими манерами его любимого Семена Андреевича. С весьма заметным злорадством кавалеры представляли гостям сибирского чудака Порошина, и его высочество от души хохотал над своим наставником и другом.
Он смеялся… А ведь все секреты свои доверял, говорил то, в чем никогда бы Никите Ивановичу непризнался! И, конечно, обер-гофмейстер таким предпочтением Порошина бывал обижен.
В один из осенних вечеров Павел подышал на оконное стекло и написал на нем несколько букв. Никита Иванович, наблюдавший за великим князем издали, быстро подошел, желая прочесть. Однако мальчик, услышав за спиной шаги, ладонью провел по стеклу.
– Что вы писали, государь? – спросил Панин. – Не иначе – какое-то имя, и притом уменьшительное – букв не много.
– А вот и нет, не уменьшительное, – возразил Павел.
После такого сообщения угадать имя не стоило большого труда – имя младшей Чоглоковой, Веры, было не длиннее любого уменьшительного. Но Панин хотел услышать ответ воспитанника.
– В кого вы нынче влюблены, ваше высочество?
Прямо поставленный вопрос польстил мальчику, и, хоть не сразу, он ответил обер-гофмейстеру так:
– Да, ваша правда, влюблен. А в кого – тайна.
– Откройтесь же мне, ваше высочество! – попросил Панин. – Не откроюсь. Тайну эту, как и все мои тайны, знает только Семен Андреевич Порошин. И я ему слово дал, что больше никому не скажу.
Панин поморщился:
– Какая же у вас тайна, ежели Порошин знает, за ним еще кто-нибудь… Окажите поверенность и мне, вашему гофмейстеру!
– Нет, – ответил великий князь. И этот отказ был поставлен в счет Порошину.
А что было с преподаванием геометрии, если понимать вещи как следует? Великий князь вдруг объявил Порошину, что отныне геометрии будет учить его профессор Эпинус, член Петербургской академии наук. Это было тем более неожиданно, что Никита Иванович давно уже поручил Порошину пройти все разделы математики, связанные с военным искусством. Откуда теперь взялся Эпинус?
Не сразу Порошин сумел добиться разговора с Никитой Ивановичем. Тот будто бы запамятовал о своем намерении доверить Порошину весь математический курс, поскольку на нем основано военное дело, но затем вспомнил об этом и заверил Порошина, что такого курса отнюдь у него не отнимает. Эпинус будто бы понял совсем не то, что ему говорили. Панин собирался – и то не сейчас, а по прошествии некоторого времени – поручить Эпинусу подать великому князю понятие о предлагаемых в университетском обучении частях математики, об алгебре и об астрономии.
Но Эпинус имел свои планы и хотел было отнять у Порошина его уроки геометрии.
Он поехал к Эпинусу, часа два толковал с ним по-немецки и по-русски и сохранил за собой геометрию, а далее фортификацию, артиллерию и генеральные правила о тактике, на каковые, впрочем, профессор не претендовал. У него остались физика и алгебра…
«А сколько нам удалось прочитать! – продолжал вспоминать Порошин. – И какой это был внимательный слушатель! Мы прочли оды и слова Ломоносова, трагедии и статьи Сумарокова, пьесы Лукина, биографии Плутарха, сатиры Буало, „Жития славных государей и великих полководцев“ Шофина, „Письма к молодому принцу“ Тессина, „Древнюю историю“ Ролленя, „Генриаду“ Вольтера и его историю Петра Первого, „Жиль Блаза“, „Робинзона Крузо“… Рассказывал я о книгах Томаса Мора, Монтескьё, Гельвеция, Фонтенеля…
И какой это острый мальчик! Однажды с отцом Платоном повели мы беседу о раскольниках, о смысле церковных обрядов, о таинстве причащения, когда говорится, что хлеб превращается в тело Иисуса Христа. Великий князь все это слушал, а потом спросил Никиту Ивановича: „Как же это бывает, ведь в пост не положено есть мясо? Священники и в пост причащаются, значит, мясо едят, скоромное то есть, чем правила нарушают“. Его превосходительство ответил в таком роде, что мяса– то на самом деле нет, подразумевается мясо духовное, – право, так и сказал, – и оно никакого, дескать, сродства с мясом, которое мы едим, не имеет. Великий князь и ко мне с тем же вопросом. Что делать? Я повторил слова Никиты Ивановича, не противоречить же ему. Признаться, вопрос был труднехонек, и я крайне стерегся, чтобы государь не приметил, что смутил нас, и не привык бы впредь шутить такими вещами, кои за освященные почитаются…»
… Зазвонили колокола. Служба в соборе окончилась, люди повалили на площадь. Императрица со свитой вышла, и Порошин еще раз увидел своего бывшего ученика. Он был бледен – устал. Никита Иванович на ходу разговаривал с графом Григорием Орловым.
«Все это было и прошло, – сказал себе Порошин. – Только мальчика жаль. А что, помнит ли он обо мне? Что сказали ему о моем отъезде? Не кается ли в том, что слушал наговоры и предал недоброхотам своего Порошина?»
3
Полтора года назад, наутро после ухода Порошина, во дворце произошло следующее.
Когда Павел проснулся, в комнате сидел Никита Иванович. – Доброе утро, ваше высочество, – сказал он.
– Вставайте, кушайте, нам поговорить надобно.
– Сейчас, Никита Иванович, – ответил торопливо мальчик. Приход гофмейстера был слишком ранним и насторожил его. – А где ж мой Порошин? Разве он свою службу передал вам?
– Нет, ваше высочество, каждому свое, – сказал Никита Иванович и вышел.
Камер-лакей одел Павла, подал воды умыться и принес ему чай с сухарями. Мальчик хлебнул из чашки, поставил ее и поспешил к Панину.
– Ваше высочество изволили искать Порошина? – сказал Никита Иванович. – Я должен просить вас не упоминать более этого имени. Полковник Порошин состоять при вас дальше не будет. Он отправлен к армии.
Павел растерянно глядел на гофмейстера.
– Отчего же так? – наконец спросил он.
– Полковник Порошин не оправдал доверия ее величества, – официальным тоном ответил Панин. – Он вел подневные записки, куда вносил сведения, составляющие государственную тайну. И ваше высочество теми записками были недовольны, как о том сказывали мне.
Мальчик заплакал.
– Выходит, я виноват, что Семена Андреевича отослали? Я… Обещал никому о записках не рассказывать – и слова своего не сдержал, царского слова! А почему? На Порошина все наговаривали мне – завидовали, что я его люблю. И он того стоит, он лучше всех… – Павел остановился на секунду и добавил: – После вас, Никита Иванович.
Панин про себя усмехнулся.
– Не огорчайтесь, ваше высочество. Тут нету вашей вины. Такова державная воля государыни, – стало быть, не ропща, будем ее выполнять.
Павел, утирая слезы, потихонечку всхлипывал.
– К тому же, – продолжал Панин, – есть и важные политические обстоятельства. Ее величество намерены со временем вас призывать к себе для слушания дел, дабы вы к правительству привыкали. В присутствии Порошина государыня того учинить не смогла б. Вы бы ему рассказывали – или он вас допрашивал бы, – какие дела решали, все заносил потом в журнал и читать давал в народ. Разве это при благоразумном правлении дозволяется?
– Нет, – уверенно проговорил Павел. – При благоразумном не дозволяется.
– И я так думаю, – поддержал Панин. Он понял, что настала удобная минута для того, чтобы объяснить великому князю политическую перспективу. – Государыня желает допустить вас отчасти к правлению. И я долгом своим почитаю предупредить, что служба, ожидающая вас, будет-таки тяжеленька. Главная беда в том, что в России нет фундаментальных законов. Есть лишь законоположения, и они подвержены самовластию не только самих государей, но и злонамеренных людей, иногда к престолу приближающихся. Между тем без фундаментальных законов непрочно состояние государства и государя. По его желанию можно в один час разрушить установления всех предшественников, да и сам он может разрушить сегодня то, что созидал вчера. А гражданам фундаментальные законы обеспечат вольность и право собственности. Всякий волен будет делать все то, что позволено хотеть, произвола власти никак не опасаясь. И не законы Сенат будет приноровлять к нраву государя, а нрав его станет приспособляться к законам, и деспотом стать не сможет он, если б того и пожелал.
– А мой отец деспотом был? – вдруг спросил Павел.
– Покойный государь, ваш батюшка, – уклонился Панин от прямого ответа, – принялся было заводить в России порядок, но стремительное его желание насадить новшества помешало ему спокойным образом действовать. Прибавить следует, что неосторожность, может быть, существовала в его характере и оттого делал он многие вещи, производившие дурное впечатление. Против него начались интриги, они его погубили. А всем начатым заведениям его завистники постарались придать порочный вид.
Панин лукавил. Он слишком хорошо знал, что никакого порядка покойный Петр Федорович заводить не стремился и что императрица Елизавета Петровна считала его непригодным к правлению. Однако, всегда неохотно принимавшая решения, она в последние годы и месяцы жизни предпочитала вообще не высказывать никаких мнений. Фаворит ее Иван Иванович Шувалов как будто бы находил, что лучше всего не пускать Петра Федоровича на трон и выслать его из России, а царем сделать Павла Петровича, мальчика тогда по седьмому году. Неясно было только Шувалову, как поступить с матерью малолетнего царя, Екатериной Алексеевной, – отправить ее за рубеж вместе с мужем или оставить в Петербурге на предмет регентства?
Панин, которому Шувалов рассказал о своих соображениях, одобрил их и заверил, что императрица Елизавета, если ей предложить, непременно согласится прогнать Петра Федоровича, а его жену и сына оставит.
Шувалов не сумел поговорить на эту тему с умиравшей Елизаветой Петровной, и Панин вознамерился самостоятельно провести свою идею – Петра Федоровича устранить (как – еще предстояло подумать), престол передать Павлу, при нем создать дворянский совет, верховный правительственный орган, а Екатерину назначить регентшей.
Не знал Панин при этом, что рядом с ним и другие люди готовили переворот – братья Орловы, поднимавшие против Петра Федоровича гвардию. На престоле они желали видеть Екатерину, а сила у них была покрепче панинской.
Нельзя также забывать, что в то время уже обитал в Петербурге граф Алексей Бобринский, сын Екатерины и Григория Орлова, родившийся одиннадцатого апреля 1762 года, и что отцу приходилось думать о его судьбе наравне с собственной.
Панин и не забывал ни об Орловых, ни о графе Бобринском, однако по мере того, как планы его наталкивались на новые трудности, он с новым упорством брался за их продвижение.
– Мой отец не был деспотическим монархом, – сказал Павел, – но ему не дали царствовать. Кто? Почему? Об этом я еще буду знать. А все-таки, Никита Иванович, отчего в других европейских монархиях государи царствуют и вступают на престол спокойно, по порядку, один за другим, а у нас в России так не происходит?
– Оттого, ваше высочество, что повсюду наследственность престола в мужском поколении служит охраною народам и надеждою государям. В этом заключается главное различие между монархиями европейскими, – например, шведскою, – и монархиями, если не сказать – деспотиями, варварскими. В России порядка наследия не установлено. Государь избирает себе преемника по своей воле, и это содержит причину заговоров и козней.
– Верно, – сказал Павел. – Но что же нам делать? К такому обыкновению в России привыкли, и трудно будет здесь что-либо изменить. Я помню, кто-то у нас за столом говорил, что русские больше любят видеть на престоле юбку, нежели военный мундир.
– Но когда выпадет случай, отчего же не попытаться изменить дурные обычаи, ваше высочество? – спросил Никита Иванович, внимательно глядя на мальчика.
Лицо Павла горело, глаза блестели. Разговор необычайно взволновал его: первый раз Никита Иванович беседовал с ним откровенно и дружески о предмете, который казался ему бесконечно значительным и важным. Дело-то шло – и Павел отчетливо понимал суть – о его собственной судьбе, как законного монарха России.
– В России, – говорил Панин, – должна быть форма государственного правления монархическая, как принято во всем разумном свете. И право наследования престола по правилам таково: первородный сын от первого брака владеющего монарха, за ним первый внук от его первого сына и другие внуки в порядке рождения, предпочитая всегда мужеский пол женскому. За кончиной первого сына и пресечения рода с ним – второй, третий сыны. А уж если нет мужчин, то первородная дочь. Таков должен быть фундаментальный закон, ваше высочество, и тогда порядок наследия у нас утвердится.
– Значит, если бы мы этот закон соблюдали, – сказал Павел, – то я…
– То ваше высочество, – подхватил Панин, – теперь были бы царствующим самодержавным государем в России.
– Теперь… Самодержавным… – пробормотал Павел.
Соблазненный видением, он забыл о Порошине.
4
День был еще не кончен. Порошин шел из Кремля, а его обгоняли и навстречу ему поднимались знакомые петербуржцы из свиты императрицы, прибывшие с нею в Москву. Слово с одним, два слова с другим, – о себе Порошин не говорил ничего, в ответ на вопросы отшучиваясь, – и он собрал полный букет столичных новостей, важных и пустяковых.
Порошину были нужны известия о двух-трех людях. Их он вбирал в память, чтобы на досуге обдумать, а потоки иных сообщений пропускал без внимания.
Анна Петровна Шереметева с другими фрейлинами сопровождает государыню и сейчас в Москве. А что, говорят, будто Порошин ей доставил какое-то огорчение, слух об этом дошел до императрицы и он должен был покинуть дворец? Нет, не доставлял? А люди уверяют… Вот сплетники!
Никита Иванович Панин, по-прежнему и обер-гофмейстер и первоприсутствующий в Иностранной коллегии, заключил недавно с английским посланником Макартнеем торговый договор, чем очень доволен, считает, что перехитрил англичанина. Когда только успевал он вести переговоры? Это дело долгое, а всем известно, что Никита Иванович без памяти влюбился в Анну Михайловну Строганову. Она в разводе с мужем. Панин в Петербурге все время проводил у нее, и теперь в Москве она каждый день его принимает. В коллегию не ездит, бумаги запустил – и тем будто бы теряет уважение императрицы. Стыдно так вести себя министру, да еще и воспитателю наследника престола!
Про великого князя известия были такие. Его начали обучать государственной науке, познанию политики, внешней и внутренней, а также морскому и сухопутному военному искусству. Что с четырнадцати лет, по плану Панина, для великого князя начиналась вторая ступень образования, Порошин знал и надеялся при выборе учителей не быть обойденным. Но, во-первых, началась эта ступень годом ранее, а во-вторых, с течением государственных дел великого князя знакомил только один человек – Григорий Николаевич Теплов. Именно его выбрал Панин, ему доверил руководство образованием будущего государя.
Этот Теплов был сыном истопника в доме псковского архиерея, известного проповедника и писателя Феофана Прокоповича, и рос на правах его воспитанника. Он получил отличное образование и завершил его заграничным путешествием. Впоследствии Теплов был воспитателем Кирилла Разумовского, младшего брата некоронованного мужа императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского. Когда юноша Кирилл получил назначение на пост президента Петербургской академии наук, Теплов от его имени управлял этим учреждением и, будучи злейшим врагом Ломоносова, всячески мешал его трудам.
В царствование Екатерины Алексеевны Теплов сблизился с Орловыми, негромко порицал Панина и неприязненно относился к великому князю, хотя бывал у него частенько. Панин, видимо, не сумел разгадать Теплова и пригласил его соучаствовать в обучении Павла. Так он пытался возместить утрату Порошина.
Ничего доброго, как и следовало ждать, из этого не получилось. Теплов, человек безнравственный, интриган и лизоблюд, занялся преподаванием с целью – Порошин был убежден – повредить своему державному ученику. Он обязался разъяснять великому князю политику. России, способы решения государственных вопросов, а вместо того приносил кипы судебных дел, которые проходили через правительствующий Сенат, и монотонным голосом читал экстракты из них, статьи законов, выписанные для справок, и мнения сенаторов. Павел жестоко скучал, как мог, уклонялся от уроков Теплова и приобрел глубокое отвращение к юридическим актам.
Про Теплова рассказал Порошину человек, по макушку погруженный в придворную жизнь и знавший все обстоятельства ее до тонкости – Адам Васильевич Олсуфьев.
Крестник государя Петра Первого, по его желанию нареченный Адамом, Олсуфьев, – кабинет-министр, сенатор, – был близким к Екатерине Алексеевне человеком, как один из ее секретарей. Вторым браком он женился на сестре Сергея Салтыкова, Марии Васильевне, и это еще более укрепило его дружбу с императрицей. Оттого маленький сын Олсуфьева Сергей был приглашен в группу детей, которые танцевали с великим князем балет. Порошин знал мальчика и не раз беседовал с его отцом, также бывавшим в покоях Павла с поручениями императрицы и на правах гостя.
Олсуфьев, толстый и веселый человек, вечно спешил, торопясь переделать тысячу дел, всегда бывавших у него на руках, но, встретив Порошина, говорил с ним долго и обстоятельно.
От него Порошин узнал о новом порядке обучения великого князя, – Теплова Олсуфьев не любил и чтение судебных бумаг вместо уроков государственной мудрости осуждал, – о любовном увлечении Никиты Ивановича Панина и о возмущении русских студентов за границей.
История эта еще не получила огласки. Олсуфьев, по должности знакомый с нею, рассказал ее Порошину, как человеку из дальних краев, который не станет носить рассказ по городу, а увезет с собой в степи.
По словам Олсуфьева, императрица пожелала иметь в России образованных юристов, к службе политической и гражданской способных, и для того приказала послать слушать университетский юридический курс в Лейпциг двенадцать молодых людей. Она писала уже свой «Наказ» и готовилась созвать Комиссию о сочинении нового Уложения. В эту группу вошли шесть лучших по успехам кадет Пажеского корпуса: Петр Челищев, Алексей Кутузов, Андрей Рубановский, Сергей Янов, Александр Радищев, Александр Римский-Корсаков. К ним присоединились Федор и Михаил Ушаковы, Зиновьев, Насакин, князья Несвижский и Трубецкой.
Гофмейстером, то есть воспитателем, и начальником команды был назначен некий Егор Бокум, грубый, жадный и невежественный человек. Духовным наставником молодежи поехал иеромонах Павел. Он кончил семинарию и знал по-латыни, по-гречески, несколько по-еврейски и даже преподавал риторику, но по глупости своей не смог завоевать уважение своих подопечных и вскоре стал для них мишенью насмешек. Это заставило его стакнуться с Бокумом и потом вместе с ним клеветать на студентов в доносах императрице.