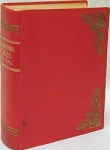Текст книги "Опасный дневник"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
С востока вечно дым восходит,
Ужасны облаки возводит
И тьмою кроет горизонт.
Ефес горит, Дамаск пылает,
Тремя Цербер гортаньми лает,
Средьземный возжигает Понт…
А заканчивал совсем обидно, – ну, да ведь и он меня не щадил:
Весь рот я, музы, разеваю,
И столько хитро воспеваю,
Что песни не пойму и сам.
– В жизни всякое бывает, Александр Петрович, – сказал Порошин. – Вы стихами фехтовали с ним, как шпагами, и никто из нас, читателей, не мог решить, чья острее.
– Да… – задумчиво протянул Сумароков. – Мои-то, пожалуй, поострей были, да не о них сейчас толк. Он умер, спокоен, а мне, живому, хуже приходится. Стихи мои запрещают печатать, к делам не берут. Уеду в Москву, а потом в деревню. Я довольно насмотрелся на суеты мира, и чем более вижу, тем более от них отвращаюсь. Что на природе основано, то никогда перемениться не может, а что другие основания имеет, то можно хвалить, ругать, вводить и уничтожать по произволению каждого, без всякого рассудка. В природе притворства я не вижу, лукавство ей неизвестно. Удалюсь от света и в моем уединении обрету время золотого века.
– Съешьте что-нибудь, Александр Петрович, – сказал Порошин. – Врачи говорят, закусывать полезно.
– Закусить всегда хорошо, – бодро откликнулся Сумароков. Свободной рукой он ткнул вилку в соленую рыбу и оставил ее там. – Как ваши труды подвигаются, Семен Андреевич? Каковы успехи воспитания? Чем порадует нас государь-цесаревич, когда окончит курс наук под вашим предводительством?
– С великим князем, – сказал Порошин, – занимаюсь я арифметикой и геометрией. Полагаю также необходимым преподать его высочеству нужные для военного искусства математические науки. Учебных книг таких нет, и я пишу свой особый курс, в котором заключаются начальные основания механики, гидравлики, фортификации, артиллерии и тактики. Наук много, от каждой следует взять главное и все части связать друг с другом.
– В корпусе мы все эти науки порознь проходили, – припомнил Сумароков. – Да мыслимо ли столько премудрости, перемешав, затолкать в одну голову? Ведь Ученик-то – мальчик, да еще и маленький!
– Зато к наукам способный и разумом одаренный, – возразил Порошин. – А кроме того, к моей системе он уже приучен. Арифметику всю великий князь у меня окончил и в геометрии сделал начало.
– Ну, разве что так, – сказал Сумароков. – А мне в гидравлике и фортификации без бутылки не разобраться.
– И еще одно сочинение готовлю, Александр Петрович: «Государственный механизм». Хочу вывести и показать его высочеству разные части, которыми движется, как машина, государство. Изъяснить, например, сколько отечеству потребно солдат, сколько земледельцев, купцов…
– Не с дворян ли перечень ваш начинать надлежит? – спросил Сумароков. – Дворяне – голова, крестьяне да солдаты – руки и ноги, вот как я рассуждаю.
– Дворянство – само собой, – ответил Порошин. – Я не о господах, а о работниках говорю и намерен его высочеству объяснить, как и кто своею долею помогает общему благоденствию. Император должен знать и помнить, что государство его никоим образом не может быть благополучно, когда одно какое-то сословие процветает, а прочие все в небрежении.
– Это правда, – сказал Сумароков. – Все члены рода человеческого почтения достойны. Презренны только люди, не приносящие обществу пользы, исключая больных и увечных, которых нужно жалеть и содержать. Крестьяне пашут, купцы торгуют, художники услаждают, воины берегут отечество. И сколько почтенны нужные государству члены, столько презренны тунеядцы, в числе которых полагаю я и дворян, которые заботятся только о собственном богатстве и возносятся своим маловажным титулом.
Он поболтал в сулее оставшуюся водку, вылил ее в стакан, осушил его двумя глотками, взялся было за вилку, торчавшую в рыбе, но отдернул руку и с жаром воскликнул:
– Дворянин! Великая важность! Разумный священник и проповедник, или, кратко, богослов, за ним – естествослов, астроном, ритор, живописец, скульптор, архитектор и прочие – по сему глупому положению принадлежат к черни… О несносная дворянская гордость, достойная презрения и поругания!
– И еще работа полезная у меня есть, – приостановил поток речей Сумарокова Порошин. – На этот раз – вместе с отцом Платоном. Задумал составить как бы нашу с ним переписку о разных исторических и нравоучительных материях. Теперь часто за границей книги, письмами наполненные, выходят. Из опыта ведая, что дети не любят выслушивать сухие истины, я в общении с великим князем старался то, что нужно преподать, незаметно вмешивать в наши разговоры, чтобы прямым учительным словом не возбуждать скуки и отвращения.
– Тоже верно, – сказал Сумароков. – Наставления часто противны бывают. Правда, я сочинил «Наставление хотящим быть писателями», но мой слог скуки доставить не может по своей замысловатости.
– Нравоучение роду человеческому полезно, – продолжал Порошин. – Кто станет сомневаться в пользе науки, отворяющей путь к добродетели? Наиславнейшие в ученом свете люди ищут способов распространять нравоучение. Старались украсить его блистанием прелестной одежды* чтобы возбудить охоту к чтению: так появились в книгах разговоры, письма, притчи, выдуманные путешествия. К этому роду принадлежат и сочинения, известные под именем романов, изобретенные Для того, чтобы, описывая в них различные похождения, сообщать правила добродетельного жития. Это выдумка пс нова: давно известны греческие и латинские романы.
– Пользы от романов мало, а вреда много, – возразил Сумароков. – Не спорю, есть и хорошие романы, например, «Телемак» или «Дон Кишот», может быть – еще два-три, что содержат в себе нечто достойное. Но из романа весом в пуд спирту и одного фунта не выйдет!
– Согласен, – сказал Порошин, – есть много плохих романов, но не значит же, что надо все романы отвергать! Есть романы полезные, и греметь против них немилосердно. Чтение разумно писанных романов опорачивать ни малейшей нет причины. Они учат добру, исправляют нравы. В них между звеньями цепи любопытнейших приключений положены бывают наставления и добродетели.
– Ин будь по-вашему, Семен Андреевич, – сказал Сумароков. – Устал я сегодня. Дайте приют горемычному. Я уж на свой Васильевский остров не доберусь на ночь глядя.
– Оставайтесь, Александр Петрович! Сейчас все будет.
Порошин пошел в спальню устраивать нечаянному гостю постель.
4
Вечером того же дня в кабинет Панина постучался Тимофей Иванович Остервальд. Он еще днем попросил разрешения прийти и теперь, уложив спать великого князя, выбрал время для своего доклада обер-гофмейстеру.
Панин в халате на лисьем меху сидел за письменным столом, заваленным бумагами, которые кипами возили ему каждый день из Иностранной коллегии. Он ленился их разбирать, и если советники коллегии, помогавшие ему в делах, несколько дней не приезжали, на столе свободного места совсем не оставалось.
– Садитесь и рассказывайте, что у вас происходило, Тимофей Иванович, – сказал Панин. – Весь день в коллегии маялся.
– Его высочество все исполнял по порядку, – ответил Остервальд. – Только на меня был раздражен и смотрел косо. А как я пошел просить его обедать, он, осердясь, крикнул: «Зачем тебя черт принес? Для чего не пришел ко мне Порошин?» Я государю-цесаревичу доложил, что напрасно он изволит гневаться и что нельзя ему одного Порошина любить и жаловать, остальным это, мол, обидно и они за то ненавидят Порошина. Великий князь сказал, что пусть ненавидят, а он еще больше любить Порошина станет, назло им, и что сам Никита Иванович приказывает Порошину давать всем кавалерам и учителям наставления.
Никита Иванович нахмурился.
– Не было у меня таковых приказов, – процедил он сквозь зубы. – То есть не уступал Порошину власти над всеми комнатными великого князя, это его высочество придумал.
Он постучал пальцами по столу и начальственным голосом отдал распоряжение:
– Впредь чтобы один на один с великим князем никто не оставался. Очень дурно его высочеству так изъясняться, а того хуже, если речи его происходят от чьих-либо внушений.
– Совершенно справедливо изволили заметить, ваше сиятельство, – зашептал Остервальд, – это внушение Порошина. У них с великим князем такой уговор, чтобы только его, Порошина, слушаться. Вчера, например, его высочество утром, после чая, заигрался и на урок мой не шел, а Порошин ему сказал: «Вспомните-ка договор, вы обещали всегда меня слушаться», – и великий князь тотчас пришел в учительную комнату.
– Что ж за уговор такой? – спросил Панин. – Может быть, это и ничего, ежели его высочество при напоминовении об уговоре смирен бывает?
– Так бы совсем ничего, – сказал Остервальд, – но беда вот какая. Порошин велит, чтобы цесаревич только ему одному подчинялся, и все по изволению порошинскому делал, а других, – и ваше сиятельство тоже, простите великодушно, – не слушался. А ведь это куда как далеко завести может!
– Да… может… – повторил Панин.
– Ваше сиятельство, – опять заговорил Остервальд, – я место для постройки дома выбрал на Казанской улице, а средств к тому не имею, и помощи ждать, кроме как от вашего сиятельства, не от кого…
– У меня также денег нет. Надобно вам просить великого князя, он согласится, а я буду предстательствовать за вас у государыни, – сказал Панин. – Не скрою, сударь, однако, что, дело свое сделав, то есть о Порошине доложив, отменно скоро воздаяния требуете… Поспешность такая не всегда бывает уместна. А впрочем – ничего…
Глава 10.Большие маневры
Люблю воинственную живость
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость…
А. Пушкин
1
Весна пришла скорая, славная, восемнадцатого мая Двор покинул Зимний дворец и перебрался в Летний. Однако вольности прогулки великому князю не было: лишь раз-другой он проехал в карете по Петербургу.
Уроки продолжались в обычном роде, но Порошин стал не очень доволен своим воспитанником. Он занимался неохотно, перестал рассказывать о своих играх, ссорился с Куракиным. Увидев, что компаньон трусоват, Павел по вечерам пугал его, выскакивая из-за углов, и заставлял плакать.
Что ж, Порошин был уже достаточно умудрен опытом и знал, что в придворном кругу приливы и отливы расположения высоких особ не редкость. Он твердо решил не огорчаться такими обидами и следовать раз навсегда принятой системе – делать свое дело, быть спокойным, бодрым, не расстраиваться от ядовитых намеков, злых шуток, прямых выпадов со стороны завистников и клеветников.
Холодность цесаревича – следствие наговоров, дурные мысли рассеются, и случай этот будет завтра забыт. Поссорились – помирились, так уж бывало, – думал Порошин. Как же должен быть рассмотрителен государь, чтобы не впадать в заблуждение, уметь отделять дурных людей от хороших, знать, кому верить можно и чье слово людям вредительно… Противным этому правилу поведением цари могут лишиться верных помощников, благоразумных друзей, надежных слуг – и остаться среди подлых обманщиков, льстецов, невежд и грабителей.
Но как научить великого князя отличать неправду от правды, правильного человека от плохого? Об этом не говорилось в книгах, что прочитал Порошин, и он чутьем искал решения своей педагогической задачи. Иногда он обращался к великому князю с открытым поучением и требовал от него самостоятельности мнений.
– Весьма не много таких людей, ваше высочество, – говорил он, – которые могут судить о делах и о безделках по своему просвещению и вкусу. Большая часть человечества их слушает и затем пересказывает их оценки, одни – по слепоте своей, другие – из подлости. Бывает, что некоторые люди из упрямства что-либо хвалят или ругают. Вашему высочеству надобно остерегаться, чтобы не попасть в дурные судьи. Нельзя также упорствовать в вашем мнении только потому, что оно ваше. Нужно выслушивать людей умных и просвещенных, но и в их речах придавать цену только чистым и здравым рассуждениям. В государе все это легче примечается, чем в любом другом человеке, потому что великое множество глаз на него смотрит с надеждой.
Павел соглашался с Порошиным, обещал поступать по его советам, однако благоразумия ему хватало ненадолго…
Вскоре после переезда в Летний дворец размолвка повторилась.
Когда в тот день Порошин явился на дежурство, великий князь кушал чай в опочивальне. Он ответил кивком на приветствие и продолжал вылавливать из чашки размокший сухарь. Было ясно: Павел недоволен своим кавалером, может быть, гневается на него и хочет помучить, прежде чем начнет объясняться.
Порошин старался припомнить, что в его словах или поведении могло вызвать эту немилость, но тщетно – память ничего не подсказывала. Накануне он и в беседах участия не принимал, разве что в чужую речь вставлял свое слово.
«Очевидно, дело не в моих поступках, а в наговорах, – подумал Порошин. – Но кто наговаривал и зачем?»
Он притворился, что не замечает нахмуренного лица мальчика, и рассказал о том, что вчера на Морской улице приключился пожар. Сбежался народ, и огонь потушили.
– Во время этого пожара, – продолжал Порошин, – четыре каких-то гвардии офицера напали на шедшего по улице человека в кафтане малинового цвета, с позументами, и все очень кричали. А потом человек этот вынул шпагу, встал в позитуру, и офицеры от него отошли.
– Человек в малиновом платье уж конечно был немец, – сказал великий князь.
– Из чего изволили заметить, ваше высочество? – спросил Порошин. – В точности мне узнать не привелось, но по голосу его похоже, что русский. Да уж не думаете ли вы, что наш человек не мог иметь столько предприимчивости и мужества? Ежели так, то чувствительно изволите ошибаться. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну всему светит доказаны и от самих неприятелей российских признаны.
Павел утвердительно качнул головой.
– Сверх того, – закончил Порошин, – такие необдуманные вашего высочества отзывы могут расхолодить сердца подданных, которые ныне все единодушно горят к вам усердием и верностью.
– Без сомнения, так, Семен Андреевич, – сказал Павел, – я это все понимаю. Только мне отчего-то подумалось, что ссору начал человек в малиновом кафтане, а мне кажется, что немцы всегда в малиновых кафтанах по трактирам ходят и делают забиячества.
Объяснение было не очень ловко придумано, однако извинительный тон позволял воспитателю его принять.
– Не знаю, как возникло такое убеждение вашего высочества, – сухо сказал Порошин. – В моих лекциях ни о чем похожем не говорилось, да и Тимофей Иванович о немцах в трактирах с вами не беседует. Но отчего ж вам было сразу не изъясниться в этом духе, не заставляя меня пускаться в длинные рассуждения?
Следующий день прошел без происшествий. Павел отлично выучил урок и ответил его Порошину. Видимо, настроение великого князя изменилось, он попытался даже приласкаться к Порошину, спрашивал у него, где самая сильная крепость и как называются реки, текущие в Сибири, полагая, что вопросы заставят Порошина разговориться, что уже случалось. Порошин, и верно, начал было рассказывать с воодушевлением, но спохватился и ответил только, что о крепостях подробно доложить не может и что крепости сильны не своими стенами, но решимостью обороняющего их войска, потом назвал сибирские реки – Обь, Енисей, Ангару, Лену, Индигирку. А вскоре попрощался и ушел домой.
Воскресенье Порошин провел во дворце, слушал проповедь отца Платона, обедал, разговаривал с великим князем, точнее – отвечал на его вопросы, но будто бы не замечал желания мальчика помириться. Трудно было Порошину принудить себя к односложным, холодным ответам, однако он рассудил, что Павла надо отучать слушать наушников, и выдерживал характер. Дружба и доверие – не шутка, от мальчика можно требовать устойчивости мнений. И что за цена близости, которую прервать может любой сплетник?
Порошин ждал, что Павел раскается и признает себя виновным в ссоре, но прошел еще один день, прежде чем примирение состоялось.
В понедельник отношения были натянутыми. За обедом говорили не много. Великий князь обращался с вопросами к Порошину, однако пространных ответов не получал.
На послеобеденном уроке воспитатель объяснял деление дробей. Ученик слушал его и вдруг спросил:
– Долго ли нам так жить, Семен Андреевич?
Порошин растерялся от неожиданности вопроса и едва сумел сказать:
– Сколь мне чувствительна несправедливость вашего высочества, изъяснить не умею. Могу только сказать, что гневаетесь на меня вы напрасно. Однако, чтобы от занятий не отклоняться, возвратимся к дробям. Павел утер слезу, побежавшую по щеке, и тихо проговорил:
– И мне худо, Семен Андреевич…
Наутро, едва Порошин собрался войти в опочивальню великого князя, тот выбежал ему навстречу, обнял и принялся целовать, приговаривая:
– Прости меня, голубчик, я виноват перед тобою, поверил всяким глупостям. Вперед уж никогда больше ссориться не будем. Вот тебе моя рука!
Порошин поцеловал руку великого князя.
– Да будет так, ваше высочество, – сказал он. – Не забывайте лишь своего слова!
2
Красносельский лагерь и маневры имели большое значение для императрицы. Прошло три года ее царствования. Известно было, что прежний государь ничем другим, кроме армии, не занимался и, что говорить, дисциплину в ней держал, а строевое ученье довел до предела совершенства – солдаты маршировали как заведенные, по команде «смирно» переставали дышать. Екатерина же вела тысячу гражданских дел, втихомолку писала «Наказ» для тех, кто будет составлять новый свод законов, и за военными упражнениями не наблюдала. Что за последние годы произошло с русской армией, стала она лучше или хуже, чем была, новые генералы побойчее тех, что командовали в Семилетнюю войну или столь же осмотрительны и неторопливы?
Вице-президент Военной коллегии, – президента туда императрица не поставила, предпочитая управлять российскими войсками самолично, – Захар Григорьевич Чернышев во всем соглашался с матушкой царицей и начал исподволь готовить полки для маневров.
В тридцати верстах к юго-западу от Петербурга, близ Красного села, находилась местность, удобная для разбивки лагерей, – в меру пересеченная, не болотистая, частью лесистая, частью открытая. Там и решено было назначить сбор частей.
План учений отрабатывала Военная коллегия. Идея, одобренная Екатериной, была несложна, для того чтобы генералы не запутались, – наступление на обороняющегося противника. Участвовали в игре семнадцать пехотных и восемь кавалерийских полков, бомбардирский полк в составе сорока четырех орудий и ряд мелких подразделений.
Войска разбили на три дивизии. Первой командовал генерал-фельдмаршал граф Бутурлин. Ему были даны полки лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Конной гвардии, а кроме них два кирасирских полка – Первый его высочества цесаревича Павла Петровича и Третий. Первая дивизия роли не получила и составила как бы резерв главных сил наступающих.
Эти силы представляла собой Вторая дивизия под начальством генерала князя Александра Михайловича Голицына, человека усердного, но нерешительного, в чем позже и пришлось на деле убедиться. У него под командою были два конных карабинерных полка – Новгородский и Санкт-Петербургский, бомбардирский полк и восемь пехотных: Смоленский, Ярославский, Великолуцкий, Нарвский, Нашебургский, Низовский и Суздальский.
Третьей командовал генерал граф Петр Иванович Панин. В состав дивизии вошли два карабинерных полка – Архангелогородский и Нарвский – да шесть пехотных: Первый Московский, Рязанский, Тобольский, Кабардинский, Копорский и Псковский.
За день до маневров Павел вместе с государыней смотрел войска, уходившие в Красное село, на лагерный сбор. Великий князь был в адмиральском мундире.
Для встречи с полками отправились на дачу графа Сиверса, стоявшую по Петергофской дороге в двенадцати верстах от столицы. Прибыв туда, сели играть в карты, государыня с графом Захаром Чернышевым и генералом князем Голицыным – в ломбер, Павел со своими комнатными – в короли.
Через час граф Григорий Орлов, наблюдавший с башни за дорогой, – все-таки он был артиллеристом, да и по натуре склонен к наблюдениям, – пришел сказать, что войска приближаются.
Императрица в сопровождении свиты поднялась на верхний балкон.
Первым в колонне войск шел бомбардирский полк – три тысячи солдат. Каждое орудие везли шесть лошадей – коренные и два уноса.
«Вот пыли-то будет! – подумал Порошин. – Кто ж так распоряжался маршем? Артиллерия идет без прикрытия, – ну, в мирное время не опасно, – да ведь она, пущенная вперед, всю пехоту запорошит!»
И верно – за бомбардирским полком поплыло огромное облако пыли, и в ее клубах показалась Третья дивизия. Граф Петр Иванович Панин ехал верхом, черный от пыли, но вид имел хватский. Он салютовал императрице шпагой.
Перед Сиверсовой дачей ряды подтянулись, – офицеров предупредили, что государыня будет смотреть марш, – и солдаты прошли молодцами. Петр Иванович, остановивший коня, чтобы пропустить перед собой дивизию, поскакал затем в голову походной колонны.
На следующее утро великий князь, поднявшись с постели, забросал Порошина вопросами о полках, об их знаменах и пушках. Не дослушав ответы воспитателя, он схватил ружье и стал проделывать приемы, как заправский солдат.
Настало время уроков, но мальчик ни во что не вникал. Остервальд, побившись полчаса, отпустил его играть. Кроме капральских команд и завтрашней поездки в лагерь, у великого князя в голове ничего не держалось.
За обедом разговор вился также вокруг военных тем. Прибыл граф Пушкин, вице-полковник Первого кирасирского полка, которым командовал великий князь. Зашел также граф Петр Семенович Салтыков, одетый по-походному, в сапогах и с шарфом – знаком офицерского достоинства. Говорили о военачальниках и столковались на том, что Петр Александрович Румянцев хотя и строг на службе, но к офицерам относится хорошо и, если заметит неисправность, чаще трунит, чем наказывает. Захар Григорьевич Чернышев совсем иного нрава, строг до чрезвычайности, а по утрам даже почти неприступен. Приказывает он в полслова и милого вида никому не сделает, так что подчиненные ему генералы перед ним трепещут.
Вечером великий князь был приглашен к императрице. Она возвратилась из Красного села, где осматривала строящийся лагерь, не объявляя себя, и командиры как бы не замечали неизвестную даму, окруженную генералами и гуляющую по территории их частей и подразделений. Павел с восторгом слушал рассказы о лагере и не торопился уходить в опочивальню.
Следующий день был посвящен окончательным сборам и приготовлениям. Великий князь проверял исправность своего кирасирского мундира, изготовленного на прошлой неделе, упражнялся в отдаче рапорта и долго наблюдал, как примеряли кучера сшитую для них кирасирскую форму.
Однако его пришлось потревожить: на прием явился командир Первого Московского полка Михаил Федотович Каменский.
– Здравия желаю, ваше высочество! – заревел он, едва Павел вошел в залу. – Прошедшего года имел счастие находиться в лагере под Бреславу, где его величество король прусский Фридрих ученье производил, о чем сочинил описание, и вашему высочеству почтительнейше подношу.
Каменский протянул Павлу тонкую книжку.
Полковник был большим поклонником короля Фридриха Второго, пользовался репутацией образованного офицера, и его посылали посмотреть, как ведет боевую подготовку прусская армия.
– Отлично принимал меня его величество, – похвастал Каменский. – Весь лагерь мне сам показал, и смею думать, что поездка моя великую пользу нашей армии принесет, ежели труд мой внимательно изучен будет. – Я думаю, что не очень великую, – тихо сказал Павел Порошину.
– Я тоже, ваше высочество, – услышал он в ответ.
– Хотя правнуку Петра Великого меньше всех нужны примеры иностранных государей, – снова заговорил Каменский, – однако мое описание напомнит вашему высочеству недавнее счастливое для российского войска время, когда оно видело лицо своего государя после сорока лет терпения.
– Как великий князь должен вас понимать? – насторожился Порошин. – Российские войска если и не в полном составе по причине отдаленности расположения, то в лице гвардии всегда видят своих государей.
– О том всем ведомо, – поспешил смягчить обмолвку почитатель Фридриха, – и ныне здравствующая государыня, как державная тетка ее императрица Елизавета Петровна, и прежде бывшие государыни истинными попечительницами бывали российскому воинству и есть. Но не командовали они строем, как с охотою делывал это покойный батюшка великого князя, блаженной памяти император Петр Федорович.
Упоминание об отце растрогало Павла:
– Я тоже буду командовать сам, учить свой кирасирский полк и всю армию, как батюшка учил.
– И прусского короля опытностию превзойдете, – уверил Каменский. – Однако сказать надобно, что я с ним в течение маневров не разлучался, все дни вместе ездили. Вот прямо начальник – отец подчиненным! Генерал-поручик Зейдлиц, приготовляя полк для атаки, упал с лошади. Король посадил его в свою коляску, велел отвезти в деревню и каждые четверть часа посылал узнавать о его здоровье, а напоследок и сам поехал. Но строговат король! Полковнику Ангальту приказано было занять две деревни, а он, кроме них, занял и третью. Король за это арестовал его, сказавши: «Учитесь исполнять повеления, чтобы потом лучше повелевать другим»…
– Неверно вы говорите, – прервал рассказчика Порошин, – что внуку великого государя не нужны примеры других владетелей. Всякому государю как злые, так и добрые примеры правления в других землях знать весьма полезно.
– Пусть по-вашему, – торопливо согласился Каменский, желая выговорить главный свой довод. – Вам, ваше высочество, тоже следует любить русское войско подобно тому, как прусский король свое любит. С помощью войска цари народом повелевают и защищаются от насилия врагов. Какую помощь получила Греция в битве при Марафоне от всей премудрости философов своих, ученых и художников, если б не было в ней Мильтиада и десяти тысяч воинов? Не должен ли каждый признаться, что все знание философов служило лишь к сочинению подлых песен в честь победителей? Но к чему древняя история? Славный прадед ваш, во всем давая подданным пример, не погнушался быть ни солдатом, ни матросом, но не был никогда подьячим или протоколистом в какой-нибудь коллегии либо в Сенате.
– Что философы не сочиняют песен, а складывают их стихотворцы, это всем, кроме невежд, известно, – возразил Порошин. – Что государь Петр Первый был и солдатом, и матросом, тоже все знают. Из ваших же слов явствует, что вы поучаете великого князя любить только военных людей, а штатских презирать. Но разве одни только военные люди могут содержать отечество? К тому нужны земледельцы, заводские работники, ученые, судьи, канцеляристы и другие многие. Я еще вам скажу, что если покойный государь Петр Первый сам не был подьячим, однако последнему подьячему изволил определить больше жалованья, нежели военным унтер-офицерам. Из этого видно, чьи труды чьим предпочтены были таким разумным государем.
Каменский не нашел, что ответить Порошину, и, надувшись, попросил разрешения откланяться.
– Желаю вашему высочеству и вверенному вам кирасирскому полку победы на маневрах! – гаркнул он, схватил руку Павла, приложился, повернул налево кругом и, не сгибая в коленях ноги, зашагал по зале.
– Я хочу позвать его к нашему столу, – сказал Порошину великий князь, – а ты его рассердил, и он ушел. Вороти!
– Как будет угодно вашему высочеству, – ответил Порошин. – Осмелюсь лишь напомнить, что за беседою мы опоздаем в лагерь. Все уже поехали.
– Тогда бог с ним, давай обедать! – воскликнул Павел.
С обедом расправились мигом, но экипажей пришлось дожидаться – все были в разъездах. Отправились в седьмом часу и на место прибыли в девятом. Кареты остановились перед красносельским дворцом, и Павел узнал его. Это был деревянный Зимний дворец, построенный архитектором Растрелли на Невской перспективе, у набережной Мойки. В нем скончалась императрица Елизавета Петровна и праздновала свое вступление на престол нынешняя государыня. В этом дворце ночевал великий князь, дожидаясь ее возвращения из похода в Петергоф, на поиски его отца… После воцарения Екатерина приказала перенести дворец в Красное село, что и было исполнено.
Великого князя встретили Григорий Орлов и секретарь государыни Елагин. Они указали комнаты Павлу и его свите, повели ужинать. Мальчик очень устал, но бодрился и расспрашивал Орлова о лагере. Наконец Порошин строго сказал, что время позднее и надо ложиться в постель.
– Если ваше высочество, – прибавил он, – все о лагере думать будете и не изволите выспаться, завтра дурно себя почувствуете и вас Никита Иванович в армию, перед сорок тысяч солдат и офицеров, не повезет.
Слова эти мгновенно подействовали.
– Спать, спать! Скорее! – закричал Павел. – Что ж ты не ведешь меня? – Только того и жду, ваше высочество, – сказал Порошин.
Великий князь брел к своей постели, зажмурив глаза, чтобы заснуть разом, как только ляжет.
3
На другой день был смотр войскам.
После обеда великого князя, одетого кирасиром, с укороченным по росту палашом, повезли к лагерю в полутора верстах от Красного села. Верховых лошадей вели следом.
Армия стояла на поле в две линии. Главная квартира была на склоне Вороньей горы, в Дудергофе, а полк наследника располагался на правом фланге первой линии.
Порошин остановил кареты далеко за фронтом. Все вышли и пешком направились к палатке вице-полковника Пушкина, близ которой уже собрались офицеры и генералы.
Павлу, как великому князю, наследнику престола, подали рапорты старший кавалерийский начальник генерал-поручик Берг, командир бригады, в которую входил кирасирский полк, генерал-майор Алексеев и вице-полковник Пушкин. Мальчик слушал устные доклады, принимал письменные рапорты и передавал их Порошину, стоявшему за его спиной с кожаным портфелем.
Затем все пошли по первой линии, смотрели палатки. Кирасиры – тяжеловооруженная конница, в их ряды берут самых рослых людей, которым подбирают крупных лошадей. Грудь солдата и офицера защищает медная кираса – панцирь, способный выдержать пулю и 1 удар пикой.
Заслышав команду: «Становись!», полки начали выстраиваться. Великому князю подали коня, и Порошин подсадил его в седло. Павел разобрал поводья, послал коня вперед и встал во фронт правее первого эскадрона своего кирасирского полка. Слева от него занял место Пушкин.
Генерал-поручик Берг, гарцевавший на правом фланге, вдруг остановил коня, обратил свое лицо к фронту и протяжно закричал, на немецкий манер смягчая звук «л»: – Слюшай! Паляши-и-и…