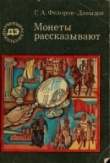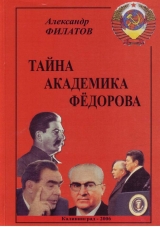
Текст книги "Тайна академика Фёдорова"
Автор книги: Александр Филатов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Ну, через неделю, к воскресенью переедем, но. только если с тобой ничего не случится, если твёрдо пообещаешь во всём меня слушаться и не рисковать своими хрупкими косточками! Договорились? Обещаешь?!
Ольга Алексеевна, взглянула на своего сына. "Боже, как он устал! Какие синяки под глазами! Как похудел! Смотри-ка, седина появилась!" – подумалось ей. Но сказала она совсем другое, улыбнувшись своей будто бы робкой, несмелой улыбкой, которую многие принимали за признак нерешительности и слабости характера, но которая в действительности лишь выражала природную доброту:
– Договорились, начальничек! Я буду слушаться. Обещаю!
Оглянувшись на дверь и наклонившись к самому уху матери, Фёдоров, знавший о необычайно остром слухе Валентины, как и о её склонности всё подслушивать, тихо, полушёпотом произнёс:
– Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни по какому поводу не ссорься в эти дни с Ведьмой! Постарайся быть поласковее, при случае вырази сожаление, что скоро будете жить с ней в разных местах.
Улыбка на лице Ольги Алексеевны исчезла, и она серьёзно, молча глядя в глаза сына, несколько раз утвердительно кивнула в ответ. Видимо, у него были серьёзные причины обращаться с такой просьбой.
Фёдоров помчался на стройку, не пообедав. Увидев Абдулхамида, выполнявшего обязанности бригадира, Алексей Витальевич отвёл его в сторону и сказал:
– Нам придётся сильно поторопиться, Хамид! Не позднее следующей среды пол должен быть окончен, потому что в пятницу – субботу я обязан, обязан! – забрать сюда мать. А ещё обои клеить – не могу же я её поместить в комнату с голой штукатуркой на стенах! Скажите, что вам понадобится.
Хамид, внимательно глянувший в лицо явно расстроенного чем-то нанимателя, надрывавшегося в последнее время на стройке, помолчал, что-то прикидывая в уме, и ответил:
– Не волнуйся, профессор! Во вторник мы закончим. В среду – четверг вместе поклеим обои. А сегодня надо привезти ещё пять мешков клея для плиток. Тогда хватит!
Фёдоров крепко пожал Хамиду его четырёхпалую, без мизинца, руку и сообщил, что немедленно отправляется в Калининград за клеем. По дороге в Калининград он размышлял о том, сколько же придётся ещё доплатить за срочность работ и где взять необходимые деньги немедленно, сейчас. В прежней-то своей жизни он брал заказ на выезд за границу, чтобы перегнать автомобиль или в качестве переводчика. Но сейчас он не мог, просто боялся, хотя бы на секунду выпустить события из-под своего контроля. Вновь пережитое им недавно чувство раздвоенности сознания, ощущение пребывания одновременно в двух временах, в двух разных реальностях говорило ему: "Берегись! Всё ещё пока что ненадёжно, вызванные тобой изменения реальности нестойки!" Какие уж тут поездки за границу, какие подряды?!
В Калининграде, заехав в "Викторию" Фёдоров купил для жены гранатовый сок, пару апельсинов, бананы, несколько литовских сладких сырков. Заведующую отделением патологии беременности Татьяну Владимировну он застал уже выходящей из ворот больницы. Резко затормозив, он бросился из машины к ней навстречу:
– Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Как там, у моей единственной?..
Заведующая была врачом ещё старой, советской школы – с чувством ответственности и пониманием своего долга. За прошедшее время она уже дважды с негодованием отвергла его попытки, впрочем, весьма неумелые, пополнить её домашний бюджет. Она видела, что и не первой молодости пациентка, и её муж страстно хотят сохранить беременность, просто больны от страха перед опасностью выкидыша. Но угроза, как она была вполне уверена, не настолько велика. К тому же, всё необходимое, и даже больше, уже сделано. Следовательно, причин для волнений нет – уже более нет! Так она Фёдорову и сказала. Тот искренне поблагодарил и помчался в отделение. Не мог же он рассказать заведующей, что им с супругой довелось пережить здесь в иной реальности!
Тепло побеседовав с женой несколько минут, оставив ей привезённую передачу, Фёдоров отправился в магазин за 82 клеем для плиток, которыми рабочие укладывали пол кухии, ванной, прихожей. В той, прошлой действительности Фёдоров сделал это сам, он и сейчас удивлял рабочих-узбеков своими навыками, полученными в той жизни. Но теперь следовало спешить. Времени оставалось в обрез. А тут ещё предстоящая возня с обоями, приобретение погружного насоса для скважины. Во всех этих делах Алексею Витальевичу здорово помогали знания, принесённые из будущего: он точно знал, где и какой насос покупать нельзя – фирмочка закроется, а насос выйдет из строя во время гарантийного срока. Он отлично помнил, какие именно обои понравились его жене. Приобретая теперь точно такие же, он был уверен, что угодит своей возлюбленной и вызовет у неё приятное удивление абсолютно точным пониманием её вкуса. Он знал, что весёленькие обои, приобретённые в той реальности для маминой комнаты, вызовут у неё раздражение своей пестротой и с большой вероятностью догадывался, какие окажутся наиболее подходящими.
Но все эти знания не только облегчали его действия, но и служили одновременно дополнительной нагрузкой на психику. Таких нагрузок на психику он не знал даже в годы своего студенчества. А студентом Фёдоров был настоящим, в полной мере отвечавшим первоначальному смыслу, этимологии этого латинского слова, ведь studio означает пристрастие, старание. На старших курсах помимо учёбы он работал ещё и над кандидатской диссертацией, одновременно приобретая необходимые навыки практической работы хирурга на ночных дежурствах. Но тогда он был моложе, здоровее, выносливее. А теперь для защиты своей психики не предусмотрел ничего. Хватит ли сил? Выдержит ли он, его душа, двойную нагрузку? Этого не знал никто!
Фрагменты прошлого.
2. Студент
В шестьдесят шестом, когда Алексей окончил школу и поступил в институт, был двойной выпуск. Вместе с ними – полновесными одиннадцатиклассниками – аттестаты выдали и тем ребятам, которые учились по новой программе: без «политехнического образования» и всего десять лет. Много позже, уже став зрелым мужчиной, Алексей, как и многие его однолетки, оценил одиннадцатилетнее пребывание в школе как незаменимый жизненный опыт. Это было одним из очень немногих полезных начинаний Хруща (как многие сверстники Алексея называли незабвенного Никиту – зачинателя разрушения великого Советского Союза). Три старших класса, то есть, фактически с пятнадцатилетнего возраста учащиеся советских средних школ два дня в неделю учились и работали на производстве. Критики одиннадцатилетки утверждали, что практически никто из окончивших школу не стал работать по специальности, приобретённой в девятом-одиннадцатом классах. Доля правды в этом была. Но, во-первых, кто сказал, что школа должна быть чем-то вроде ремесленного училища (позднее их называли ПТУ и СПТУ)? Разве не в формировании самостоятельной личности, не в подготовке её к самостоятельной жизни, не в приобретении навыков самостоятельного мышления состояла главная задача советской школы? А, во-вторых, кто это установил, что приобретённая профессия не пригодилась выпускникам одиннадцатилеток в жизни? Алексей, например, лишившись в результате «реформ» всех возможностей профессиональной работы, несколько лет выживал тем, что доставлял богатеям автомобили из Германии и Бельгии. Смог бы он, много лет пробыв лабораторным учёным, это делать, не приобрети он в школе настоящих глубоких, подкреплённых трёхлетней практикой знаний и навыков в автоделе и «корочек» шофёра– профессионала? Сомнительно!
Но все эти соображения пришли позже, а тогда, в выпускном одиннадцатом классе школы, все его сверстники сходились на том, что оканчивающие с ними школу десятиклассники какие-то "недоделанные", говоря грамотным языком,– менее зрелые, с меньшим жизненным опытом, и в то же время с претензией на равенство с ребятами, прошедшими трёхлетнее производственное обучение. Ясно, что эта ощутимая разница в зрелости личности обусловливалась не одним годом (ведь два дня в неделю в течение трёх лет как раз и дают в сумме один учебный год!). Нет, дело было как раз в трёх годах – в трёх классах обучения по иной программе! Немаловажным было и то, что производственное обучение мальчиков и девочек в одиннад– цатилетке велось раздельно. Позже, став профессиональным учёным, Алексей провёл частное социологическое исследование и выяснил (вернее, подтвердил для себя), что мужчины и женщины его возраста более зрелы, более надёжны в семье, иначе говоря – более сформировались как мужчины и женщины именно благодаря раздельному "производственному" обучению, именно в трёх старших классах школы, где остальные четыре дня в неделю оба пола обучались вместе. Однако, как бы то ни было, а сверстникам и сверстницам Алексея в 1966 году приходилось считаться с тем, что в вузах страны при поступлении будет двойной конкурс. Видимо были и какие-то официальные исследования, оценившие конкурентоспособность поступавших в вузы одиннадцати– и десятиклассников, но Алексей особенно не задумывался над этим ни тогда, ни позже.
При поступлении в медицинский институт тогда, как и в прежние годы, сдавали всего два вступительных экзамена: по химии и по физике, а также писали сочинение. Но Алексею, как школьному медалисту, предстоял лишь один экзамен, по химии. Он и готовился только к этому экзамену, стараясь расширить круг своих познаний и углубить их. Недели через три от начала подготовки к вступительному экзамену пришла мысль: "А что, если не сдам на "пять" – ведь тогда придётся и физику сдавать, и писать сочинение!" Но было уже поздно готовиться ещё и к этим экзаменам. Так что пришлось приналечь на химию ещё больше: по принципу "пан или пропал". Изучив вдоль и поперёк пособие Хомченко, Алексей не поленился почитать и специальные химические журналы, ходил в областную библиотеку. Правда, в Воронеже без городской прописки разрешалось пользоваться лишь читальным залом, а Алексей ещё не умел работать над книгами, когда вокруг множество людей и нет полной тишины. Но и этот опыт занятий в библиотеке пошёл на пользу – пригодился и при поступлении в вуз, и в последующие годы профессиональной научной работы, когда приходилось за ограниченное время разбираться в обилии источников информации, выделять главное, отсекать второстепенное (не забывая о нём) и при этом работать не всегда в комфортных условиях, зачастую в шумной обстановке.
Среди медалистов при поступлении в медицинский институт тоже оказался конкурс. Самым большим он оказался на лечебном факультете, куда Алексей подал документы. На вступительный экзамен он отправился, проглотив таблетку триоксазина. Но всё равно, что тогда происходило, от волнения запомнить не сумел. Помнил только, что Вера Ивановна, преподавательница, принимавшая экзамен, задала ему вопрос о гидридах, которых не было ни в школьной, ни во вступительной программе. Так и заявив об этом экзаменаторше, Алексей стал обстоятельно отвечать на заданный вопрос.
Позже, уже став студентом, Алексей узнал, что его результат экзамена был отнесён к категории "выдающихся ответов". А экзаменаторша, как выяснилось, слыла среди студентов "зверем", у которого невозможно получить отличную оценку. Однако Алексею это удавалось и при поступлении в институт, и позже, когда "зверь" стала для него ассистентом одной из институтских кафедр химии. При этом она вела как раз ту группу, в которую он был зачислен. Вера Ивпановна терпеть не могла ни тупиц, ни зубрил, ни подхалимов, была чрезвычайно требовательна, но и справедлива. (Впрочем, тупиц среди однокурсников Алексея за все шесть лет так и не обнаружилось, а склонные не к пониманию, а к „зубрёжке" попадались.)
На практических занятиях Вера Ивановна никогда не отпускала студентов, окончивших лабораторную работу, но. поощряла их самостоятельность. Алексей один раз получил тротил (в мизерном количестве, конечно) и успешно взорвал его, навсегда запомнив полученный результат. Одновременно он получил и практическое представление о том, что такое тротиловый эквивалент ядерного оружия. Надо ли пояснять, что за маленький взрыв Алексей не был наказан "зверем"? Напротив, поощрён к новым изысканиям. Задав несколько вопросов, она изрекла:
– Так, взрывчатые вещества Фёдоров у нас освоил! В следующий раз займитесь, пожалуйста, чем-либо другим!
В следующий раз Алексей попробовал получить из известного всем (в те годы) фотографического реактива соль синильной кислоты. Не зная, как убедиться в правильности произведённых реакций (не пробовать же цианистый натрий на вкус!), Алексей робко попросил совета у преподавательницы. Та при помощи короткого опроса убедилась, что в результате реакций, произведённых Алексеем, цианид действительно мог образоваться, кивнула головой, достала из всегда запертого на ключ шкафчика какой-то реактив и быстро произвела некую реакцию:
– Всё правильно! К следующему разу, вам, Фёдоров, надлежит ответить мне на два вопроса – во-первых, какую реакцию я сейчас произвела, во-вторых, какие существуют антидоты при отравлении цианидами! Доложите перед всеми, время доклада – не более пяти минут. Всё!
Вслед за Алексеем и другие студенты (а в группе их на младших курсах было пятнадцать) стали стремиться выкроить время для личных опытов. А это требовало более основательной подготовки к занятию – иначе не то что не останется времени, а просто не успеешь и программное-то задание должным образом завершить. Позже, попав в разряд ППС (профессорско-преподавательского состава) вуза, Алексей перенял у Веры Ивановны это отношение к студентам: требование глубоких знаний, основанных на понимании, поощрение самостоятельности мышления и творчества студентов. О нём тоже пошла слава как о чрезвычайно требовательном экзаменаторе, которого не уломаешь, не упросишь, не разжалобишь. И всё же студенты тех групп, которые он вёл, проявляли инициативу и в традиционно уважительных, но удивительно товарищеских тонах поздравляли его не только с днём Советской армии и Новым годом, но ещё и с днём рождения. Как они узнали дату, осталось загадкой.
Но в этой главе мы собирались рассказать о другом: как и почему Алексей Витальевич Фёдоров подошёл к идее возможности влияния на прошлое. На втором курсе началось преподавание марксистско-ленинской философии. Как известно, она состоит из трёх составных частей – диалектического материализма, исторического материализма и научного коммунизма.
Добросовестно приступив к освоению новых дисциплин, Алексей был неприятно поражён. Имея до той поры лишь школьные (то есть – очень куцые) сведения, он ожидал от новых для него учебных предметов чего-то очень глубокого и одновременно возвышенного. Однако же всё оказалось гораздо проще, нет – примитивнее. К тому же, Алексей улавливал тот самый механицизм, который на словах отвергался и осуждался преподавателями марксистской философии. В чём дело? Почему преподаваемый студентам марксизм, который должен быть "не догмой", сводится преподавателями к набору догм? Может быть, всё дело в том, что ни на одной из кафедр общественных дисциплин в институте нет докторов наук?
Вообще-то, это было странно и непривычно: в родном для Алексея институте работало несколько авторов официальных всесоюзных учебников (например, по гигиене, по медицинской психологии, по кожным и венерическим болезням), несколько членов иностранных академий наук (хотя бы член французской академии – акушер-гинеколог Покровский). Однокурсником Алексея был сын заведующего кафедрой госпитальной хирургии – автора синхронной дефибрилляции сердца. Другой профессор был автором методики ультразвуковых исследований сердца. Институт, где учился Алексей, был, что называется, Школой.
С ней были связаны, к примеру, такие всемирно известные имена, как Лепорский, Иценко. Да и писатель– фантаст Александр Беляев писал свою "Голову профессора Доуэля", будучи вдохновлённым результатами работ Брюхоненко, одного из профессоров Воронежского мединститута. Сам институт, ныне по праву носивший имя своего бывшего профессора Бурденко – знаменитого непйрохирурга, возник сперва как факультет, после эвакуации в 1918 году университета из Дерпта (впоследствии – Тарту). Некоторые из учебных микроскопов восходили ко временам, когда в Дерпте учился Пирогов. А библиотека! Во времена студенчества Алексея она насчитывала без малого 200 000 томов!
Нет! Что-то с философией было не так! Попробовав, как и на всех других дисциплинах, поговорить с преподавателями по душам, Алексей был неприятно поражён: вдумчивость, критика, идеи, самостоятельность мышления здесь не поощрялись! Его ещё и одёрнули! Алексей поначалу объяснил это отличие преподавания общественных дисциплин от преподавания всех остальных предметов личными качествами и уровнем доцентов и ассистентов.
Лишь десятилетия спустя он узнал, что догматизация философии, широкое внедрение начётничества и искусственный отрыв от жизни в сфере наук, имеющих социально-политическое значение, были ключевым элементом в тщательно спланированной информационно– психологической войне, ведущейся против русского народа и нашей страны. А в годы студенчества Алексей поступил просто: быстро овладев небогатыми крупицами действительных знаний в сфере названных наук и легко усвоив фразеологию, он попал в разряд тех немногих, кому не приходилось сдавать экзамены – ставили "автоматом" "отлично" – и всё! Впрочем, Алексея, ставшего после шести курсов обучения первым по оценкам среди трёхсот выпускников, иногда освобождали и от сдачи экзаменов по специальным дисциплинам. Так что никто не заметил ничего удивительного в отлынивании способного студента от общественных дисциплин.
Параллельно он увлёкся чтением "старых философов" – благо возможности институтской библиотеки к этому располагали. Алексея неприятно поразил Гегель с его явно оппортунистической максимой "всё разумное – действительно, всё действительное – разумно". От Гегеля несло душком тоталитаризма. Локк и Гоббс отвратили Алексея как явные радетели социального расизма и предтечи социал-дарвинизма. А Кант с его категорическим императивом, практически требовавшим соблюдения высоких моральных норм, привлёк к себе. Ещё более привлёк Алексея дуализм Канта. По Канту получалось, что ни материя, ни дух (по-современному – информация) – не являются первичными или вторичными; лишь взаимодействие обоих начал даёт жизнь во вселенной. Так понял Канта Алексей.
Разбираясь в подлинниках книг Канта, Алексей твёрдо установил факт: слепо доверять переводам нельзя! Например, в корне неверна, не соответствует воззрениям Канта концепция о "вещи в себе". Не писал такого Иммануил! Он говорил нечто совсем иное: вещь сама по себе, "вещь для себя" – это нечто иное, чем та же вещь в нашем восприятии, "вещь для нас". Кем нужно быть в интеллектуальном плане, чтобы оспаривать эту простую истину?! Читая Канта, он задумался над отповедью, полученной в перерыве одной из лекций от доцента, читавшего курс "диамата". Вопрос он лектору задал, как ему казалось, безобидный. Он просил всего лишь объяснить: как материя может существовать в форме вещества и в форме поля, которое веществом не является? Ведь materia в переводе с латинского и есть "вещество"! Значит поле – это нечто иное: и не вещество, и не дух, а что-то третье?
Латинский язык Алексей знал неплохо и согласиться с отповедью доцента не мог Во всяком случае, как выяснилось из разговоров с бывшими школьными товарищами, в "меде" латинский язык преподавали лучше, чем в "педе" или на юрфаке в университете. Но и с преподавательницей латинского языка Алексею тоже очень повезло: она великолепно знала не только латынь, а была ещё и официальной переводчицей большинства опубликованных произведений Сименона. Иногда этим пользовались некоторые студенты, любители комиссара Мегрэ.
Алексей пошёл на кафедру иностранных языков, нашёл свою бывшую преподавательницу и попытался "провентилировать" вопрос о материи и веществе. Он сразу понял, что подтекст его вопроса не остался тайной, но получил полный, пожалуй, исчерпывающий ответ, который лишь укрепил Алексея в подозрениях о неладах в официальной философии, преподаваемой студентам.
Для себя Алексей уже в шестидесятые годы вывел такую картину мироздания: существуют три начала – информация, материя (вещество) и поле (не вещество); при этом поле связует информацию (дух, идею) с материей (веществом); и если информация обусловливает форму (формы) материи, то вещество обеспечивает сохранение (пополнение, развитие) информации (идеи, духа).
Все эти три начала взаимосвязаны и по отдельности не существуют. Как известно: "Энергия не появляется и не исчезает, а лишь переходит из одного вида в другой". Этот принцип должен касаться всех трёх первоначал. Существует два основных процесса: один ведёт к хаосу (беспорядку) – это энтропия; другой – антиэнтропия – упорядочивает. Единственный известный вид антиэнтропии – это жизнь. Смерть – результат и сущность энтропии. А разговоры о "тепловой смерти вселенной" могут вести только те, кто не понимает ни объёмов жизни, ни разнообразия её форм. Оба процесса имеют равную силу и значимость. Из чего, однако, не следует, что всегда и везде это именно так. В определённый отрезок времени и в определённом месте вселенной может превалировать один из основных процессов существования вселенной. Это должно быть как-то сопряжено со взаимодействием между тремя началами мироздания – материей – полем – информацией.
Дальше этих представлений Алексей не пошёл: он всё же учился не на философском факультете, не философия была основой его учёбы. Иные предметы требовали и сил, и времени, и памяти, и мыслительных способностей. Но созданная им самим и для самого себя картина трёхэлемент– ности мироздания, пусть примитивная и незавершённая, примиряла его с необходимостью изучения официальных общественных дисциплин. Кроме того, эта картина представлялась ему согласованной и с религиозным догматом о триединстве Бога (бог-отец, бог-сын, бог-дух святой), и с впитанными с младенчества представлениями русской культуры всегда говорившей о трёх элементах – о чём бы ни шла речь, например, в сказках. Представления Алексея не противоречили и теории информации, широкие дискуссии о которой (как и о кибернетике) совпали с годами его студенчества, и сведениям из генетики, которую как раз начали преподавать в институте – пока ещё даже без учебников.
Алексей считал, что и с генетикой ему повезло: в школе всё преподавание биологии велось с позиций незабвенного Лысенко, а в институте – с позиций тех, кого громили (или пытались громить) лысенковцы. Так что у Алексея была возможность, что называется, изнутри разобраться в воззрениях, представлениях и аргументах обоих направлений. Но вот что Алексею сразу не понравилось в представлениях генетиков: с помощью нуклеотидов НЕВОЗМОЖНО записать в молекулах ДНК одновременно всю информацию и об "архитектуре" живого организма, и о "строительных веществах", из которого он должен быть построен, и о пропорциях – куда и как эти строительные вещества должны быть доставлены (при "строительстве" организма), и об основных алгоритмах функционирования построенного организма (таких, в частности, как инстинкты).
Сделав для себя этот вывод, основанный на простых математических расчётах, Алексей в свои студенческие годы на этом успокоился. Он знал, конечно, довод апологетов теории вероятности, что при достаточном количестве времени сидящая за пишущей машинкой обезьяна (или её далёкий потомок) посредством случайного нажатия на клавиши напечатает "Войну и мир", но воспринимал это лишь как неудачную шутку. Не мог всерьёз он воспринимать и Дарвина с его "Происхождением видов" – этого уже не позволял расчёт, сделанный на основе теории вероятности: времени на такое происхождение видов на Земле просто не хватало. А только что опубликованные сведения о находке Фреда Хойла (микроскопические организмы в сердцевине упавших с неба камней, распиленных в стерильных условиях) подтверждали гипотезу о привнесении "семян жизни" на Землю из Космоса. Правда, и при условии принятия такой гипотезы оставалось непонятным, где же размещалась вся информация, необходимая для синтеза и построения живых организмов из веществ, имеющихся на Земле, а также и исходная программа их функционирования.
Однако все эти мысли и соображения были для Алексея не главным. Они просто выражали его характер, его склонность рассуждать надо всем виденным и слышанным, взвешивать доводы и делать выводы – свои собственные, не ограничиваемые ни "общепринятым", ни какими-либо авторитетами. Собственно, таким и должен быть характер настоящего учёного-исследователя, которым стремился стать Алексей. Вот только, пожалуй, медицинский институт был не самым подходящим вузом для таких личностей, как он. Ведь здесь готовили врачей, то есть лекарей, говоря простым русским языком, а не учёных. Может быть, более подходящим для Алексея оказалось бы что-то вроде университетского физфака? Но он так не думал: во-первых, не существовало вузов, где бы с самого начала готовили исследователей; во-вторых, как уже сказано, и его родной институт был прекрасной научной школой с давними, прочными традициями и целой плеядой известных учёных и изобретателей. Наконец, были у Алексея ещё и иные соображения, которые подтолкнули его к решению поступать именно в медицинский. То были причины чисто личного характера. Алексей никогда и никому о них не рассказывал. Всё было очень просто: в выпускном классе школы с весьма банальным заболеванием попал он в руки неумелого врача– "коновала". Пройдя через серию мучительных процедур, как вскоре выяснилось, выполненных безо всякой нужды и неумело, насмотревшись на страдания соседей-пациентов, тоже попавших в палату этого врача, явно учившегося на "тройки", юноша твёрдо решил, что станет хирургом. Но не простым врачом, а учёным, который не только использует давно отработанные приёмы и методы лечения, но ищет и создаёт новые – более результативные и менее тягостные для пациентов, берёт на себя ответственность за их внедрение в лечебную практику.
Алексей, на наш взгляд, совершенно справедливо исходил при этом из того, что избранная им профессия требует не просто вдумчивой учёбы и глубоких, разносторонних и прочных, словом – отличных знаний, но и полной отдачи своему делу. Ведь и само латинское слово studio означает пристрастие, а студент – пристрастившийся! Уж если взялся за гуж – не говори, что не дюж! Вот Алексей и выкладывался на учёбу, не зная за все шесть лет того, что традиционно связывают с так называемой студенческой жизнью. С начала второго курса он записался в научно– студенческий кружок при кафедре частной хирургии. Вообще-то, студентами кафедры были четверокурсники, уже прошедшие годом ранее через общие, вводные курсы терапии и хирургии. Теперь они уже имели не только знания анатомии (ведь её изучают три семестра), но и сведения о действии лекарственных веществ, вводные сведения о болезнях. Алексей, честно говоря, боялся, что его в кружок не примут. И напрасно: если в Советском Союзе и подвергались иной раз преследованию люди творческие, инициативные, ищущие, то это всегда было связано или с завистью "пробившихся в люди" ограниченных неумех, или с косностью чиновников-перестраховщиков, которые встретились на пути изобретателя или просто инициативной личности. Иначе говоря, торможение всегда шло "снизу" и не было официальной линией, проводимой советской властью. Напротив, завистникам и трусливым перестраховщикам приходилось изощряться, чтобы воздвигнуть на пути творцов-искателей непреодолимые препоны. Но… именно в сфере науки подлецы и завистники имеют более высокий уровень умственного развития, чем в иных профессиональных кругах. К тому же, если такой умный (хотя и не блещущий талантами) подлец достигал высокого должностного положения и возможности влиять на чьи-то судьбы за счёт родственных или иных клановых связей, то его тормозящее влияние резко возрастало. Нередко они ломали жизнь и судьбы талантливых людей. Ведь таланты лишь в виде исключения бывают ловкими в жизни, а, как правило – весьма неумелы, нерасчётливы и не способны противостоять интригам.
Всё это в полной мере прочувствовал на себе и наш молодой исследователь. Десятка через полтора лет после раннего периода студенчества, описываемого здесь, Алексей набрёл на блестящую, как ему казалось, идею. Он подал заявку на изобретение, получил приоритетную справку, но. Фармкомитет Минздрава СССР тормозил клинические испытания. Алексей несколько раз съездил в Москву, встречался с обеими своими экспертшами – и с Модль, и с Перель, но не сумел сдвинуть дело с мёртвой точки. Потом пришла "перестройка", за нею Гайдар-внук. Стало, что называется, не до того. И вот однажды, в середине девяностых, просматривая специальную литературу, Алексей Витальевич узнал интересные обстоятельства. Разработанный им в Воронеже, опробованный в Воронежском мединституте профессором-психиатром Стукалиной метод, получил широкую известность под именем… "израильского", а его авторами считались. покинувшие СССР при Горбачёве Модль и Перель.
Но всё это произошло позже. А вообще-то, наука в стране, как система, работала не просто хорошо, а превосходно: ведь не случайно треть всех мировых результатов, полученных фундаментальной наукой, исходила из СССР, а в прикладных науках – пятая часть (при менее чем пяти процентах населения Земли). В Японии два специальных института занимались тем, что выуживали идеи из научно-популярной, в том числе – детской, литературы и внедряли у себя изобретения, рассыпанные щедрой рукой на страницах этих изданий. Но мы отвлеклись. Пока наш второкурсник ещё только приобретал специальные знания и навыки в научном кружке, рассчитанном на студентов четвёртого курса. А было ему нелегко – просто не хватало подготовки. Подготовки и знаний как системы. В важности системы знаний Алексей убедился очень быстро: сама специфика, профиль кружка способствовали этому. Надо сказать, что никто из преподавателей – ассистентов и доцентов, участвовавших в работе студенческого кружка, обращая внимание Алексея на пробелы в его знаниях, полученных посредством самообразования, не унизил, не уязвил его.
Напротив, как бы невзначай, наладили его контакт со старшей операционной сестрой, которая быстро внедрила в сознание студента-второкурсника прочные навыки асептики, научила вязать хирургические узлы (Алексей часами тренировался в этом непростом деле, бывало, что и в общежитии, служа примером для подражания). А один из ассистентов, тоже вроде бы ненароком, однажды, поздним вечером захватил Алексея и ещё одного члена кружка, но уже пятикурсника, с собой на консультацию в городской травматологический пункт, который располагался метрах в пятидесяти от кафедры. Тут-то Алексей и сообразил, что неплохо бы походить сюда по воскресеньям. Это могло быстро помочь в усвоении некоторых основ практической хирургии, так сказать, на фельдшерском уровне.