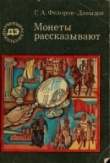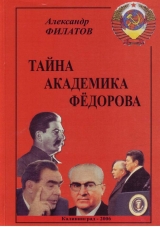
Текст книги "Тайна академика Фёдорова"
Автор книги: Александр Филатов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Глава 5.
Возвращение
Вернувшись в Воронеж, Фёдоров отправился домой – в ту комнату деревянного домика на Бакунинской улице, которую он снимал частным образом. Переданный ему Шебуршиным больничный лист давал возможность ещё два дня не ходить на работу. Это было весьма кстати, так как позволяло собраться с мыслями, продумать план дальнейших действий и своего поведения. Неприятное ощущение, что он здесь гость, исчезло, когда он садился в вагон. Теперь, наоборот, события пережитого им в начале XXI века представлялись воспоминанями. Выйдя из поезда, Алексей Витальевич постарался сделать так, чтобы не оказаться случайно замеченным кем-либо из знакомых. А встреча была довольно вероятной: уж слишком близко от вокзала располагалась Центральная научно-исследовательская лаборатория, где он работал.
Чувство раздвоенности, едва возникнув, исчезло ещё в Москве. Не появилось оно и после возвращения в Воронеж. Фёдоров подумал, что это хороший знак: всё им делается верно. Шёл он быстрым шагом и вскоре оказался довольно далеко от опасного места, приближаясь к широкой Плехановской утице. Отсюда до дома было, как говорится, рукой подать. Потолкавшись какое-то время в букинистическом магазине и побывав в продуктовом, он взглянул на часы. Пора было позвонить на работу. В кошельке двухкопеечной монеты не оказалось, а привычки в беспорядке рассовывать деньги по карманам он не имел. Остановив первого приблизившегося к телефонной будке прохожего – это был коренастый, усатый капитан внутренних войск, Фёдоров обратился к нему:
– Извините! Не найдётся у вас двушки? Позвонить нужно срочно.
– Сейчас глянем, – отозвался капитан, останавливаясь. Порывшись в своём портмоне, выудил оттуда пару двухкопеечных монет и штуки три по одной копейке.
– Вот, забирайте, – сказал капитан, протягивая Фёдорову монеты на открытой ладони.
Алексей Витальевич взял одну монетку и поблагодарил прохожего за помощь.
– Берите всё! – приказал капитан. – А то ещё не сработает, проглотит монету!
Фёдоров взял, благодарно улыбнувшись, и протянул гривенник капитану. Тот обиделся:
– Да вы что?! Или я спекулянт какой! Или мы не советские люди?!
– Извините, пожалуйста, привычка. Спасибо!
– А-а! – протянул прохожий. – Бухгалтер, наверное…
Фёдоров кивнул в ответ, ещё раз улыбнулся и повернулся к аппарату. Как всё же быстро из обихода были вытеснены "реформами" вроде бы прочно укоренённое в людях чувство принадлежности к единому народу и готовность помочь без взвешивания возможных выгод или потерь! Набрав номер ЦНИЛа, Фёдоров попросил, чтобы пригласили Евгению Дмитриевну Михайлову – заведующую отделом, где он работал. Через какое-то время в телефонной трубке раздался её встревоженный голос:
– Куда это вы пропали, Алексей Витальевич? Я уже хотела послать Тамару к вам домой, да вспомнила, что это только прописка. Что случилось, заболели?
– Да, Евгения Дмитриевна. Здорово прихватило, а позвонить, сами знаете, неоткуда.
– А нас тут шерстят вовсю! Сокращение штатов готовят. Ну, ладно, поправитесь – расскажу. Долго ещё проболеете? Раз звоните – значит скоро опять с головой в работу, верно? – Собственно, я бы и сегодня пришёл, раз уже из дома вышел, но больничный лист ещё дня на два будет, – ответил Алексей Витальевич, всё время стараясь по тону старшей научной сотрудницы Михайловой понять, видели его в городе или нет.
Похоже, что не видели. Искренняя и честная Евгения Дмитриевна не сумела бы скрыть такое обстоятельство и при этом вести себя столь естественно. К тому же, эта упомянутая ею идея посылки к нему на дом старшей лаборантки отдела Татариновой. Вскользь затронутое заведующей отделом сокращение вызвало в памяти Фёдорова целую серию воспоминаний. Тогда, в начале двадцать первого века, он этих деталей не помнил, а совместив своё тогдашнее сознание с собственным сознанием в прошлом, обрёл не только способность оптимально планировать действия на основе "предвидения" будущего, но и в мельчайших деталях мысленно воспроизводить то, что на самом деле имело место в прошлом, непосредственно следующим за данным моментом.
Теперь он не просто детальнейшим образом знал, как Михайлова – эта спокойная, рассудительная и осторожная сорокавосьмилетняя женщина, будет его защищать от сокращения, борясь за него как тигрица. Он с отчётливостью и стыдом видел все свои глупые и ошибочные шаги, продиктованные обидой и ощущением несправедливости. Курировавший их отдел завкафедрой патологической физиологии института отличался диктаторскими наклонностями. Ко всем, кто занимал более низкое положение в иерархии должностей и званий, он обращался только "на ты", требовал беспрекословного повиновения: не исполнения каких-либо обязанностей или поручений, а именно личной покорности. Если сотрудник кафедры или закреплённый за ним соискатель осмеливался возразить против наложенного взыскания, то немедленно следовало новое, гораздо более жёсткое. Как-то раз Фёдоров, не боявшийся в институте ничего и никого, переведя взгляд с ненормально тяжеловесной нижней челюсти прямо в глаза жестокого профессора, медленно, стараясь сохранить спокойствие, сказал ему:
– Знаете, Аполлон Николаевич, это не только несправедливо по отношению ко мне, но и невыгодно для института. А вы прямо как бульдозер – без заднего хода!
– Твоей темы нет в плане работы института. И не будет, пока не научишься себя вести! Так что можешь идти на хер! – услышал Фёдоров в ответ. Из всех букв русского алфавита самовластный профессор почему-то только букву „X" называл по старинке.
Проблему, которой в институте по согласованию с Москвой руководил Леонтьев, в принципе следовало оценить как бесперспективную, не имеющую большого будущего. Но она являлась перспективной практически, так как хорошо финансировалась и была утверждена в качестве научной проблемы на самых верхах. Повседневно общаясь с Аполлоном Николаевичем уже в течение нескольких лет, прочтя все его публикации, собрав все доступные сведения о биографии своего научного консультанта, Фёдоров знал, что тот, как говорится, пороха не выдумал. Да, у Леонтьева, четырнадцать лет назад приехавшего в Воронеж с Волги и получившего в тридцать девять лет кафедру, были авторские свидетельства, множество публикаций, огромное влияние в учёном совете и вообще в институте, связи в Москве, обширный запас специальных знаний и эрудиция. Однако не было главного, самого важного для учёного – способности к новаторству, то есть к тому, что связано с отходом от традиций, сомнением в авторитетах и в "общепризнанном".
Своих сотрудников и аспирантов он уже многие годы «обламывал» до полного подчинения и покорности. Благодаря авторитету, наработанному с помощью характера и связей, а не творческими взлётами и новыми идеями, защиты его аспирантов и соискателей всегда проходили успешно. Но результатом такой политики, такой линии поведения и созданного им стиля работы кафедры стал застой. Да, верно, Леонтьевым была разработана так называемая «метаболическая концепция» действия на организмы сжатого кислорода. Но к чему она сводилась? В сущности, лишь к тому, что характер этого действия зависит от исходного состояния метаболизма (говоря по-русски – обмена веществ). И всё! Видимо профессор прекрасно всё это понимал и сознавал, что не ортодоксально мыслящие люди ему просто необходимы. Вероятно, потому он и согласился включить в состав своих соискателей нестандартно мыслящего Фёдорова, склонного к научному риску и не полагающегося на авторитеты, который был не только непокорным, но к тому же ещё и чрезвычайно работоспособным и плодовитым.
Помогла, конечно, и протекция Кости Резунова, только что защитившего при содействии Леонтьева докторскую и ставшего вскоре, в сорок лет, заведующим кафедрой фармакологии. Приступив к работе, Алексей Витальевич сумел так организовать своё рабочее время, прихватывая ежедневно вечерами ещё три – четыре часа, что уже через четыре месяца положил на стол Аполлона Николаевича статью в серьёзный центральный научный журнал. Вторым автором статьи стоял Костя Резунов, который хотя и не сделал для этой статьи ни одного эксперимента и не обрабатывал полученные материалы, но постоянно и заботливо оказывал консультативную и организаторскую помощь Фёдорову, пришедшему на теоретическую кафедру фармакологии прямо с клинической кафедры хирургии института усовершенствования врачей.
Фёдорову доводилось слышать рассказы о том, как некие руководители или начальство заставляли ставить себя впереди настоящих авторов, но такого с ним ни разу не происходило: не было такой ненормальной практики в их 226
институте! Соавторство же Константина Максимовича он считал совершенно заслуженным: без его содействия он бы не смог так быстро войти в курс дела и провести необходимые эксперименты. При этом у Фёдорова мелькала мысль, что Леонтьев был бы не прочь стать первым соавтором в любой чужой интересной работе, вот только традиции института ему в этом мешают.
Свою догадку о взглядах Аполлона Николаевича Фёдоров строил не только на основе знания характера и стиля действий Леонтьева, но и разглядев реакцию того на сам факт появления на его рабочем столе совершенно готовой статьи и актов экспертизы на неё. Тем не менее, статью он завизировал, и работа ушла в центральную научную печать. Ошибкой же Фёдорова было то, что он и в дальнейшем поступал так же, ни разу не взяв в соавторы непричастного к его работам Аполлошу (так звали деспотичного профессора за глаза). Лишь многие месяцы спустя, выяснилось, что статьи было принято приносить Аполлоше не в готовом, а в "сыром" виде – без авторов, подписей и, уж конечно, без актов экспертизы! Как черновик. Да, непонимание, вернее – непринятие, Фёдоровым стиля работы Леонтьева во многом ему навредило, приведя, в конечном итоге, к тому, что он попал под сокращение штатов.
Весной восемьдесят второго Фёдоров, ожидая приёма у Леонтьева прямо под дверью его кабинета, случайно услышал разговор, состоявшийся между ним и Михайловой. Разговор шёл о нём самом. Михайлова, как выяснилось, напросилась на приём именно с целью его защиты и в попытках побудить Леонтьева пропустить к защите давно уже готовую диссертацию своего научного сотрудника. А как пропустить к защите, если Леонтьев, как выяснилось, обманул и даже не включил готовую работу в институтский план предстоящих исследований?! Из той нечаянно подслушанной беседы Фёдоров узнал, что при всей откровенной грубости и склонности к не всегда цензурной брани Леонтьев прекрасно знает ему цену, отдаёт должное новизне подходов и решений, предлагавшихся Фёдоровым, его преданности науке, объективности и работоспособности. Алексей Витальевич слышал, как Михайлова просила:
– Продвиньте, пожалуйста, его к защите, Аполлон Николаевич! Я вас прошу! Ведь всем же лучше будет – и он успокоится, и институту польза! Ведь Фёдоров – способный учёный!
– Я знаю, что делаю, Евгения Дмитриевна! Нет и нет! А он не просто "способный", а талантливый! Ты посмотри, как он пишет! Мне после него и слово вставить некуда! При этом он легко пишет! После его анализа зацепиться не за что, всё обсосёт! Так что можешь не рассказывать, без тебя всё вижу и знаю! Но ты понимаешь слово "нет"? Или, может, это тебя Фёдоров просил поговорить?
– Что вы, Аполлон Николаевич! Это я сама. Мучается же человек, а для института это…
– Что ты заладила "для института", "для института"! Тебе сказано – НЕТ! Всё! Пока! Пусть научится себя вести!
Фёдоров решил, что ему лучше исчезнуть. Удаляясь от кабинета по короткому, ярко освещённому солнцем коридору кафедры патологической физиологии, Фёдоров ещё слышал обрывки громких фраз своего жестокого "научного консультанта" – и о том, что он "лезет в чужие вопросы", "всё подвергает сомнению" и что "проявляет излишнюю инициативу". Да, вообще, лучше без предварительной договорённости здесь не появляться! Именно такой совершенно ненормальный порядок приёма сотрудников по записи был установлен Аполлошей! Алексей Витальевич понимал и то, что этот диктатор имел в виду, когда говорил "пусть научится себя вести". Речь здесь шла вовсе не о поведении в нормальном значении этого слова!
Сейчас он мог бы с лёгкостью переломить ситуацию и преодолеть сложившийся нездоровый и ненормальный стиль взаимоотношений со строптивым, склонным к 228 диктаторству Аполлоном Николаевичем. Вопрос был в том, следует это делать или не следует. Если, как он надеялся, Шебуршин пойдёт на сотрудничество, то вскоре окажется необходимым постоянное присутствие в Москве. Тогда изгнание его Аполлошей из института "по сокращению штатов" будет играть на руку делу. В противном случае нужно сделать всё, чтобы избежать тех горьких разочарований и неимоверных трудностей, которые выпали на его долю в своё время в иной реальности. Был ещё один вариант – затяжной и крайне нежелательный. Если Леонид Иванович начнёт его разработку и проверку, то резкое, ничем внешне не мотивированное изменение стиля жизни и предельная рационализация алгоритма действий Фёдорова могут быть расценены начальником ПГУ в качестве косвенного подтверждения тех необычных сведений, которые Алексей Витальевич ему записал на двух листах бумаги. Выходило, что сокращения всё же следовало избежать.
Дома Алексей Витальевич поставил на стол свою древнюю "Мерседес" – купленную с рук за пятьдесят рублей пишущую машинку, сделанную ещё до войны. Вставил два чистых листа бумаги, переложив их копиркой, и задумался, вспоминая в деталях свою встречу с генералом. Возникло острое чувство неудовлетворённости собой, своими действиями: сейчас он бы многое сделал иначе, с большей пользой для своей цели. Теперь он обдумывал, как лучше, с учётом сделанных им в Москве ошибок, подать материал – "информацию к размышлению", и какую именно.
В качестве первой порции такой информации он решил дать сведения, почерпнутые у Кара-Мурзы. Кроме прочего, это давало надежду рассчитывать на то, что Сергея
Георгиевича подключат к делу предотвращения катастрофы. Конечно, его возьмут в разработку, станут проверять. Но Кара-Мурза – человек проверенный, к тому же "выездной", не имеет никакого отношения к так называемым диссидентам. Кроме того, уже в эти годы он был известен как системный аналитик, занимал совсем не такое уж малозаметное место. Помимо того, подставка под проверку этого уважаемого Фёдоровым самого сильного в будущем философа и политолога России давала ещё два шанса: могла ускорить созревание Сергея Георгиевича именно как крупного философа-патриота и способствовать подтверждению чистоты, искренности намерений самого Фёдорова.
Ведь предложи он в качестве своего первого опорного лица, к примеру, бывшего редактора журнала „Человек и закон" русского патриота Сергея Семанова, уже бравшегося в разработку КГБ, отношение к гостю из будущего могло бы измениться в нежелательную сторону. Придя к такому решению, Алексей Витальевич принялся набивать текст. Сейчас он вновь чувствовал себя гостем из будущего. Поначалу он, привыкший за долгие годы к работе на лёгкой клавиатуре персональной ЭВМ, испытывал некоторые затруднения, но продолжалось это недолго. И хотя текстов своего излюбленного автора он, в отличие от выписок из "Правды", не заучивал, Кара-Мурзу помнил хорошо, многие места наизусть. Работа пошла споро. Для начала он воспроизвёл фрагмент о "перестройке" из книги "Предупреждение второе. Неполадки в Русском Доме".
Тексту почти дословной цитаты он предпослал такое предисловие:
"Доктор химических наук Сергей Георгиевич Кара– Мурза, 1939 года рождения, тесно общавшийся с 1985 года с Отделом науки ЦК КПСС, стал к концу 90-х годов крупнейшим философом России и наиболее объективным политологом-аналитиком." Написав это, Фёдоров будто услышал голос Кара-Мурзы:
– Что вы из меня классика делаете? Я всего лишь добросовестный учёный.
– Более чем добросовестный, – мысленно возразил Алексей Витальевич. – Вы стали пророком для целого поколения и обличителем для многих политиков. Не спорьте, надо обладать мужеством, чтобы развенчать затеянную Горбачёвым "перестройку". Ведь это именно вы, а не кто– то другой сказали, что перестройка, эта так называемая "революция сверху", была затеяна вопреки интересам и идеалам трудящихся масс.
– Я увидел, что в перестройке назревающий кризис лигитимности власти, грозящий её перераспределением, разрешается действиями правящей верхушки через государственный аппарат и идеологическую машину.
– Не будем забывать, что перестройка была с энтузиазмом поддержана значительной частью общества. И, тем не менее, вы отнеслись к ней скептически. Как, впрочем, и я сам.
Даже негативно. Общество как бы „переросло" политическую структуру, созданную на первом этапе советского строя. Вынужденное на первом этапе создание закрытого правящего слоя.
– Номенклатуры.
– Совершенно верно. Создание такого слоя, – продолжил Сергей Георгиевич, – породило, как и предвидели Ленин и Сталин, рецидив сословных отношений. Однако произошёл срыв, и процессом овладела именно "номенклатура". В критический момент, в девяностом – девяносто первом годах, верхушка пошла на национальное предательство.
– Как вы первый заметили, перестройка была частью холодной войны. Она изменила политическую структуру мира. Номенклатура же, которую Сталин называл проклятой кастой и которая при Хрущёве была сознательно выведена из-под контроля госбезопасности и постепенно, но неуклонно совершенно утратила ответственность перед людьми, стала пятой колонной.
– Конечно. Именно так! А Соединённые Штаты играли в холодной, Третьей мировой, войне активную роль и рассматривают результаты „перестройки" как поражение СССР в этой войне. По своим масштабам это явление всемирно-исторического значения.
Фёдоров напомнил своему мысленному собеседнику о том, какую реакцию в общественном сознании вызвала так называемая гласность:
– Можно ли со всей определённостью утверждать, что вся эта кампания гласности привела к революции в сознании общества? – спросил он.
Конечно! И эта "революция" стала первым этапом перестройки, предшествовавшим демонтажу государства.
– А второй этап – это, надо полагать, "приватизация"?
Алексей Витальевич представил, что Кара-Мурза должен был нахмуриться при упоминании об этом катастрофическом кризисе, последовавшем за расчленением Советского Союза и сломом хозяйственной системы.
– Этот кризис, – гневно сказал он, – не был объективным результатом процессов, происходивших в экономических и политических структурах страны. Он был искусственно создан. Создан и осуществлён как антисоветский проект, направленный на слом буквально всех устоев и структур жизнеустройства, на разрушение всей советской, а точнее – русской – цивилизации. Кроме того, передача в процессе "приватизации" преступному миру большой части собственности.
– И власти.
– Да, и власти! .породила аномальный уклад, принципиально несовместимый с жизнью общества, с выживанием страны.
– Так что своеобразным ответом народа на такую реформу стали снижение рождаемости и рост смертности?
– Вот именно!
Пальцы Фёдорова бегали по клавишам машинки, строка за строкой ложились на бумагу, а голос чтимого им философа и политолога звучал в сознании чётко и размеренно, мысли формулировались логично и аргументированно.
– Чтобы оценить масштабы кризиса, – продолжал Сергей Георгиевич, – надо напомнить, что на реформу в России истрачены беспрецедентные в мировой истории средства: экономия от прекращения гонки вооружений; экономия от прекращения войны в Афганистане; экономия от прекращения финансирования всех крупных проектов (а это практически все капиталовложения в промышленность, АПК, транспорт и строительство, которые составляли до 1987 года огромные суммы); экономия от свёрнутых социальных программ; отнятые у населения сбережения (400 миллиардов долларов); экономия от резкого снижения уровня потребления 90 процентов населения. Были загублены не только эти средства, но и промотан весь золотой запас страны, а также сделаны долги на 150 миллиардов долларов.
– Разворовали? Только ли?! – перебил Фёдоров.
– Воровство, конечно, было великое. Но главная причина всё же – не воровство и не вывоз денег за рубеж, а паралич хозяйства.
– Но и паралич хозяйства во многом обусловлен прекращением капиталовложений („инвестиций" – по нынешней терминологии), – опять мысленно перебил политолога Фёдоров, – а те неразрывно связаны с вывозом огромных сумм за рубежи страны!
– Конечно! Но нельзя забывать, что все большие технические системы, на которых стоит, пока что ещё держится жизнь страны (энергетика, транспорт, теплоснабжение и так далее), созданы в советское время. Все они устроены иначе, чем в западном хозяйстве, капиталистическом.
„Рыночном", по терминологии Горбачёва, Ельцина и Путина.
– Верно. За 15 лет выяснилось, что созданная хозяйственная система не может их содержать: при рыночных отношениях они оказываются слишком дорогими. Они разрушаются. В то же время рынок не может и построить новые рыночные системы такого же масштаба. Страна попала в историческую ловушку, в порочный круг, из которого в созданной реформаторами хозяйственной системе вырваться невозможно .
„Как довести глубокие мысли политолога и философа, его точную диагностику „реформ" до адресата? – подумал Фёдоров, возвращаясь от мысленного диалога к действительности. – Как неназойливо, но однозначно показать, что на самом деле, по всем своим основным признакам, созданный в РФ уклад принципиально отличается от западного капитализма, что так это и было задумано. Это разные экономические, социальные и культурные явления. Запад поддерживает наших "капиталистов", потому что они подрядились развалить СССР, обезоружить армию, уничтожить промышленность и науку, бесплатно допустить Запад к ресурсам России, уничтожить и конкурента, и образец для подражания. Организовать стабильное жизнеустройство ни по типу общины (советского типа), ни по типу гражданского общества (западного типа) этот режим не просто не может, а не должен, не имеет права".
Алексей Витальевич печатал текст, порой утрачивая грань между своими мыслями и цитатами из Кара-Мурзы, настолько их позиции совпадали, настолько были ему созвучны книги философа, всплывавшие в памяти – острые, отлично аргументированные. В самом деле, страна живёт, пока ещё живёт, в той реальности – вопреки этому капитализму и параллельно с ним. Многие подсистемы советского строя уцелели и показали поразительную устойчивость. Их охраняют, зачастую неосознанно, инстинктивно, вопреки рыночной риторике, и большинство работников государственного аппарата, и хозяйственные руководители, и само население. Там, где советские структуры выходят из тени, как в суверенной Белоруссии под руководством президента– патриота А. Г. Лукашенко, дело идёт получше.
„Опыт начала XX и XXI веков показал, что при господстве в России уклада, основанного на конкуренции („капитализм", – отметил Фёдоров), она не может выжить как независимое многонациональное государство, тем более в условиях „открытости мировому рынку". Гибель целой цивилизации маловероятна. Следовательно, после более или менее длительного хаоса в России всё равно возобладают, должны возродиться, различные формы социалистического уклада, пусть даже с мимикрией под капитализм (хотя влиятельные силы постараются не допустить возрождения России как сильной независимой страны, тем более с социалистическим жизнеустройством)."
Записав эту мысль Кара-Мурзы, Алексей Витальевич вновь вступил с ним в кажущийся диалог:
– Сергей Георгиевич, давайте вернёмся к причинам катастрофы, – предложил он. – Вот ваш главный тезис: "Крушение советского строя было обусловлено состоянием сознания, которое генсек Андропов определил чётко: "Мы не знаем общества, в котором живём". Надо бы этот тезис разъяснить детальнее.
– Да, таким было тогда общественное сознание. В 70 – 80-х годах это состояние ухудшалось: незнание превратилось в непонимание, а затем и во враждебность, дошедшую у части элиты до степени паранойи. Незнанием и нежеланием знать была вызвана и неспособность руководства быстро выявить назревающие в обществе противоречия и найти эффективные способы разрешить уже созревшие проблемы. Незнание привело и само общество к неспособности разглядеть опасность начатых во время перестройки действий для изменения общественного строя, а значит, и к неспособности защитить свои кровные, жизненно важные, интересы.
– Xорошо бы разобрать этот главный тезис по частям.
– Попробуем. Кризис партийного руководства. Смена поколений. Смерть Сталина стала концом важного этапа. Уходило поколение руководителей партии, которое выросло в „гуще народной жизни". Оно знало общество, в котором мы живём, не из учебников марксизма, а из личного опыта и опыта своих близких. Это знание в большой мере было неявным, неписаным, но оно было настолько близко и понятно людям этого и предыдущих поколений, что казалось очевидным и неустранимым. Систематизировать и записать его казалось ненужным. В результате это знание потом стало труднодоступным.
Тут Фёдоров услышал шум шагов в прихожей, затем и в кухне. Он прервал работу и приоткрыл дверь:
– Здравствуйте, Мария Григорьевна! – постарался он сказать как можно приветливее. Алексей Витальевич прекрасно знал, что вскоре его неприветливой хозяйке он окончательно надоест: во-первых, пишущая машинка мешает, во-вторых, из-за того, что явно не оправдались некоторые надежды этой сорокалетней хромой и одинокой женщины, связанные с квартирантом. Так что весной 1983-го он вновь окажется в поисках крова.
– Здравствуйте, – неприветливо буркнула в ответ хозяйка.
– Я вот вам из Москвы кое-что привёз. Помнится, вы говорили.– продолжил Фёдоров, протягивая хозяйке свёрток с предметом, не имеющим для нашего рассказа никакого значения. Важно лишь то, что об этой бытовой вещи хозяйка прямо попросит его лишь в январе, хотя намёками, непонятыми в своё время Фёдоровым, уже несколько раз высказывала свою просьбу.
– Что это вы вспомнили, Алексей?! – уже с интересом взглянула на него хозяйка и, почти улыбнувшись,
продолжила: Сколько я вам должна?
– Ну, что вы, Мария Григорьевна! Это маленький подарок. Понимаете, в моей жизни может кое-что произойти, но это выяснится не раньше лета. Пока я вам не скажу, – сглазить боюсь. Так что, возьмите. Я и так вам уже со своей машинкой и вечной работой здесь в вашем доме надоел.
– Да ладно! – уже окончательно оттаивая, произнесла почти с симпатией хозяйка и улыбнулась: – Живите сколько хотите. А чего? Платите вы исправно. Ну, как там в Москве?
Фёдоров помрачнел, не зная, правильно ли поступит, если намекнёт хозяйке на "возможную" смерть Брежнева. С другой стороны, ему никак нельзя было в ближайшее время оказаться погружённым ещё и в заботы о поиске подходящего жилья. Помедлив несколько секунд и видя, что его молчание начинает отрицательно сказываться на установившемся было контакте с хозяйкой, он решился:
– Знаете, Мария Григорьевна, я вам кое-что скажу, если вы дадите честное слово молчать, а то мне может не поздоровиться. Да и диссертацию могут помешать защитить, не дадут довести до защиты.
Хозяйка глядела на него уже не просто с явным интересом, но и с симпатией. Это следовало закрепить. К тому же он знал, что хозяйка квартиры страшно одинока и не склонна к распространению сплетен и слухов. Понизив голос и оглянувшись на входную дверь, Фёдоров сказал:
– Говорят, Брежнев очень и очень болен. Знающие люди намекают, что вместо него будет Андропов. Но это не надолго, у него тоже здоровье не в порядке. А самое плохое я вижу не в этом, а в том, что американцы везде в Москве имеют своих агентов. На самом верху… и хотели бы. Ну, вы понимаете, чего они добиваются.
Сказав так, Фёдоров знал, на что рассчитывал: домовладелица, работавшая в одном из городских СМУ, страстно ненавидела так называемых диссидентов и уже причислила было к этой категории самого Алексея Витальевича, пытаясь подсознательно оправдать этим свою глухую неприязнь к квартиранту, вечно погруженному в работу, в свои мысли, и не старавшемуся наладить с ней личный контакт. Такими словами, высказанными с оговорками, с опаской и после взятия с неё честного слова, квартирант сразу противопоставил себя ненавистной кучке отщепенцев.
– Значит, к празднику хотят, сволочи! – по-своему истолковала хозяйка дома слова квартиранта и как будто без связи с услышанным и с некоторым недоверием спросила: – А вы на демонстрацию пойдёте?
– А как же! В этот раз непременно! Все дела по боку! – с жаром ответил Алексей Витальевич.
– Ну, ладно. Устала я после работы, – завершила Мария Григорьевна, проходя к себе в комнату.
Какое-то время Фёдоров сидел за машинкой, но напечатал лишь несколько строк. Работа не шла. Беседа с квартирной хозяйкой выбила его из запланированного ещё в будущем ритма. Всё выходило гораздо сложнее, чем он предполагал. Знание будущего помогало лишь частично. Все решения и вытекающие из них действия следовало тщательнейшим образом обдумывать, заново предвидеть новый результат, вызванный другой, не тогдашней линией его собственного поведения.
А то, что он не годится в разведчики и слишком часто ошибается в людях, Фёдорову и без того было известно превосходно. Да, пожалуй, при его образе жизни и особенностях личности иначе и быть не могло: полная сосредоточенность на научной работе, крайняя ограниченность контактов с людьми не могли не сказаться на его способности к общению с людьми, на „коммуникабельности".
За окном, между тем, стало совсем темно: ведь уже почти семь вечера. Пора бы и поужинать. В тогдашней своей жизни он слишком мало заботился о здоровье, нажив ряд болезней, прежде всего язву двенадцатиперстной кишки. Вскоре он услышал деликатный стук в свою дверь, но не встал, как в прежние времена, не подошёл к двери, упреждая нежелательное появление хозяйки в сданной ему комнате, а громко и приветливо ответил:
– Да, да, Мария Григорьевна! Слышу! Заходите!