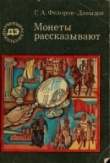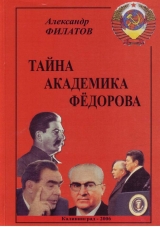
Текст книги "Тайна академика Фёдорова"
Автор книги: Александр Филатов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Вскоре он стал в травмпункте своим человеком. Быстро приобрёл здесь так не достававшие ему навыки общения с больными. Наловчился делать не только инъекции, но и ушивать раны, накладывать гипсовые лонгеты, навсегда усвоил принципы предупреждения столбняка и других анаэробных инфекций в хирургии. Алексей не переставал и работать над собой – читал учебники по частной хирургии, но не находил в них, как ему казалось, главного: названий симптомов болезней, которыми свободно владели студенты более старших курсов. Тогда, после отлично сданной зимней сессии и каникул, вернувшись от матери в Воронеж, Алексей впервые отправился на ночное дежурство в клинику, где находились и кафедра, и посещаемый им кружок. Тут настойчивому студенту повезло ещё раз: как-то, будто само собой, снова вышло так, что одна из ординаторш, дежуривших в бригаде неотложной хирургической помощи, взяла над Алексеем шефство. В приёмном отделении она вслух, вроде бы диктуя, перечислила все имевшиеся у семнадцатилетнего парнишки симптомы острого аппендицита. Как спустя годы осознал Алексей, Галина Андреевна Дельцова (так звали взявшую над ним шефство хирургиню) продемонстрировала ему действительно типичный и очень наглядный случай. После осмотра она, отойдя от кушетки с лежащим на ней молодым пациентом, вполголоса спросила:
– Ты уже когда-нибудь мылся?
Алексей отрицательно покачал головой. Взглянув внимательно ему в глаза и что-то взвесив, Галина Андреевна предложила:
– Ну, пошли в операционную!
В предоперационной как раз находилась операционная сестра бригады, уже хорошо знавшая настойчивого студента, та самая Лидия Ивановна, что учила его искусству вязать хирургические узлы:
– А, Лёша! Ассистировать будешь? Ну, иди к третьему крану, мойся!
Дельцова постояла возле него с минуту, понаблюдала, как студент начал мыть руки, действуя по всем правилам, принятым в клинике, хотя и несколько неловко. Убедившись, что Алексей знает правила асептики, она тоже взялась за дело, привычно орудуя щётками у первого крана. В операционной было полутемно – освещался лишь дальний стол, за которым другая бригада кого-то оперировала. Были слышны негромкие отрывистые команды хирурга– оператора, раздавались сухие щелчки зубчатых замков кровоостанавливающих зажимов, гул аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Через пять минут Дельцовой и Алексею санитарка подала по второй стерильной щётке, а ещё через пять минут – по третьей. Алексей с беспокойством почувствовал, что эта вроде бы простая процедура мытья рук утомила его. "Ничего, привыкну!"– успокоил он себя. Подражая Галине Андреевне, он подальше отставил от себя кисти рук и подошёл к тазику со специальным раствором для завершающей обработки рук. Когда они оба прошли в операционную, Лидия Ивановна уже держала в руках стерильный операционный халат, предназначавшийся для Дельцовой. Стоя вполоборота к студенту и ни на секунду не выпуская того из виду (а вдруг забудется, нарушит стерильность?!), Галина Андреевна быстро нырнула в развёрнутый перед ней халат, держа руки высоко перед собой и чуть в стороны. Санитарка, которая обеспечивала бригаду (Да, теперь Алексей тоже стал членом оперирующей бригады!) щётками и раствором для рук, ловко завязала сзади тесёмки халата и маски, накинутой поверх хирургической шапочки и чуть коричневатой от частой стерилизации в автоклаве. Затем операционная сестра налила в сложенные пригоршней ладони Дельцовой стерильный глицерин и подала перчатки: по очереди – сначала правую, затем левую, держа их растянутыми за плотное резиновое кольцо у верхнего края. Клиника факультетской хирургии института была частью Школы. Всё здесь – алгоритм и последовательность действий и даже отдельных движений, подчинялось раз и навсегда заведённому порядку. Порядок этот был установлен профессором Сержаниным из соображений оптимальности и соблюдался неукоснительно и предельно чётко. В результате не только экономилось время (в хирургии, особенно – в неотложной, счёт нередко идёт на секунды). Следствием было и то, что как бы сама собой создавалась та молчаливая сплочённость и чёткость работы каждого из членов бригады, когда каждый делал и то, что было необходимо, и наилучшим образом. Как Алексею стало заметно несколько позднее, в клинике никогда, ни при каких самых трудных обстоятельствах не возникало той нервозности, которая в трудных случаях столь обычна для многих-многих лечебных учреждений. Но понимание важности Школы и чувства своей причастности к ней пришло к Фёдорову лишь годы спустя, когда он насмотрелся на порядки в других институтах и клиниках других городов.
А пока, в описываемый период, Алексей, стараясь действовать точно так же, как Галина Андреевна, облачился в халат, затем сунул кисти рук по очереди вниз – в перчатки и, сложив руки на груди перед собой, прошёл к операционному столу. Голова у него чуть кружилась. Как же, второкурсник в операционной, в оперирующей бригаде при полостной операции! Он не видел, что в глазах Дельцовой, которая и была-то всего на десяток лет старше него, но уже с большим опытом и клинической ординатурой за плечами, мелькнул лукавый огонёк: ей понравилось и старание Алексея, и сразу замеченные ею познания студента, явно выходящие за пределы программы второго курса.
После этой ночи Алексей переписал в приёмном отделении график дежурств по неотложной помощи в Воронеже клинической больницы № 2. После операции они отправились с Дельцовой в ординаторскую – записывать в две руки протокол операции: один экземпляр – в историю болезни, второй – в операционный журнал. Здесь Алексей переписал ещё и график дежурств Галины Андреевны. С тех пор Алексей стал постоянным добровольным помощником этой бригады. Ответственным за неотложную хирургическую помощь в миллионном городе (то есть ответственным ургентным хирургом) был кто-либо из ассистентов кафедры, кандидат наук. К концу второго курса все они хорошо уже знали Алексея, ставшего своим человеком не только в кружке, но и вообще на кафедре.
Как-то весной, незадолго до международного Дня солидарности трудящихся, Алексей с дежурства отправился прямо в "физический корпус", хотя до занятий оставалось ещё более часа. В этом учебном корпусе располагались две кафедры – физики и нормальной физиологии. Практические занятия по физиологии в их группе вёл аспирант. Его армянское имя было труднопроизносимым и едва запоминаемым для русского. Кто-то из студентов прозвал аспиранта для краткости и совсем неподходяще Магометом. Тот знал об этом, но не обижался. Вообще аспирант был умным, чрезвычайно знающим, обаятельнейшим и лёгким в общении юношей. Жил он практически на кафедре, редко выходя из маленького, без окон закутка, именуемого "аспирантской". Здесь он паял какие-то приборы и ставил опыты, хотя его кандидатская диссертация была давно готова и стояла в очереди на защиту. Вот и сейчас "Магомет" был здесь. Он оживлённо с кем-то спорил. Алексей, проходя мимо полуоткрытой двери, разглядел собеседника в ярком свете цилиндра лампы дневного света, закреплённой над рабочим столом. Это был всем известный в институте техник Володя. Из-за паралича ног он с удивительной ловкостью передвигался в инвалидном кресле. А известен он был своими действительно выдающимися качествами: у него имелось несколько десятков авторских свидетельств на изобретения и острый, совершенно непредсказуемый ум, хотя и никакого официально законченного образования. Всё очень и очень многое, что он знал, Володя постиг посредством чтения и долгих, порой мучительных размышлений. Иной раз отсутствие образования существенно подводило Володю в бесконечных дискуссиях, которые он вёл с учёными – работниками института (тогда он набрасывался на книги и вскоре ликвидировал свой пробел). Но, как правило, бывал прав. Во всяком случае – заставлял своих старших и остепенённых собеседников задумываться, порой наводя их на конструктивные мысли.
Вот и теперь постепенно беседа Володи с аспирантом превратилась в монолог, и Алексей чётко услышал заключительную фразу Володи, видимо подводящую итог дискуссии:
– Так что, не спорь – есть душа, есть! Ты лучше подумай, как ещё кроме крутильных весов, взвешивания и опытов с растениями это проверить, с какого боку подобраться! А я уж тогда по твоим идеям приборчик сооружу! Ну, пока! Пошёл я!
Алексей хорошо знал репутацию этого немолодого (как ему тогда казалось), лет уже под сорок, инвалида. Да и "Магомет", который последние три месяца вёл их группу вместо слёгшего с язвой доцента Алексея Ивановича Лютова, не раз в весьма уважительных тонах ссылался на Володю. Аспирант умел организовать занятия так, что всегда оставалось свободное время, чего никогда не бывало на лабораторных занятиях, проводимых заболевшим доцентом. Студенты других групп им завидовали.
Нет, не из-за высвобожденного времени (когда всем желающим, завершившим выполнение задания и сдавшим результат преподавателю, разрешалось покинуть аудиторию). Завидовали именно тому, что аспирант всегда или рассказывал нечто интересное, выходящее за рамки учебной программы, хотя и связанное с ней, или подбрасывал студентам такие идеи, которые служили затем предметом долгих дискуссий в общежитии.
Поэтому Алексею не только крепко запала в память идея, высказанная умельцем-инвалидом, но и мелькнула мысль: "Наверняка нам Магомет что-нибудь расскажет обо всём этом". Зайдя в аудиторию, точнее – в учебную лабораторию, воздух которой был пропитан стойкими запахами эфира, лягушачьей крови и лабораторных крыс, Алексей пристроил свой портфель на столе, положил на него голову и моментально уснул.
Разбудил его шум, возникший оттого, что в аудитории началось занятие. Голова у Алексея была тяжеловатой, но молодой организм быстро преодолел утомление, вызванное ночной работой, и переключился на тему занятия. Вопреки ожиданиям, Магомет сегодня не только не затронул тему беседы, случайно услышанной студентом, но вообще был необычайно задумчив и молчалив, хотя, как и обычно, аспирант из девяноста минут выкроил для студентов около четверти часа свободного времени.
– Все, кто сдал работу, и если нет вопросов, могут быть свободны! – произнёс аспирант Шахгельдян (такова была настоящая фамилия аспиранта) и, заметив поднятую Алексеем руку, продолжил:
– Так, у тебя Фёдоров?
– Да, есть вопрос, – запинаясь, сказал Алексей: ему только сейчас пришла мысль, что, пожалуй, и его вопрос, и сама тема, так противоречащая всему, что им преподавали на лекциях по диамату, могут оказаться неуместными. Но студент, сообразив это, сумел выйти из положения:
– Только он не по теме. Я слышал, что техник Володя…
Тут Алексей окончательно умолк.
– А-а! – протянул аспирант. – Это действительно не по теме. Но если интересуешься, то заходи! (Аспирант заглянул в свой блокнот, где планировал и записывал все свои дела). Заходи третьего мая! А пока иди, а то после трепанации черепа, наверное, устал сильно?! – в заключение с улыбкой произнёс Магомет, проявив непонятную осведомленность.
Однако встретиться с аспирантом Алексею так и не привелось: тот куда-то исчез из института. Только к осени (то есть, уже на третьем курсе) стало известно, что Шахгельдян сначала улетел в Армению к тяжело заболевшей матери, а оттуда сразу в Москву, в НИИ патофизиологии к академику Анохину: какие-то дела в связи с защитой. Непонятно только было, почему в институт патологической, а не нормальной физиологии. Но рассуждать об этом на третьем курсе было просто: как раз приехал из Саратова новый, совсем молодой профессор и начал читать этот предмет. Знающие и интересующиеся этой наукой студенты объяснили остальным, что Пётр Кузьмич Анохин не просто патофизиолог и директор НИИ, но и создатель всемирно признанного системного анализа, системного подхода, который им начал вдалбливать новый профессор. А у Шахгельдяна он – оппонент по диссертации. Но всё это было потом, уже на третьем курсе. А тогда, весной шестьдесят восьмого, не имея собеседника по заинтересовавшей его теме, Алексей забыл об этом думать – иных забот хватало!
Вспомнился разговор аспиранта с изобретателем– инвалидом лишь осенью. Алексей опять был волонтёром на ночном дежурстве в клинике № 2, когда привезли пьяного, что называется, вдрызг студента ВИСИ – инженерно– строительного института. Собственно, не совсем верно говорить «привезли»: того притащили на носилках однокашники пьянчужки. Благо строительный институт располагался на том же проспекте Революции, что и Вторая клиника, во дворе которой размещалась городская станция скорой помощи. Принесли этого строителя и без дыхания, и без пульса. Так Алексей впервые получил наглядное представление о клинической смерти. Однокашники бедолаги, доставившие его, рассказывали, что стал он спускаться по водосточной трубе с третьего этажа, чтобы сходить из общежития в дежурный магазин за водкой. «Иначе бы его пьяного вахтёрша не выпустила» – объяснил тоже не вполне трезвый сотоварищ пострадавшего. В общем, неудачник сорвался, упал, а когда к нему подбежали, то он не дышал, и пульса не было.
Станислав Иванович Максимов – ответственный дежурный – глава бригады и ассистент кафедры, выясняя эти вещи, времени даром не терял: прежде всего, убедился, что на сонной артерии действительно нет пульса. Он дал команду: Дельцовой приступить к закрытому массажу сердца, старшей операционной сестре (по внутреннему телефону), чтобы готовили операционную. Тем временем дежурная фельдшерица приёмного отделения достала электрокардиограф и дефибриллятор. Лишь отдав распоряжения, необходимые для спасения поступившего, Максимов стал расспрашивать тех, кто доставил пострадавшего: всё это требовалось не только для будущей истории болезни, но и – прежде всего – для милиции (куда надлежало сообщить о несчастном случае в ВИСИ), и для прокуратуры, которая наверняка начнёт следствие, даже если пострадавшего удастся вернуть к жизни.
– Лёша, подмени! – потребовала Галина Андреевна, которая делала закрытый массаж сердца и смогла выдержать около минуты этого тяжёлого труда.
Участвуя впервые в жизни в мероприятиях реанимации, Алексей, тем не менее, внимательно слушал, о чём говорят старшие товарищи. Получалось, что двадцатилетний пациент уже около десяти минут находится в состоянии клинической смерти. Так что никчёмна вся эта нелёгкая работа – его и клинического ординатора Изабеллы, делавшей с помощью "гармошки" искусственное дыхание пострадавшему. Не прекращая дышать за пациента аппаратом и гоняя ему по сосудам кровь посредством массажа сердца, того доставили в операционную. Здесь бригада мгновенно подключила аппарат искусственного дыхания, электрокардиограф и сопряжённый с ним дефибриллятор. Максимов, надевший перчатки на не помытые должным образом руки и стерильный халат поверх них, ввёл в полость сердца хлористый кальций (адреналин в сердечную мышцу ввели ещё в приёмном отделении).
– Сколько?! – резко спросил Максимов, когда, повинуясь его приказу, с области сердца убрали электрод дефибриллятора.
– Семь минут с момента поступления, Станислав Иванович,– ответила Изабелла, следившая за временем и работой приборов.
– Нож! – распорядился шеф бригады и небрежно мазнув по коже марлевым шариком, смоченным спиртом с йодом и закреплённым в зажиме Кохера, одним движением скальпеля вскрыл грудную клетку неудачливого пьяницы.
Он начал так называемый открытый массаж сердца. Конечно, так и кровообращение лучше можно обеспечить, и больше шансов сердце запустить. Потом Максимов ещё раз ввёл в сердце адреналин. Однако и последующие шесть минут усилий не дали никакого результата.
– Сколько?! – ещё раз осведомился ответственный дежурный.
– Шесть открытого, тринадцать от начала реанимации, – сообщила Изабелла и, секунду помолчав, добавила: – Не менее двадцати – двадцати двух минут всего, Станислав Иванович! Энцефалограф на изолинии.
– Всё! Заканчиваем! – принял решение ответственный. Он сорвал маску, перчатки и с недовольным, мрачным выражением лица вышел из операционной.
Подразумевалось, что рану ушьёт Изабелла. Эту клиническую ординаторшу (или, как иногда говорили, аспирантку), прибывшую из Дагестана никто и никогда не называл по отчеству. Хотя ей уже было за тридцать, и по возрасту это был её последний официальный шанс получить последипломное образование. Она сама попросила, чтобы её звали только по имени, сославшись при этом на национальные традиции.
От пациента отключили аппаратуру. Операционная сестра, следя за тем, чтобы не расстерилизоваться, бросила на простыню, всё ещё прикрывавшую покойника снизу до пояса, изогнутую большую "кожную" иглу, тоненький остаток мотка шёлка, иглодержатель и пинцет.
– Лёша, зашьёшь? – предложила Изабелла. Алексей кивнул в ответ: почему бы не попрактиковаться, тем более, что вреда от этого теперь уже точно никакого быть не может.
Старшая операционная сестра дежурной бригады уже готовилась к другой операции, выкладывая инструменты на специальный (инструментальный) столик в строго продуманном и годами отработанном порядке. Алексей, ловким движением перекинув нитку через носик иглодержателя, заправил её сквозь прорезь ушка в иглу, взял зубчатый "кожный" пинцет и только тогда взглянул на рану, которую ему поручили зашить. Вся она была залита кровью. И всё равно было видно сильно и ровно сокращающееся сердце. Алексей машинально взглянул на часы, висевшие в операционной над выходом в "предбанник", где хирурги обрабатывали руки. Выходило более двадцати семи минут с момента начала реанимации и более получаса с момента остановки сердца!
– Изабелла! Скорее сюда! Ах, ушла. Шура, беги за Станиславом Ивановичем, скорее! – крикнул он санитарке. – Лидия Ивановна, стерильный кетгут, стерильные зажимы. Скорее!!
Лидия Ивановна, едва взглянув, всё поняла, протянула Алексею тупфер – кровоостанавливающий зажим Кохера с марлевым шариком в нём и спокойно сказала:
– На-ка, йод на кожу пока. Ничего, сосуды мелкие – от потери крови не умрёт!
В операционную, на ходу цепляя маску и без бахил, уже входил Максимов, а с ним и Изабелла. Мгновенно оценив ситуацию, он уже давал распоряжения, бросив Алексею:
– Дай-ка, Лёша, я сам. Дело милицейское, сам понимаешь! Хотя всё одно – безкорковый теперь! Так, Изабелла?!
– Станислав Иванович.– дрогнувшим голосом произнесла аспирантка, уже успевшая присоединить электроды энцефалографа. – Альфа-ритм… Нормальный альфа-ритм! Это через полчаса-то!
Позже этот случай послужил темой доклада ассистента Максимова и самого Алексея на студенческом кружке. Вроде бы посылали статью в журнал "Вестник хирургии", но редакция почему-то не приняла. А пациент, который – по всем канонам – просто обязан был если и не умереть, то остаться безмозглым созданием, лишённым сознания и способным лишь на "растительный" образ жизни,– этот пациент не просто остался жить, но и стал трезвенником, а впоследствии учился так, что лишь прошлые грехи помешали ему получить диплом с отличием. Он не только бросил пить, но начал выступать с лекциями о вреде пьянства. Но всё это было потом. А тогда, в клинике, где он провёл около месяца (рана всё же нагноилась), он рассказывал Алексею невероятные вещи. Оказалось, что он помнил всё: и о чём говорила спасавшая его бригада, и как звали её членов, и как обсуждали его глупость и неизбежную гибель головного мозга, если удастся сохранить ему жизнь. Он рассказывал, что видел и себя на операционном столе, и бригаду со стороны, откуда-то сверху. Говорил, что его взяла досада и такое раскаяние за пьянку и эту глупость с водосточной трубой, что у него "в глазах потемнело и пришла мысль: если бы меня спасли, я бы стал совсем другим". А что было после этого, он вспомнить не мог. Ещё он просил никому об этом не рассказывать, "а то в психбольницу отправят!"
Психиатр действительно приходил, благо кафедра психиатрии располагалась в психоневрологическом диспансере по соседству со Второй клиникой. Никаких отклонений психиатры кафедры у недавнего покойника не нашли, а своих рассказов Алексею пациент им не повторял.
Как бы то ни было, но этот случай стал для Алексея на несколько месяцев одной из основных тем размышлений. Он очень сожалел о том, что не было возможности поговорить с уехавшим преподавателем нормальной физиологии и с его приятелем-изобретателем Володей. Однако выходило, что изобретатель-самоучка был прав: душа – не душа, но нечто нематериальное, каким-то образом связанное и с жизнью, и с сознанием, существовало. И выходило, что это Нечто было непонятно как связано с материальным телом, но не накрепко, а динамично.
Это Нечто могло, хотя бы на какое-то время, обособляться от физического тела, существуя самостоятельно. Оно координировало и руководило деятельностью, жизнеспособностью материального тела: как иначе объяснить, что спустя более получаса после остановки сердца, то есть, наступления клинической смерти, жизнь упавшего с третьего этажа студента-пьянчуги восстановилась? Возобновилась не во время действий реаниматоров, а когда они уже оставили свои попытки, не давшие результата. Прекратили их, когда все сроки вышли.
Алексей счёл, что такое его (да и того инвалида– изобретателя Володи) представление о наличии некой нематериальной субстанции жизни согласуется с предположением о наличии трёх компонентов мироздания – невещественной (которую он до сих пор связывал с информацией), вещественной и связующей их полевой. "Может быть, – думалось студенту, – это и есть биополе?" Но тогда получалось, что оно структурировано и может хотя бы на время отрываться от своего носителя – физического тела человека. А чем же тогда это биополе видит? Может быть, так же, как и Роза Кулешова, о которой совсем недавно так много писали и в газетах, и в серьёзных журналах? Ответа не было. Зато были другие дела и заботы. Так что Алексей, что называется, на долгое время отложил проблему в долгий ящик. На всё его не хватало, а он ведь не собирался бросать избранной профессии, хотя и мелькала мысль, что, пожалуй, и в других науках нашлось бы, чему посвятить своё время.
На предпоследнем, пятом курсе во время цикла психиатрии группу, состоящую из восьми студентов, включая Алексея, ежедневно вёл доцент Шестаков, автор учебного пособия. На одном из занятий он в качестве иллюстрации так называемого синдрома Кандинского-Клерамбо, разобранного накануне, привёл из палаты в учебную комнату восемнадцатилетнего парнишку-шизофреника. Звали его Миша Коган. Когда больного расспрашивали о самочувствии, он почему-то сразу же начинал доказывать, что он не еврей, а англичанин, что сейчас 1943 год, и что все 110 мы – и он, и доцент кафедры психиатрии, и студенты – находимся в Германии, в Фульде. При этом он в деталях описывал этот германский городок, называл имя бургомистра, начальника гестапо и других видных городских жителей. Больной ничего не помнил из своего действительного прошлого. Родителей своих называл, как оказалось, вымышленными именами. Всё остальное, что говорил этот больной, точно соответствовало разбиравшемуся на занятии синдрому Кандинского. Вдруг, посредине беседы Миша запнулся, а затем с важным видом изрёк, что послезавтра пойдёт дождь, потом всё замёрзнет, и на следующий день санитарка Маша поскользнётся на льду и упадёт прямо на крыльце диспансера, сломав правую руку. Затем, как ни в чём не бывало, Миша продолжил рассказ о том, как ему космической пылью выжигали лёгкие.
Выглядел этот больной, по мнению Алексея, очень уродливо, неприятно: густые иссиня чёрные курчавые волосы не могли скрыть неправильной формы его черепа, как бы сплюснутого с боков и с плоским затылком; нос был даже для еврея слишком длинным, а зубы редкими; ноги короткие, а руки, наоборот, чуть ли не до колен. Алексей спросил у преподавателя, а не было ли родовой травмы, не использовались ли акушерские щипцы. Борис Иванович, руководивший группой студентов, внимательно взглянув на Алексея, дал отрицательный ответ. Потом, в свою очередь, поинтересовался, почему возник такой вопрос. Алексей ответил, что находит у пациента множество признаков дегенерации, но форма черепа может, по его мнению, объясняться и родовой травмой. Доцент улыбнулся, удовлетворённо кивнул головой и перечислил ещё несколько признаков вырождения, не названных Алексеем. В заключение он добавил, что есть серьёзные авторы, которые связывают не только шизофрению, но и другие психические болезни прежде всего с вырождением. На этом занятие в тот раз и закончилось.
Начиная с четвёртого курса, в медицинских институтах Советского Союза использовалась цикловая система преподавания: определённое время – от двух недель до трёх месяцев (в зависимости от дисциплины) практические занятия со студентами проводятся только по одному предмету, по которому они получают ежедневные задания, не считая одной – двух ежедневных лекций по другим предметам. Это позволяло, среди прочего, проследить за течением болезни у больных, закреплённых за студентами.
А в случае с "Мишей-англичанином" произошло следующее: через два дня действительно наступила первая оттепель – очень рано! Пошёл дождь. А на другой день ударил мороз, машины едва ползали по городу из-за гололедицы, а санитарка психдиспансера Маша и в самом деле упала на крыльце, заполучив при этом "перелом правой лучевой кости в типичном месте". Никто из остальных студентов группы не связал происшедшее с предсказанием больного Когана, но Алексей решил поговорить с "шизиком" – так за глаза прозвали студенты Бориса Ивановича Шестакова. Он и в самом деле был несколько странноват и и своими манерами напоминал больных. Как говорили сами преподаватели кафедры психиатрии, "нет психиатра без псишинки". Впрочем, это не мешало студентам относиться к доценту, автору учебного пособия, с искренним уважением.
Объяснение Бориса Ивановича совершенно не устроило Алексея: тот ссылался на метеорологическую чувствительность многих больных – не только психиатрических, на высокую вероятность упасть во время гололедицы, да на таком ещё крыльце, как у входа в диспансер, да при такой комплекции, как у тёти Маши. Алексей поблагодарил доцента, попрощался (это было после занятий) и отправился в областную библиотеку. Там он без особого труда нашёл то, что искал: старую карту города Фульды в Германии. И хотя карта не была ни довоенной, ни, тем более, времён гитлеризма, пытливый студент убедился, что Миша Коган, никогда не бывавший далее Семилук, действительно прекрасно знаком с городком, о котором рассказывал студентам группы Алексея на первом занятии. Несколько дней спустя Алексей через знакомых из университета узнал и имя бывшего бургомистра Фульды: Миша и тут оказался прав! Имя начальника гестапо узнать не удалось, но и полученных сведений было более чем достаточно, чтобы прийти к выводу: какие-либо случайности всех этих совпадений исключались!
Выходит, совершенно не ориентируясь ни в своей личности, ни в пространстве, ни во времени, ничего не зная о настоящем, – Миша Коган знал прошлое и предвидел будущее! К сожалению, пока Алексей смог собрать эти сведения, цикл психиатрии закончился, встретиться с "англичанином" больше не было возможности. Всё время опять заполнили другие дела и заботы, не связанные ни с точным знанием будущего, ни с "ложной" (но точно соответствующей действительности) памяти о прошлом: Алексей в то время готовил заявку на изобретённый им медицинский прибор, регулярно – по расписанию экспериментальной лаборатории кафедры – ставил опыты на собаках, за которыми, к тому же, надо было и ухаживать после произведённых им операций. На кафедре частной хирургии бытовало убеждение, что к концу института у Алексея будет готова кандидатская диссертация или, как минимум, окажется полностью завершенной экспериментальная часть. Так оно и вышло, но. это всё пришло позже. А пока что Алексей опять отложил необъяснённые сведения в тот долгий ящик, где уже лежали сведения об умершем и воскресшем студенте-строителе, гипотеза о душе, где находились и сомнения в возможности хранения в генах всей информации, необходимой для построения тела человека из оплодотворённой яйцеклетки и питательных веществ.