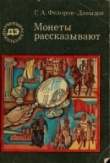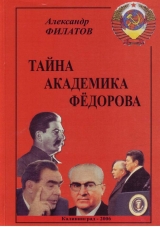
Текст книги "Тайна академика Фёдорова"
Автор книги: Александр Филатов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Как-то раз для работы Фёдорову понадобился редкий и дорогой прибор. Не раздумывая долго, он отправился в "Пламя" и, предъявив соответствующий пропуск, вскоре был в кабинете у Ахмета Мирзагидовича. Тот, с полуслова поняв, что требуется для продолжения исследований и какие результаты прибор может дать, тут же, по ВЧ, обзвонил предприятия отрасли. Это была и помощь, и одновременно знак высокого доверия: лишь люди высшей степени допуска к секретности вправе были знать, географию отрасли, места расположения её объектов.
– Через неделю доставят из Златоуста,– сообщил генерал.
– Как, подойдёт? Или заказать самолёт?
– Спасибо! – ответил Фёдоров и, заглянул в свой блокнот, где ему одному понятными значками был расписан план исследований со сроками их выполнения. Потом добавил:
– Если через 8 – 10 дней начнём, думаю, уложимся в срок. Так что, самолёт гонять незачем.
Генерал удовлетворённо кивнул, потом лицо его
помрачнело, и он с горечью произнёс:
– Честно говоря, не знаю, зачем мы с вами ещё возимся. Всё стараемся что-то сделать. Слышали, что Горбач сокращает нашу отрасль, а вскоре собираются продать часть патентов во Францию. Конверсию надумали проводить. Я прикидывал: наши соковыжималки будут гнать сок по сорок рублей за литр! Не копеек, а рублей!!! Мы же не можем быть конкурентоспособными… Вообще не можем!
Фёдоров помолчал, переваривая информацию и непроизвольно хмуря брови. Потом ответил:
– Ну, что же – американцам расходы снизим: они смогут убрать спутник, который висит над нами из-за продукции 93-го отдела. А через годик, глядишь, и сами развернут подобное производство – французы с них дорого не запросят! А насчёт конкурентоспособности. Дело ведь здесь не столько в организации труда, сколько в климате, расстояниях, труднодоступности наших полезных ископаемых. На Новой Земле стаканом риса в день не обойдёшься и без шубы, в дощатом сарае не проживёшь!
– Россия – не Тайланд! – соглашаясь, как бы отрезал генерал, назвав страну по-западному, за чем тоже скрывался понятный для них обоих смысл.
Оба помолчали. Потом Фёдоров заключил:
– Честно говоря, Ахмет Мирзагидович, полагаю, что только идиот мог поверить во всю эту чушь с рейгановскими "звёздными войнами", принять всерьёз на уши лапшу этой "СОИ".
– Да-а,– протянул генерал, соглашаясь. – Или враг .– едва слышно добавил он.
В четверг 28 декабря Фёдоров сдал отчёт руководителю одного из отделов ОКБ Провоторову, обычно замещавшему в подобных делах Ахмета Мирзагидовича, когда тот куда-то уезжал. Провоторов был далеко не молод и, как казалось Алексею Витальевичу, не отличался слишком глубоким умом, хотя и был чрезвычайно опытен. О нём говорили, что прежде он работал у самого И.В. Курчатова. Это, конечно, была Характеристика! Сообщив в ответ на вопрос Федорова, что генерал ещё не вернулся из Москвы, из министерства, Провоторов без интереса пролистал отчёт, чуть задержавшись на диаграммах, в которые с таким трудом удалось воплотить основные результаты работы. Заключение и выводы он прочитал внимательно, но тоже без интереса. А вот за магнитную ленту для ЭВМ, на которой была записана диагностическая программа, поблагодарил от души и даже улыбнулся, взглянув на Фёдорова:
– Ну, с этой программой мы, пожалуй, сами сможем выявлять и отсеивать тех, кому воздействия нашей продукции вредны! Всё? Тему завершили?
– Нет, конечно! А специфические меры защиты, профилактики? А методы нейтрализации, если хотите – лечения? Всё это стоит в плане!
– Да, да, – торопливо согласился Провоторов и, взглянув на часы, закончил:
– Думаю Ахмет Мирзагидович, как приедет, сам свяжется с вами. До свидания.
Получив документ о том, что годовой этап сдан заказчику и принят им досрочно, Фёдоров покинул ОКБ "Пламя". Предвидя после давешней стычки с ректором возможность осложнений, он попросил у Провоторова лишний оригинальный экземпляр приёмо-сдаточного документа – для себя. Весь следующий день он посвятил приведению в порядок внутренней документации: что поделаешь, руководя темой, в какой-то степени из учёного неизбежно становишься администратором. Эту часть своей работы Фёдоров ненавидел и потому старался выполнить её как можно лучше и быстрее. Сдав лабораторию на пульт охраны (опять дежурил Стас, которого Фёдоров не преминул от души поздравить с наступающим Новым 1990 годом), он с чувством исполненого долга отправился домой.
А во вторник второго января он не смог попасть в свой рабочий кабинет: комната не только была опечатана снаружи чужой печатью, но стоял и другой замок. Громкоголосая и влюблённая в себя лаборантка, дружившая с сотрудницами его группы, предавшей Дело и Истину, Сильвия Гавриловна Попейчук, ехидно ухмыляясь, заявила:
– А что вы тут, собственно, делаете? Это режимная лаборатория, и посторонним сюда вход запрещён!
– То есть как это – посторонним?! – возмутился Фёдоров, начиная теряться, утрачивать под собой почву, но, не желая признаваться в этом ни себе, ни тем более Сильвии.– Я руковожу этой лабораторией, это моё место работы, наконец!
– Было! Было! – радостно смеясь, как всегда чрезмерно громко проговорила лаборантка и продолжила:
– А вы что – не знаете, что уволены? Ну, так идите в отдел кадров, там вам дадут расписаться, выдадут трудовую книжечку, – начиная растягивать слова и явно издеваясь, вещала лаборантка.
Из лаборантской, дверь в которую была приоткрыта, послышался знакомый прокуренный голос Маргариты:
– Сильвия! Чего ты с ним объясняешься? Пусть катится… (куда именно, Фёдоров не расслышал, так как адрес был назван куда более тихим голосом). Иди сюда, к нам!
Теперь поведение лаборантки стало более понятным. Не говоря более ни слова, Алексей Витальевич вышел на лестничную площадку. Тихо прикрыв за собой дверь, ведущую в их, то есть бывший его, отсек, он спустился на первый этаж и, постояв немного на крыльце, отправился в административный корпус.
Последовавшие за этим события Фёдоров не любил вспоминать. Постепенно всё это как бы отошло в его памяти на задний план, оставив лишь впечатление пережитого ада. Действовавший тогда в университете Совет трудового коллектива (СТК), членом которого состоял и сам Фёдоров, даже не попытался вступиться за нежданно-негаданно лишённого работы учёного. Митя Никитин и двое друживших с ним физиков пытались заступиться, но и то лишь как частные лица, а не члены СТК. Не помог и партком – никто не смел выступить против Медунова, младший брат которого был любимцем "самого" Горбачёва. Но прокуратура помогла: в конце января противозаконное увольнение было отменено, Фёдоров оказался восстановленным на работе, но. место работы исчезло: другим приказом ректора лаборатория оказалась закрытой. Митя Никитин помог и здесь – Фёдоров числился старшим научным сотрудником его группы с 18 декабря прошлого года. Почему так? Да потому, что начиная с этой даты лаборатория считалась закрытой, несмотря на то, что Фёдоров как раз завершал работу над отчётом, а 28-го досрочно сдавал его заказчику. Не говоря уже о том, что ежедневно лаборатория снималась с пульта охраны и сдавалась под охрану самим Федоровым. Всё это время он числился. в прогуле.
Алексей Витальевич и годы спустя был признателен районному прокурору Калининграда, вызволившему его из хитросплетения подлогов, клеветы и беззакония. Конечно, числясь с.н.с. у Никитина, он терял и в заработке, и в положении, и в душевном равновесии: в самом деле, как он мог работать в абсолютно чуждой для него сфере?! Просто Митя, восстанавливая справедливость, уравновешивал не существовавший двухнедельный прогул несуществующей работой. С другой стороны, этим он давал Фёдорову шанс и время, чтобы найти другую работу. Но где и какую "подходящую работу" (так это вскоре стало называться в принятом при Горбачёве "Законе о занятости") может найти в Калининграде учёный-медик, если нет ни медицинского вуза, ни каких– либо НИИ, если он уже второй десяток лет занимается чистой наукой и забыл многое из того, что касается так называемой практической медицины?
Но дело было ещё и в том, что пойти, например, на должность участкового терапевта ему, учёному с международной известностью, автору ряда изобретений, монографий, множества научных статей, понятных только специалистам, означало примерно то же, что лётчику – командиру ТУ-154 стать "водителем кобылы".
К марту Фёдоров исчерпал все возможности хотя бы как-то пристроиться в существующие в городе лаборатории (все они были так или иначе связаны с обороной). Каждый раз было одно и то же: подача заявления, затем – вначале приветливая встреча, чуть ли не радость потенциальных будущих начальников, а потом невнятный, но твёрдый отказ, сопровождавшийся взглядом несостоявшегося начальника куда-то вбок или в землю. Нетрудно было понять, с чем и с кем всё это связано! Да и Дмитрий Анатольевич всё чаще, тоже глядя куда-то в сторону, стал спрашивать об успехах в поиске работы. Так что с первого марта Фёдоров подал заявление об уходе с работы "по собственному желанию" и оказался полностью безработным, видимо одним из первых в СССР безработных наивысшей квалификации. Спустя какой-то год – полтора это явление стало массовым и обычным, но тогда – весной девяностого, это была непривычная, непонятная и крайне тягостная редкость.
Оставив всякую активность одновременно с получением на руки выходного пособия и трудовой книжки, Фёдоров вначале несколько дней отдыхал. Это было действительно необходимо – на здоровье сказалось перенапряжение последних месяцев, все эти несправедливости, поиск работы, непривычное ощущение собственной никчёмности при высокой профессиональной квалификации, стресс в результате столкновения со стеной, непонятно как выраставшей перед ним. Но через неделю, окрепнув физически, восстановив утраченную было способность засыпать, Фёдоров стал впадать в глубокую депрессию. Это явилось результатом и всего происшедшего с ним, и следствием отсутствия режима и необходимости самодисциплины. Никуда не надо было спешить, ничего не надо было планировать, никто не ждал от него никаких советов или указаний, никто не отдавал никаких распоряжений, не к чему было приложить ни профессиональные знания, ни навыки и умения – всё это было лишним, никем не востребованным, никому не нужным, как и он сам.
Вот только матери было тяжело глядеть на него. Но Алексей скрывал, вернее, – пытался скрывать от неё свои невзгоды. Впрочем, сердце матери не обманешь, хотя и жили они не вместе, а километрах в полутора друг от друга. В личных делах ситуация была не лучше. Виктория позвонила ему из Ленинграда под Новый год, догадавшись, что он пойдёт на этот вечер к своей матери, и узнав откуда-то номер телефона. Состоялось очень тёплое и искреннее объяснение по телефону. Выяснилось, что обоим говорить так оказалось проще. Теперь Алексей Витальевич с полным правом мог объявить, что у него в Ленинграде невеста. Но что и как он должен был и был вправе решать теперь – в его нынешнем положении? Хорошо ещё, что Виктория все эти месяцы провела в Ленинграде, навёрстывала упущенное, готовилась к защите диплома. Собственная крайняя загруженность мешала Виктории уловить неестественность и фальшь в бодром тоне Фёдорова во время их нечастых и недолгих телефонных разговоров. Как ей рассказать обо всём, когда она вернётся в Калининград?!
Видя, что мама страдает, Алексей стал, во-первых, бывать у неё лишь по вечерам, когда в желтоватом искусственном свете легче скрыть внешние следы своего нынешнего положения и списать всё на усталость. Во-вторых, он стал врать, вернее, не прибегая к прямой лжи, создавать у матери впечатление, будто он где-то работает и что его неухоженный внешний вид и растерянность вызваны непривычной работой и трудностью адаптации к ней. Сам же он, честно говоря, ни о чём в своём нынешнем состоянии и положении думать не мог, а был всецело поглощён своими невзгодами, своим отчаянным социальным и профессиональным положением.
Он принялся искать свои ошибки, прикидывать, а как бы поступил в той или иной ситуации теперь, при своём нынешнем опыте, зная наперёд, к чему приведёт то или иное его действие или бездействие, сказанная фраза или молчание. Все ситуации, которые он таким образом проигрывал, были так или иначе сопряжены с тем, что привело к потере работы и даже самой возможности профессиональной деятельности. Последнее обстоятельство было именно таким – утрата возможности работать в соответствии с профессией и квалификацией. Ведь не ехать же ему отсюда, где он имел квартиру, где уже годами сложился и устоялся быт, в белый свет. Бросить всё и начать заново? В принципе – возможно, но лишь теоретически: куда ехать-то? Разве его кто-то где-то ждёт, приглашает, направляет?
На письма, ещё в марте отправленные в Москву – в Минвуз, в Минздрав – и сейчас, в июне, не было никаких ответов, хотя к письмам он приложил и списки своих научных трудов, и копии трудовой книжки, и заверенные нотариусом копии диплома ВАК. В мае он сам ездил в Москву и понял, что всё незаметно, но неотвратимо изменилось. Отношение к нему во всех инстанциях, куда он обращался в поисках работы, разительно отличалось от того, к которому он привык и которое было нормой до Горбача – "этого с кляксой на лысине", как уже почти открыто отзывались все знакомые Фёдорова о нынешнем руководителе страны. Съездив в Москву, Фёдоров убедился, насколько правильна и актуальна новая поговорка: "Раньше говорили – иди к чёрту, теперь говорят – приходите завтра".
Когда чувство горечи и досады от переживаемой несправедливости немного утихло, когда он смог взглянуть на происшедшее с ним в контексте развития общей ситуации в стране, только тогда он смог постепенно выйти из своей депрессии. Тогда-то, в июне 1990 года, незадолго до возвращения из Ленинграда невесты, и родилась у него странная мысль: а нельзя ли найти способ, чтобы всё переиграть, чтобы повернуть развитие страны на другую ветвь? Только в таком душевном состоянии, которое было у Фёдорова в то время, когда психика, не выдерживая одновременно свалившихся на него невзгод, оказалась на хрупкой грани между психическим здоровьем и болезнью, – только в этих условиях и могла зародиться подобная безумная мысль.
Фёдоров отдавал себе отчёт, в каком оказался положении, как опасно оно для психического здоровья. Знал он и то, что такая депрессия, которая сочетается, как у него, с необычным повышением активности, называется ажитированной. Что именно в таком состоянии люди чаще всего и совершают самоубийство. Однако кончать с собой он не собирался: мешала и ответственность (хотя бы перед своей невестой и матерью), и не угасшее стремление восстановить справедливость. Вот тут и родилась у него безумная идея – каким-то образом повлиять на прошлое, чтобы изменить настоящее, не допустить его.
Размышляя (и тогда, и – ещё больше – в последующие годы) о зарождении своей мысли, Фёдоров пришёл к выводу, что она возникла не только в результате всего пережитого им в связи с утратой работы, но и потому, что он не отделял своей судьбы от судьбы всей страны, не противопоставлял себя ей, как это делают многие, в основном – лица одной и той же национальности, называя СССР – Россию "этой страной". Наконец, Фёдоров связал зарождение своей безумной идеи с собственным, казалось бы, прочно забытым личным опытом, полученным в студенческие годы.
Ну, и совсем уже последним было то, что, как исследователь по призванию, он привык генерировать множество самых разных идей, мыслей, догадок, предположений – любых, если они могли объяснить какое-то явление, какие– то факты, словом – всё, что не укладывалось, не объяснялось общепризнанным способом. Лишь после записи и тщательного анализа всех мыслей и породивших их фактов Фёдоров безжалостно вычеркивал, забывал всё, что этим фактам не соответствовало. Правда, записей своих он никогда не выбрасывал, а напротив – классифицировал и разносил по соответствующим карточкам, после чего забракованные мысли можно было и надлежало прочно забыть, чтобы они не мешали. А понадобится – записи можно извлечь.
Вот и сейчас, не имея ни рабочего места, ни служебных обязанностей, ни предмета и темы для профессиональных размышлений, Фёдоров уцепился за свою "безумную идею". К тому же, она помогала отвлечься от личных невзгод. Придя в гости к матери вечером того дня, когда у него эта бредовая идея родилась, Фёдоров, хотя и выглядел усталым, даже измождённым, опять чувствовал в себе наличие цели и смысла жизни.
– Ну, что, Лёшечка? Как? Полегче сегодня? Пошли дела на лад? – поинтересовалась заботливым тоном мама.
– Да-а. Есть кое-какие мыслишки,– ответил Фёдоров.– Но говорить пока что рано!
Мать кивнула с удовлетворением. Она и не рассчитывала на сколько-нибудь вразумительный, тем более исчерпывающий, ответ. Ольга Алексеевна знала, что, не завершив дело, Алексей никогда и никому о нём не скажет. Ей вполне было достаточно знать, что любимый сын смог каким-то образом справиться с невзгодами (неважно, какими!) и вновь обрести цель и смысл жизни.
Строя свою фантастическую гипотезу, Фёдоров связал воедино фрагменты из представлений В.И. Вернадского о ноосфере, тибетские верования и постулаты индуизма о переселении душ, христианства – о загробной жизни, экспериментальные данные о невозможности точного измерения гравитационного поля и о влиянии на крутильные весы живых организмов, об уменьшении веса умирающего организма в момент смерти, так называемый феномен Бакстера в опытах с официально считающимися неодушевлёнными растениями, результаты секретных исследований "экстрасенсов", о которых ему доверительно поведал один из его оппонентов профессор А.Н. Меделяновский, доказанные случаи видения без глаз, точнейших сбывшихся предсказаний, известные из психиатрии феномены "уже виденного" и "никогда не виденного", теорию А. Пуанкаре (присвоенную и переиначенную Эйнштейном), представления о фракталь– ности мира, возможности наличия дробных объектов (не двумерных – не трёхмерных, не трёхмерных – не четырёхмерных, и так далее), а также и свои студенческие размышления на темы пространства-времени, трёх основных начал мироустройства (перекликавшихся с христианским представлением о Святой Троице), те, что были связаны со смертью – самовоскрешением студента-строителя, с ложной (но точной и верной) памятью прошлого и предсказанием будущего шизофреником Мишей Коганом. Не забыл Фёдоров и гипотезу о параллельности миров.
Говоря коротко и только о том, что могло иметь отношение к фантастическому проекту изменения будущего посредством воздействия на прошлое, Фёдоров излагал свою гипотезу так:
"Бесконечная вселенная одновременно и конечна, построена из трёх основных начал: вещества – поля – информации; все предметы и явления во вселенной связаны; при этом, прошлое – настоящее – будущее относительны; душа как часть информации вселенной не исчезает и не появляется из ничего, а лишь переходит из одной формы в другую, будучи связана временно с одним или другим органическим носителем, но живые, наделённые сознанием организмы этого не осознают; со смертью организма та часть мировой информации, которая была связана с ним биополем – душа, покидает его, но может взаимодействовать с иными организмами, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку; можно найти способы обособления души без смерти организма-носителя, установления связи души с другими организмами или тем же самым, но находящимся к нему самому либо в состоянии прошлого, либо – будущего".
Иначе говоря, теоретически достижимо сделать так, чтобы человек как носитель души, то есть структурированного сгустка информации, вспомнил будущее или же, телесно живя в настоящем, информационно смог находиться в прошлом или будущем. Исходя из целостности души как особого структурированного сгустка информации, можно говорить лишь о таком "перемещении во времени", которое ограничивается сознательной жизнью данного человека.
Исходя из своей гипотезы, которую Фёдоров находил "достаточно безумной, чтобы она оказалась истинной", он полагал, что, уничтожая людей, наделённых высокой моралью, богатыми творческими идеями, этим сокращают напряжение информации добра в этом мире (понятно, что в пользу зла), но одновременно изменяют – в противоположном направлении баланс зла и добра в мире душ, неощущаемом живущими. Но поскольку оба мира связаны, хотя мы этого и не осознаём, общий баланс при этом не изменяется. Более того, ТОТ мир (невидимый для нас, не осознаваемый нами) может влиять на ЭТОТ (в котором мы живём). Отсюда следовал вроде бы странный вывод о том, что наказывать тяжких преступников бесполезно и вредно – они, их души, наполненные злом, будут незримо и непредсказуемо тяжко влиять на события в этом, нашем с вами мире. Другим выводом было то, что следует здесь, сейчас и немедленно воспитывать людей в добре и для добрых дел. Но главное, получалось, что, найдя способ взаимодействия, связи с ТЕМ светом, можно оказывать влияние на развитие ЭТОГО мира.
Фёдоров считал для себя ясным, даже очевидным, что если бы удалось подключить ту часть души человека, которая отвечает за его знания и жизненный опыт, детальные сведения о происшедшем и его последствиях, к сознанию этого человека в его прошлом, то вести себя он стал бы совершенно иначе. Здесь возникало множество вопросов. Останется ли психически полноценным такой человек прошлого после "подключения" к нему его же души из будущего? Что станет с ним – будущим, если удастся такое подключение? Если он как бы раздвоится, то не должно ли получиться две совершенно разные личности (с разным жизненным опытом)? Тогда откуда для этого прошлого брать информацию из будущего? Куда потом денется эта личность из прошлого? Или же, наоборот, в момент "подключения" к прошлому исчезнет подключаемый человек будущего? Возможно ли, что посредством такого подключения просто будет создан "мост" между прошлым и будущим, а личность из прошлого как бы получит советчика из будущего?
Чем больше Фёдоров размышлял обо всём этом, тем сильнее в нём крепла мысль, что всё это – бред, совершенно несуразная и неисполнимая фантазия, количество антиномий в которой огромно. Выходило, что и заниматься этим всерьёз, как он было начал, не следовало. Но как же с теми обобщёнными им сведениями (фрагментарно изложенными в этой главе)? Если отбросить то, что было почерпнуто из разных религий мира, всё остальное – факты, полученные экспериментально и не объясняемые в их совокупности современной наукой! С другой стороны, Фёдоров прекрасно знал, что древние люди были бедны фантазией, что их выдумки никогда не шли дальше рекомбинации известных им фактов. Пусть фактов примитивно объяснённых и неверно понятых, но именно – фактов! Гипотеза о наличии того, что условно названо душой, а он представлял себе особо структурированной разновидностью мировой информации, объясняла множество фактов такого рода и давала толчок к развитию.
Было и ещё одно соображение, которое убеждало Фёдорова в необходимости экспериментальной проверки: идея возможности информационного "моста" сулила неслыханные выгоды (как, впрочем, и ужасы – в зависимости от того, в чьи руки такой мост попадёт). Так Фёдоров пришёл к решению – искать возможности экспериментальной проверки. Ясно, что заикаться о возникших у него соображениях было нельзя: во-первых, легко угодить в психбольницу, хотя теперь и отменили принудительную госпитализацию, предоставив право опасным психическим больным свободно жить и действовать среди здоровых; во-вторых, окажись его гипотеза верной и попади она в злые руки. (Кстати, поэтому и мы здесь изложили гипотезу Фёдорова лишь фрагментарно и в самых общих чертах, полностью умолчав о тех подходах и методах, которые он придумал для экспериментальной проверки своих гипотетических построений).
К осени девяностого года Алексей Витальевич составил детальный план экспериментальной работы. Составил он и перечень того минимального оборудования, которое могло потребоваться. Составил и лишь покачал головой: при его сбережениях это представлялось совершенно недостижимым! Надо было искать источник доходов, больших, следовательно – нетрудовых доходов. Приняв это решение, Фёдоров оставил пока что свой рабочий стол, бумаги, карандаши и ручки, соорудил в квартире (где он жил один) надёжный тайник и поставил стальную входную дверь. Вновь начались ежедневные поездки в Калининград. Теперь он старался найти такой кооператив, где оказалось бы лично для него возможным получение высоких доходов, не связанных с криминальной деятельностью.