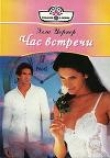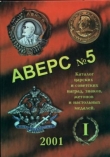Текст книги "Царские врата"
Автор книги: Александр Трапезников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
– … Вот сейчас, после того, как «Боинги» врезались в Америку, новый отсчет времени пойдет, – говорил атаман Колдобин. – Будет летоисчисление от 11 сентября 2001-го года. Всё на этом завяжется, теперь главной датой станет. До и после. А что после? Кровавый передел мира. Сами себя разбомбили – в этом я уже не сомневаюсь – а вскорости любую страну наказывать начнут. Пойдет игра по их правилам.
– А мы что же? – спросил Игнатов.
– А мы под Америку ляжем, окончательно, – ответил кто-то.
– Нет, не скажите! – возопил Иерусалимский. – Одному старцу в Сибири видение было: пронесется над Штатами смерч страшный, а в нем – Змий, многих поглотит, а Бушем и Кандализой этой отрыгнет.
– Но вообще-то, крепкий союз с Америкой нам бы не помешал, – произнес Борис Львович. – Выгод много. В ВТО вступим, да и в НАТО тоже, не поленимся. Поправку «Джексона – Веника», наконец-то, отменят. Признают страной с рыночной экономикой. Не мало.
– А веником по морде не хошь? – крикнул ему из-за стола Иерусалимский. – Мало не покажется!
– Тихо, тихо! – пробасил отец Кассиан. – Черт с ней, с Америкой, давайте за Россию выпьем.
– Да уж сколько пить за нее можно? – сказал Котюков. – Всё пьем и пьем, пьем и пьем. Пора на трезвую голову вопросы решать. Пропьем скоро Царствие-то Божье. И не заметим.
– Нам бы, главное, Православие сохранить, а экономика приложится, – промолвил молодой инок. – Всё меньше и меньше в мире подлинно христианских стран остается. Католики изменились, они новую мировую религию приветствуют.
– Что за религия? – спросил Игнатов.
– Экуменистическая, – пояснил инок. – Смесь всего, где православию последнее место отводится.
– Это не новое дело, – сказал Меркулов. – Мне тут попалась книжка одного философа девятнадцатого века, француза Балланша. Он открыл провиденциальный смысл революционных потрясений в истории человечества и пришел к выводу, что кризисы являются в одно и то же время искуплением и испытанием, что человечество таким путем идет к более совершенному состоянию. К палингенезису. То есть к сотворению нового человеческого рода. Следовательно, все потрясения – благо. И взрывы в Америке тоже. Разумеется, благо это особого рода, выгодное тем, кто устраивает эти революции и кризисы. Отсюда и экуменизм вытекает. Собственно, всё вытекает: и религия, и политика, и культура, и экономика.
– Ничего не понял, – проворчал Иерусалимский. – Палин…генез какой-то. Майонез-полонез. Проще надо быть, к земле ближе.
– Можно и проще, – улыбнулся Меркулов. – Есть ветхий человек, библейский, и есть новый. Вот вы себя к кому относите?
– Ну-у, к ветхому, – ответил Иерусалимский. – Стар уже.
– Дело не в том, библейский человек – Божий. Новый – от дьявола. Он его лепит, лепит изо всех сил, уже на протяжении многих тысячелетий, а вылепить всё не получается. Это я вам как скульптор говорю. Душу в него вложить не может. Впрочем, новому человеку душа-то и не нужна. Зачем? Лишний орган. Вот и сейчас стараются слепить как можно больше «новых». Через потрясения.
– Это вы на «новых русских», что ли, намекаете? – спросил мой знакомец-крепыш, Коля-Камнерез.
– Новое тогда сильно и благостно, когда оно нравственно, – ответил ему Меркулов.
– Согласен, – поддержал скульптора Котюков. – Без нового нельзя, выбора тут нет, иначе ход истории остановится, но в сути своей оно должно работать не на время, а на вечность. Время – мишура, вечность – всё.
Мне удалось протиснуться к Даше, которую я наконец-то обнаружил неподалеку. А вот Павел куда-то делся. Еще когда мы входили в трапезную, нас раскидало в разные стороны.
– Ну, как ты? – шепотом спросил я. – Не скучно?
– Тс-с! – ответила она, приложив палец к губам, будто я оторвал ее от интересной лекции. И вообще она какая-то странная была, неузнаваемая. И ничего не ела.
– Хочешь, я украду тебе хотя бы апельсин? – предложил я. – Или пойдем по теплоходу прогуляемся? Там, внизу, есть кают-кампания, бар.
– Нет, здесь постоим, – мотнула она головой. – Никуда не надо.
«Хорошо, – подумал я. – Здесь, так здесь, главное – вместе».
А за столами, там временем, продолжалась «перекличка».
– …Не надо нам вообще ничего нового, – говорил Иерусалимский. – И реформы никакие не нужны, глупость это. Ежели на корабле, во время плавания, ремонт делать, так он потопнет. Так, что ли, Тарас Арсеньевич?
– Дурак ты, Петр Григорьевич, – ответил ему капитан, что-то пережевывая. – А если тебя обстоятельства застали после шторма в море? Пробоина, скажем. До дока тянуть? Не дойдешь, на дно ляжешь. Латать надо дыру, пока не поздно.
– Аллегория понятна, – сказал «мэрский деятель». – Дыр у нас на нашем государственном корабле много, это верно. Но ждать порта-приписки некогда, нужно всем вместе навалиться. Хором.
– Хором петь полезно, – заметил Котюков. – А для каждой дырки свой специалист требуется. Вот вы кто по профессии?
– Я-то? Инженер-гидролог, – ответил «мэрский деятель».
– А почему же тогда в правительстве Москвы культуру курируете?
– Его туда «посадили», – засмеялся писатель. – И поливают из леечки, чтобы не засох.
– Вот-вот, так у нас везде, – продолжил Котюков. – Врачи на рынках петрушкой торгуют, учителя за шмотками в Турцию гоняют. Книги пишут парикмахеры и бывшие милиционеры, а в Думе артисты заседают. Оттого и бардак, нет порядка. Человек хлебное место ищет, а не работу по душе.
– Позвольте, а зарплата «по душе» какая? – заявил кинорежиссер. – Это ведь тоже учитывать надо. Слёзы, а не заработок. Даже я не могу свой фильм три года снять. Культура гибнет. И гидрология тут не виновата, просто идей нет. Сплошные кальки с Запада.
– Куда ж они делись, идеи-то? – спросил Меркулов. – Вот я ими не обделен. Смотреть надо шире, глубже – и увидите. В одном только прошлом России огромное богатство. На сто лет вперед хватит. Не надо идеи вымучивать, стоит лишь обратиться к одному Сергию Радонежскому.
– А молодежь поймет ли? – усмехнулся писатель. – Им ведь чупа-чупс подавай, сладенькое. Что им Сергий? Они и не слышали про такого. Не знают даже, кто Великую Отечественную войну выиграл, говорят, вроде бы немцы. Потому что живут лучше.
– Молодежь не виновата, системного образования нет, – сказал Игнатов. – И нет уже почти никаких духовных ценностей. Всё за копейки распродано. А идеи общей, объединительной, также не существует. Знаете, в чем она, на мой взгляд? В Царских Вратах.
Я даже вздрогнул, услышав его слова. Инстинктивно нашел руку Даши и сжал ее ладонь. А Игнатов продолжил, будто повторяя мои недавние мысли:
– Это вход ко Престолу Господа, вот куда нам всем нужно стремиться: и правым, и виноватым, богатым и бедным, счастливым и несчастным, идти к ним, не оглядываясь, не запинаясь, не слыша криков толпы, все другие врата ведут в ад. Пасть перед ними на колени и ползти, если идти не в силах. В кровь обдери всего себя, а ползи. Тогда победишь врага, сидящего внутри тебя. Внешние-то враги – что? Тьфу, мелочь, самообман, в принципе. Мы их сами себе выдумываем. Потому что себя-то и боимся. От себя другими заслоняемся. А внутри тебя – смерть, это и есть-то твой главный враг. Но и она перед Царскими Вратами – ничто.
Игнатов резко замолчал, не в силах сам справиться со своими словами, налил себе рюмку водки, половину расплескав, и залпом выпил. Некоторое молчание наступило в трапезной.
– Ты, Сергеич, не переусердствуй, – пробасил отец Кассиан. – Больно круто взял. Но за Царские Врата и я выпью.
– И я, – добавил Борис Львович.
Я всё еще не отпускал Дашину руку, а она вдруг тихо сказала:
– Мне надо с тобой серьезно поговорить, Коля.
– Конечно, когда? – поспешно ответил я.
– Лучше всего – сейчас. Может быть, другого случая и не будет.
Мне ее слова совсем не понравились. Чем-то холодным на меня повеяло, будто ветерок прошел. Даша выглядела очень серьезной и бледной. «Совсем переменилась», – подумал я.
– Говори, – сказал я. – Или пойдем на палубу?
Но нам не удалось перемолвиться. Котюков постучал рюмкой о бутылку, призывая всех к тишине.
– А теперь, господа, прежде чем нам подадут жаркое, приглашаю всех на одно мероприятие, – сказал он. – Нас ждет сюрприз. Немного проветримся и выйдем на палубу.
Гости начали выходить из трапезной, мы с Дашей задержались, и тут я увидел, наконец, Павла. Он вышел из-за декоративной колонны, а за ним шел Заболотный.
– Фейерверк будет, – шепнул мне Мишаня. – Уж я-то знаю. Видел, как петарды из джипа сгружают.
– Даша! – позвал я, но она уже скрылась за дверью.
Все дальнейшее происходило как в каком-то голливудском боевике. Но сценарий, в котором мне довелось принять участие, написала сама жизнь. Может быть, лишь кто-то из присутствующих его слегка поправил. Так потом, анализируя события, мне казалось. Во-первых, я не отставал от Даши, всё хотел с ней переговорить, но она, на сей раз, почему-то отмалчивалась или уклонялась от темы. Впрочем, сама тема была мне вообще не ясна. Во-вторых, Павел…
Он стоял вместе с нами на палубе /мы выбрали местечко на корме/, смотрел на пристань, где готовились подпалить петарды, а взгляд становился всё более и более бесцветным. Зубы его были крепко сжаты, на лбу выступили капли пота. Иногда он сильно тер виски пальцами. Я понимал, что у Павла начинается приступ, но всё продолжал приставать со своими расспросами к Даше. А тут еще Заболотный трещал вокруг нас без умолку. Словно заведенный. На палубе толпился народ, смеялся, балагурил, а Игнатов с Котюковым стояли на капитанском мостике. Они о чем-то мирно беседовали. Скоро к ним присоединился и Меркулов. Я видел Бориса Львовича, облокотившегося о перила, атамана Колдобина рядом с ним, прохаживающихся по палубе Иерусалимского с отцом Кассианом, Свету со своим крепышом-камнерезом, всех. Но мысли мои были заняты только Дашей.
Тут она вдруг наконец-то посмотрела на меня и произнесла:
– Мы с тобой, Коля, наверное, больше никогда не увидимся.
– Что? – я действительно не расслышал, поскольку вокруг было необычайно шумно. Она повторила.
– Почему? – спросил я, наверное, остолбенев от неожиданности.
– Я уезжаю.
Мне не удалось задать следующий вопрос. Павел покачнулся и стал как-то заваливаться на меня. Его подхватил Заболотный.
– Н-ничего, – выговорил Павел. – П-пройдет.
– Ему врача надо! – выкрикнула Даша.
– Я провожу его, провожу в каюту! – прокричал в ответ Заболотный. – Он отлежится и всё пройдет. Это у него уже было, не раз!
В этот момент с пристани стали взлетать в небо петарды и взрываться там, расцветая всевозможными причудливыми красками. Целый сноп огней, сразу озаривший всё вокруг: и набережную, и теплоходы, и дома напротив. На День Победы такое не увидишь.
– Даша! – я ухватил ее за руку, поскольку она порывалась уйти.
– Оставь меня! – услышал от нее.
Заболотный вел Павла по палубе к каютам. С каждым взрывом петарды раздавались радостные крики пассажиров. Кричали так, что у меня в ушах шумело. А голова становилась совершенно пустой. Почему Даша сказала, что мы с ней больше никогда не увидимся? Или это опять проделки Рамзана? Я беспомощно оглянулся, будто бы в поисках ответа, увидел на капитанском мостике Игнатова. Меня поразило его лицо, мраморное, выточенное, с печатью обреченности. Каждая яркая вспышка озаряла его. И еще я заметил крошечную красную точку, которая словно блуждала по лбу, пока не остановилась там, где сходятся брови. Это уже потом я понял, что означала та точка – лазерный прицел.
– Даша! – опять прокричал я и почти сжал ее в своих объятиях, совсем не соображая, что делаю.
А за моей спиной Игнатов уже падал ниц.
Глава двенадцатая
Слепцов и другие
Доктор Фицгерберт решил поселиться у нас навсегда. Так он мне сказал, конечно же, в шутку, когда я поздней ночью вернулся домой. Потом он стал «докладывать» о том, как вела себя Женя в эти часы.
Я слушал его рассеянно. Юрий Петрович педантично изложил мне, что она выиграла у него подряд двенадцать партий в шашки, затем они поужинали курицей и допили бутылку «хванчкары», посмотрели телевизор. Сестра всё это время вела себя спокойно, но вдруг, словно спохватившись, решала немедленно писать портрет доктора. Они отправились в мастерскую, где Юрий Петрович занял позицию на стуле, а Женя – перед мольбертом. Минут сорок она подыскивала нужный ракурс, делала карандашом наброски, потом утомилась, стала искать в мастерской какой-то холст, чей-то портрет.
– Как я понял, того самого человека – Павла Слепцова, – добавил доктор.
Не найдя, она пришла в сильное возбуждение, расшвыряла по углам свои работы, проткнула портрет «мэрского деятеля» ножницами, заплакала и засмеялась одновременно.
– Мне пришлось дать ей успокоительное и сделать укол, – сказал Юрий Петрович. – Я отвел ее обратно в квартиру и уложил спать. В ее положении нельзя так волноваться.
Он и до этого, во время своего рассказа, часто повторял эту фразу: «в ее положении».
– О чем вы, черт подери? – грубо спросил я.
– Как о чем? Она ведь беременна, – ответил доктор.
Я не поверил. Так и сказал ему.
– Это, молодой человек, знаете ли, случается, – произнес с легкой усмешкой Фицгерберт. – Я догадывался о физиологических причинах ее невроза, а когда спросил прямо, она подтвердила. На третьем месяце. Да-с, Коля, готовьтесь стать дядюшкой. Вот почему она так себя и ведет. А тут еще всякие личные события, смерть отца, словом, наслоение. Теперь к ней нужно быть особенно внимательным. Поэтому я и остался «на дежурстве». Сдаю тебе смену и иду спать.
– Погодите, Юрий Петрович, – сказал я. – Она не говорила – кто отец ребенка?
– Нет, меня это нисколько не интересует, – ответил доктор. – Но ведь догадаться, наверное, не сложно?
– Да, вы правы.
Я задумался. Действительно, несложно. Но знает ли об этом сам Павел? Скорее всего, нет. Ведь в эти дни они виделись всего один раз – в мастерской у Меркулова. А там произошла известно какая сцена. Теперь ясно – почему.
– Что-то на тебе лица нет, – произнес доктор. – С тобой-то все в порядке? Или что-то случилось?
– Случилось, – кивнул я. – Человека убили. Застрелили почти на моих глазах.
Больше я не стал ничего добавлять. А доктор не спрашивал, лишь промолвил:
– Это теперь на каждом шагу, что ж удивительного?
Он похлопал меня по плечу и отправился в комнату, а я начал разбирать раскладушку. Но спать не лег, продолжал думать о том, что произошло на корабле.
В начавшейся там суматохе всё смешалось. Многие сразу уехали, не дожидаясь милиции, другие остались. Игнатов с простреленной головой лежал на капитанском мостике, особо любопытные подходили глазеть. С Дашей мне больше ни о чем не удалось переговорить, её и Павла Меркулов увез на своей черной «Волге». Куда делся Заболотный? Не знаю. Иерусалимский что-то «пророчески» вопил, пока ему не заткнули рот. «Мэрский деятель» поспешно исчез. Филипп Данилович Котюков сохранял ледяное спокойствие. Атаман Колдобин с отцом Кассианом хлестали водку. Борис Львович предложил мне ехать к нему домой, но я отказался. Капитан осиротевшего судна, Тарас Арсеньевич, вышагивал возле покойника, словно находился на посту. А больше я ничего не помню. Светка посадила меня в машину к Коле-Камнерезу, и я вышел около метро.
Теперь вот тут проблемы. Пока я сидел на раскладушке и думал, в дверях появилась Женя. Посмотрела на меня с каким-то вызовом:
– Не спишь? Ты куда портрет Павла дел?
– Сжег, – сказал я. – Ты ведь сама этого хотела?
Она села за стол, достала пачку сигарет и закурила. Никогда раньше этого не делала.
– Тебе ведь нельзя курить, – произнес я. И «нажал»: – В твоем положении.
– Знаешь уже? – усмехнулась сестра. – Фицгерберт проболтался?
– А ты бы и сама могла мне сказать об этом. Не чужой, все-таки.
– А что ты можешь решать? Ты маленький.
– Давно вырос. Просто ты не заметила. Не хочешь этого замечать. У меня огромный мир, множественный. Как у каждого.
– Прости, – сказала сестра, стряхнув пепел. – Возможно, ты прав. Но всё равно, это ничего не значит. Твой мир – твой, а мой – мой. А у Павла – свой. Мы иногда впускаем друг друга, а потом выгоняем и захлопываем двери. И ничего с этим не поделаешь, так устроена жизнь. Она не терпит наблюдателей. Наблюдатель может лишь попытаться разделить с тобой жизнь, но в смерти своей ты все равно будешь одинок.
– А любовь? – спросил я. – Неужели она тоже ничего не значит?
– Почти ничего, – ответила сестра. – Сон. Сны видеть приятно, в этом я с тобою соглашусь. Но тогда надо и умереть во сне, вместе с любовью. Потому что рано или поздно наступит пробуждение. И хорошо хоть – не похмелье.
– Ты же любишь Павла, – сказал я. – Ты носишь от него ребенка под сердцем.
– Да, так, – кивнула она. – Люблю. Любила. А он?
– Ну, хочешь, я приведу его сюда? Мне кажется, ты сама его отталкиваешь изо всех сил.
– Нет, дело не в этом. Мы никогда не сможем быть вместе. Мы оба слишком независимы. И мы – разные. Даже хорошо, если он будет держаться от меня подальше. А то мне захочется переделать его, сломать. Принять мои правила. А ему… ему все время нужно кого-то спасать. Ему нужна жертва, он и сам жертвенник. Он из поколения последних русских героев. Да-да, именно так, из героев, витязь на распутье. Таким я и изобразила его на портрете. Может, когда-нибудь еще и святым станет. Прославят. Зачем же мне ему жизнь портить? Впрочем, я попыталась это сделать, там, в деревне. Ведь это не он, а я соблазнила его. Я. Сама, нарочно. Бросить монаха в грех. Еще не знала, что уже люблю его. А вот как всё повернулось. Бумерангом. Он не знает ничего о ребенке, и знать не должен. Ты обещаешь молчать?
– Обещаю, – сказал я.
– Сама воспитаю. Хорошо бы был мальчик.
– Ты только за Бориса Львовича не выходи замуж. Хотя корабль он тебе уже приготовил.
Сказав это, меня мысль кольнула: а ведь действительно, корабль-то теперь непременно Борису Львовичу достанется – путь свободен. Кому ж другому, как не ему больше всего была выгодна смерть Игнатова? И всё из-за Жени… Нет, я не хотел в это верить.
– Борис Львович любит меня, как собака, – произнесла сестра. – Но мне такая любовь тоже не нужна. Собаки кусаются. Кстати, ты всё приготовил к похоронам? Все документы оформил?
– Осталось еще в пару контор заехать. Завтра с утра сделаю. Заболотный поможет. Надо решить, кого на поминки звать.
– Давай обсудим.
Как-то буднично мы об этом говорили, спокойно, но, видно, многое уже в груди перегорело, и у нее, и у меня. Мы сидели за столом еще с полчаса, пока на кухню не пришел Юрий Петрович.
– Молодые люди, спать! – приказал он. – Это я вам как доктор говорю. Силы надо поддерживать, а сон – первый помощник. Иначе совсем сорветесь, оба. Что я тогда с вами буду делать? Не справлюсь. Фицгерберт старый, его тоже пожалеть надо.
И мы подчинились доктору.
Утром, проглотив чашку чая, я сразу же поспешил к Заболотному. Дверь мне отворил Сеня, выдал очередную чушь, что барин-де дрыхнет, а её Величество парится в ванной, с кошками.
– Сеня, ты когда дурака валять перестанешь? – спросил я.
– А никогда. Так жить интересней, – ответил он. – Что я у себя в Лысых Горах видел? Одни морды пьяные вокруг. Тут те же морды, но пейзаж другой, интерьер.
– Мишаня на тебя скоро ливрею нацепит. Ты бы хоть с Павла пример брал.
– А ты сам-то на него равняешься?
– Допустим.
– Ну и зря. Он проиграет.
– В чём? В какую такую игру?
– Которая «скачки» называется. Эта лошадка надорвется, не дотянет до финиша. Слишком многих на себе везет.
– А ты, значит, в другую колесницу перебрался?
– Тебе какое дело? Мне выжить надо, понял? Выжить любой ценой и самому править. А на ливрею плевать, хоть в костюм мертвеца наряди, только не закапывай. Сейчас всех закапывают, ясно?
– Ну тебя! – вырвалось у меня со злостью.
– И тебя туда же! – тотчас же отозвался Сеня. Потом гордо прошествовал по коридору.
Я влетел в комнату к Заболотному, начал его будить. Он не сразу очухался, спросонья не узнал меня.
– Ты куда вчера делся? – спросил я.
– А-а?.. Ты. Испугался я. Когда труп Игнатова увидел, сбежал. Думал, что и меня – следующим.
– Тебя-то с какой стати?
– А много знаю. В курсе всех его делишек.
– Чьих делишек, кого?
– Бориса. Львовича, разумеется, – хладнокровно ответил Мишаня. – Это ведь он Игнатова «заказал», можешь не сомневаться.
– Да ты в своем уме ли?
– В своем, в своем. Полгода возле корабля вился.
Я опустился на кровать и задумался. Уже тогда у меня начала зреть мысль о мести. Не только за смерть Игнатова, но и за моего отца, за мать, за Женю. Такие люди, как Борис Львович, не имеют права на существование. Они всё берут, а главное – к душе тянутся. Я буду ему судьей.
Заболотный начал одеваться и всё причитал:
– Бежать надо, бежать… Спрятаться где-то…
– Ты серьезно его боишься? – спросил я.
– А то! Нет, я лучше в каком-нибудь подмосковном санатории перекантуюсь. Бережного Бог бережет. Княгинюшку пока на Сеню оставлю.
– Не забыл, что нам сегодня еще по конторам ездить?
– Извини, брат, теперь не могу. Каждая минута дорога.
Заболотный впопыхах надел разные ботинки, потом плюнул, переобулся, вылил себе на голову полфлакона духов. Я почему-то подозревал, что причина его поспешного бегства кроется совсем в другом. Даже если он прав в отношении Бориса Львовича.
– Ну и черт с тобой! – сказал я, направляясь к двери.
– Со мной, со мной! – услышал в ответ его очередное ёрничанье.
Поездки по похоронным делам заняли у меня полдня. Домой я вернулся в шестом часу вечера. Женя была в квартире одна, доктор Фицгерберт ушел на рынок за продуктами. Делал закупки к завтрашним поминкам.
– Тебе несколько раз Даша звонила, – сказала сестра. – Очень взволнованный голос. Что у тебя с этой девушкой?
– Сам не пойму – что, – признался я. – Всё как-то запуталось.
– Ты любишь её?
– Люблю.
Сестра лишь молча покачала головой и ушла в свою комнату. Я уселся возле телефона и стал ждать. Ничего иного мне больше не оставалось. Лишь сидеть и слушать, как колотится твое сердце. Как звенькает трамвай за окнами. Как скрипит пол в комнате, где ходит сестра. Нет ничего хуже тех томительных минут, когда ты находишься в преддверии чего-то наиболее важного, главного для тебя. Это как ожидание истины. Сродни тому, что вот-вот поднимут занавес в темном зале, и ты увидишь всю постановку своей жизни, с начала и до конца.
Ты увидишь себя на сцене, Павла, сестру, Дашу. Там будут и другие персонажи этих сгустившихся в плотную вязкую массу восьми дней сентября: Борис Львович, Игнатов, Рамзан, Заболотный. Своей чередой пройдут другие участники трагикомедии – Татьяна Павловна, Меркулов, Котюков, Сеня, Иерусалимский, Колдобин, отец Кассиан и все прочие. Будет живой отец в сумасшедшем доме. Будут священники и бандиты, лжецы и правдолюбцы. Будет любовь и смерть, они всегда ходят рядом. Будут поиски денег и поиски ответов на вековечные вопросы, которые стоят перед человеком неизменно.
Их всего четверо, вот они: «Что в жизни святого?», «Для чего мы живем?», «Зачем нам дан разум?» и «Почему мы должны умереть?» Счастлив тот, кто найдет для себя ответы на них. Хотя бы на один. Но это те загадки, которые каждый для себя решает по-своему, стремясь прежде всего обмануться. Поэтому он остается так же далек от истины, как в начале пути, когда и не задумывался над смыслом своего существования.
Я сидел возле телефона и ждал. А занавес всё не поднимался.
Сестра два раза выглядывала из комнаты, видела мое застывшее лицо и качала головой. Но ничего не говорила. Наверное, она понимала меня в эти минуты. И я знал, что сейчас как-то решается моя судьба. Почему-то я был уверен в этом. И вот наконец-то раздался телефонный звонок. Я поспешно схватил трубку, чуть не опрокинув аппарат. Это была она, Даша. Голос у нее был действительно очень взволнованный, прерывистый. И плохо слышно.
– Ты где? – прокричал я. – Что происходит?
– Я перезвоню, – сказала она.
Прошло, наверное, еще минут десять, а мне казалось, что несколько часов. Я едва с ума не сошел от ожидания. Сердце совсем из груди выскакивало. Телефон вновь зазвонил.
– Коля, слушай меня внимательно, – сказала она. – Я уезжаю.
– Что? Куда?
– Погоди, не перебивай. Я тебе сейчас всё расскажу. Во-первых, там, на теплоходе, у Павла украли все деньги. Ну, тот белый конверт, который ему передал Котюков.
– Это Заболотный! – проорал я в трубку. – Его работа!
И подумал: «Теперь-то его с собаками не сыщешь, в песок зарылся, только ноздри торчат…»
– Может быть, не важно, – продолжила Даша. – Сейчас это уже не имеет значения. Павел хотел отдать деньги Рамзану, чтобы откупиться. А утром всё равно поехал на рынок. Я тоже там была, рядом.
Дальше она стала рассказывать сбивчиво, часто обрывая фразы, немного путаясь, но я выяснил для себя следующую картину. Позже я восстановил и отдельные ее фрагменты.
У Павла с Рамзаном произошел на рынке очень серьезный разговор, закончившийся таким рукопашным боем, что мне и не снилось. Лотки переворачивались, за которыми Рамзан пытался спрятаться. А с Павлом справиться не могли. Он словно одержимым стал, крушил всё и всех подряд. Самсон в гневе. Я представлял себе, что там происходило. Но вызванная милиция Павла всё же скрутила. Его отвезли в местное отделение. Поскольку там у Рамзана всё было схвачено, Павла начали бить. И, конечно же, обнаружили в кармане, пакетик с героином. Старый прием, чтобы накатить срок. Могли бы еще и патроны подбросить.
Словом, дело совсем плохо поворачивалось. Хорошо, что сама Даша не растерялась. Не пала духом. Она помчалась к Меркулову, а тот связался с Котюковым, и оба они тотчас же с эскортом приехали в отделение. Еще и атаман Колдобин с казачками прибыл, его тоже вызвонили. Такие люди! Известный скульптор, крутой бизнесмен, верховный атаман. На милицию подействовало, связываться с ними не решились. Себе дороже станет. И Павла выпустили. Но из Москвы порекомендовали уехать. Даже не уехать, а выметаться, и как можно быстрее.
– Где он сейчас? – спросил я Дашу.
– Вначале мы отвезли его в травмопункт, – ответила она. – Там немножко подлатали. Теперь здесь, на вокзале. Я с вокзала звоню.
– Ясно.
– Ничего тебе, Коля, пока не ясно. Я вместе с ним уезжаю.
Услышав это, я замер. Меня будто спицей кольнули в сердце. Я ведь смутно догадывался обо всём, но гнал от себя те мысли.
– Как с ним? – спросил через силу.
– Потому что люблю его, – отозвалась Даша – Полюбила, может быть, сразу, как увидела. И он меня тоже. Мы с ним все решили еще вчера, едем вместе. Вначале на его родину, дальше видно будет. Земля велика. Мир огромен, Коля, огромен и радостен, я только с ним это и поняла.
– А я, я как же? – вырвалось у меня.
– Ты прости, но у нас всё было несерьезно. Лишь предчувствие любви. Ты умный, поймешь. И не вини никого, особенно Павла. Ему и так много достается. От людей.
Она замолчала, а я тоже не мог больше ничего выговорить. Мысли всякие крутились в голове, нехорошие. Потом я сказал каким-то чужим голосом:
– Я убыо его.
– Перестань, – ответила Даша. – А вот попрощаться с нами приезжай. Поезд через полтора часа отходит. С Курского вокзала. Мы будем ждать тебя на перроне. Павел очень хочет с тобой поговорить.
Я швырнул трубку с такой силой, что она разбилась. Из комнаты выглянула сестра.
– Ты чего аппараты ломаешь? – спросила ока. – Лучше посуду бей.
– Можно и посуду, – пробормотал я. – Сколько у нас там еще тарелок осталось?
Женя внимательно смотрела на меня.
– Э-э, дружок, тебе, пожалуй, тоже успокоительное надо, – сказала она. – Вот придет доктор Фицгерберт, сделает укольчик, погоди. А что случилось?
– Павел… – начал я, а больше ничего продолжить не смог.
Ушел к себе в комнату и заперся. Первым делом я отодвинул диван от стенки и оторвал плинтус, где был тайник. Вытащил сверток с пистолетом отца. Снял «ТТ» с предохранителя и положил на стол.
«Оружие должно выстрелить, – подумал я. – Вот только в кого? В себя, в Павла, в Бориса Львовича?» Мне было сейчас очень плохо, я рукой за сердце держался, пытаясь остановить боль. Сестра постучала в дверь, но я не открыл. Даже не отозвался, когда она опросила:
– Коля, с тобой всё в порядке?
Некоторое время она стояла за дверью, затем ушла, А я вытащил из серванта портрет Павла и прислонил его к стенке. Всё смотрел на него и прощался. С кем? С ним, с собой… С прежней жизнью. Затем подошел к зеркалу и стал вглядываться в свое лицо, не узнавая себя. Оно действительно стало каким-то чужим, может быть, из-за горечи в глазах, из-за какой-то глубокой складки на лбу, из-за обнаруженного белого волоса на виске. Губы крепко сжаты в безмолвии. В лице – ни кровинки. Таким я стал, в такого превратился. Меня эти дни вывернули наизнанку. Теперь я совсем иной, почти потусторонний. Я взял пистолет и направил его в сердце.
И всё продолжал смотреть на себя в зеркало, ожидая, когда раздастся выстрел. Очень хотелось поскорее со всем покончить, но палец на спусковом курке медлил. Мне казалось, что Павел с портрета тоже смотрит на меня. Следит за моею рукою. И предостерегает. Я почти физически ощущал его взгляд и слышал голос: остановись! Мне было невыносимо видеть его.
– Ну что ты глядишь? – громко произнес я и выстрелил.
Пуля вошла в грудь. Пробила холст и застряла где-то в стенке. Я выскочил из комнаты, схватил с вешалки куртку, а пистолет сунул в карман. Женя пыталась остановить меня, что-то кричала, но я оттолкнул ее и выбежал вон. На лестнице я столкнулся с Юрием Петровичем, который тащил сумки.
– У него пистолет! – услышал я за спиной голос сестры. – Не отпускайте его!
Но меня теперь вряд ли что-либо могло задержать. Я кубарем скатился вниз, помчался по улице. Отдышался только около метро. И пошел спокойнее. План у меня уже был, четкий. Я знал, в кого надо выстрелить. Сделать то, что решил. Не откладывая, сейчас. Я должен доказать и себе, и другим, что в мире есть высшая справедливость. Она меня направляет, я верил в это. Почему я принял на себя роль судьи и палача? Не знаю.
Я доехал до Беговой, подошел к подъезду многоэтажного дома. Нажал на кнопку домофона. Мне ответила родственница-прислуга Бориса Львовича.
– Это я, Коля Нефёдов, помните? – сказал я. – Где сам-то?
– А его еще нет, обещал через полчаса подъехать, – отозвалась она. – Ты поднимайся.
– Нет, я тут подожду.
Я отошел ближе к арке и занял позицию. Именно через эту арку должен въехать «мерседес» Бориса Львовича. До подъезда – несколько шагов. Шофер-охранник наверняка останется в машине, а Борис Львович выйдет. Он увидит меня, и я пойду ему навстречу. Тогда это и произойдет, главное, подойти близко.
Во дворе играли ребятишки, гоняли мяч. Две молодые мамы с колясками о чем-то весело балабонили. Прошел старик, опираясь на палку, еле волоча ногу. В беседке сидели три мужика, видимо, распивали. Тетка что-то прокричала другой женщине, но я не понял. Мысли были совсем другим заняты. Ко мне прилетел мяч, и я пнул его обратно, детям. Всё это вокруг скоро оборвется, наполнится другим шумом, криками. Мир на секунду замрет, а потом все потечет по-прежнему. Будут иные люди, иные времена, но ничего не изменится. И опять будет Павел, и будет Борис Львович. А я? Конечно, и я буду, только в другом обличье. Лучше или хуже, не важно, но останусь. Потому что мир повторим. И в этом его самая главная тайна.