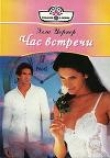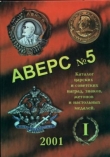Текст книги "Царские врата"
Автор книги: Александр Трапезников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Опомнился лишь, когда открыл дверь в квартиру, услышал крик Жени. К первым делом подумал, что Борис Львович действительно явился убивать сестру, уже убивает. Но тотчас сообразил: нет, тут совсем другое, так не кричат. Так бьют словами наотмашь, а слов-то этих было и не разобрать – сливались в одно. Я поспешил на кухню и на пороге застыл. Кажется, они меня даже и не заметили. А картина была поразительная.
Всё наоборот: не Борис Львович, а Женя держала в руке столовый нож и размахивала им перед его лицом, как-то слишком уж импульсивно, а может и безотчетно, будто предмет сей был обычным карандашом, а она намеревалась сделать несколько штрихов на холсте. То бишь на Борисе Львовиче, который, очень бледный, но спокойный, стоял возле стены, скрестив на груди руки.
И неслись слова.
– Это ты, ты убил её, ты! На тебе кровь, тебе никогда не вымолить прощения, ты убийца, убийца! Боже, ну покарай же его или…
Мне показалось, что сестра сейчас всадит нож в неподвижного и безмолвного Бориса Львовича, прямо в горло. А он будто нарочно высоко держал голову, подставляя под удар шею. А кадык подрагивал – это я тоже заметил. И что странно, он не делал ни малейшей попытки защититься. Как бы уже взойдя на эшафот, выслушав приговор. Но кто тут палач, кто жертва?
– Я люблю тебя, Женя, – глухо сказал Борис Львович, а я, бросившись вперед, перехватил руку с ножом. Тут-то они оба узрели, наконец, такую мошку, как я.
Сестра истерически захохотала, глядя на нас обоих, словно в безумном сне или наркотическом опьянении. Мне даже страшно сделалось. Но я все же отобрал нож и отшвырнул его в угол. Он там как-то жалобно я обиженно звякнул, а Женя, оборвав смех, резко спросила:
– Любишь?
– Люблю.
Борис Львович держался с удивительным самообладанием, и слова его звучали искренно. Если уж он был готов принять смерть из ее рук, то чего лгать? Я ему верил. А вот сестра… Что за помрачение на нее нашло?
– Ее тоже любил? – спросила она, ища кого-то взглядом, но не находя. Глаза у нее лихорадочно блестели, она выглядела совсем больной. Так в человека вселяется бес, путая его мысли. Теперь я подумал, что и сцена в мастерской Меркулова была не случайной. Женя уже тогда находилась на грани нервного срыва. А тут видимо всё вместе наслоилось. Но что?
– Не надо об этом, – произнес Борис Львович. И добавил, посмотрев на меня: – При ребенке.
Это меня так задело, что я взорвался:
– Да скажет кто-нибудь толком что происходит?! Я уже давно не маленький!
– А мы твой душевный покой оберегаем, – насмешливо отозвалась сестра. – Иначе с ума съедешь. Ты, наверное, не знаешь, что у нас это наследственное?
– Что? – не понял я.
– А с ума сходить. Дедушка так кончил, его в больнице держали. Теперь вот отец. Да и мама… Все самоубийцы сумасшедшие. Ты – на очереди. Готовься, дружок.
– Женя! – выкрикнул Борис Львович, впервые потеряв свое хладнокровие.
Сестра снова засмеялась, на этот раз тихо, словно находилась одна в комнате, а мы были вроде ее манекенов из мастерской. Человек порою смеется наедине с собой, вспомнив что-то хорошее, радостное. Но здесь было иное. Я сейчас уже не сомневался, что она больна. У творческих людей случаются срывы, а последнее время она работала слишком много, без отдыха, непрерывно изнуряя себя. Как заведенная, вот механизм и дал сбой. Понял это, очевидно, и Борис Львович.
– Не подходи! – предупредила Женя, когда он хотел взять ее за руки. – Ты не веришь, что все Нефедовы сумасшедшие? Я не исключение. У тебя уже было время убедиться в этом. Я приведу еще одно доказательство. Я… приму тебя и пойду тем самым против Господа. Но ты… Кто ты в истинном свете, скажи? Чей слуга? Ты явился в наш мир учить или обольщать? И Павел – брат твой? Он сказал: надо пройти через Царские врата с чистой душой, встать перед престолом и жертвенником на колени. А кто способен пройти, перед кем Царские врата не сомкнутся? Я не знаю такого человека.
– Женя! – вновь с каким-то отчаянием повторил Борис Львович.
– Погоди! – махнула она рукой. – Я не окончила. Постарайся уловить смысл в моих словах. Мы все топчемся на пороге у Царских врат. Вся Россия, если угодно. Толкаем друг друга и никогда не протиснемся. Чем один лучше другого? Притворные праведники, кающиеся грешники, лжецы, проходимцы, юродивые, все ищут спасения и милости, но все равны, всех съедает одна болезнь – любовь.
– Что ты говоришь? – не сдержался я. – Любовь – болезнь? Господь нам заповедовал любить, а ты…
– Ну и что? – остановила меня она. – Чтим ли мы его заповедь? Любовь давно превращена в самое мощное оружие смерти и разрушения, почище ядерной бомбы. Именем любви к человечеству творятся самые гнусные преступления. Да и в частной жизни любовь убивает, спроси об этом у Бориса Львовича.
– Женя! – в третий раз произнес тот, словно у него и слов-то других уже не было.
Но все же он успел шепнуть мне на ухо:
– Надо уложить ее в постель, у нее температура.
– И вот что я вам скажу, – торжественно провозгласила сестра. – Пройди, Боря, через Царские врата, пройди, сделай попытку. И ты, Коля, попытайся. Хотя тебе легче будет, ты еще мало нагрешил в своей жизни, у тебя всё больше по глупости выходит. А может, они перед Павлом твоим раскроются? Нет, вряд ли. Замочек.
– Почем ты знаешь? – выкрикнул я.
– Да уж чего тут не знать? Видно. В нем такое море бушует, что любой корабль потонет. Кстати, о корабле. – Евгения посмотрела на Бориса Львовича очень насмешливо. – Ты что-то тут толковал об этом плавучем храме. Стрелу пустил метко, знаешь ведь, что это всегда было моей мечтой. Не раз о том говорили, еще когда жили вместе. Плыть, плыть и плыть мимо крутых берегов, как в спасительном ковчеге. И избранных взять с собой… Хорошо, подари мне его, я согласна.
Вот уж чего я не ожидал от нее услышать, так именно этого. Меня даже как-то передернуло, а Борис Львович сказал:
– Считай, что корабль уже твой. А сейчас тебе надо лечь. Отдохнуть, ты устала.
– Заботливый… – усмехнулась Женя. – Ладно, иди. Все равно видеть тебя не могу. Помни о Царских вратах.
– Женя, – начал было Борис Львович, но, встретившись с ее взглядом, осекся. Она нахмурилась и вновь готова была накричать или засмеяться. А ее смех пугал меня больше всего.
Так ничего и не выдавив из себя напоследок, Борис Львович, потоптавшись еще немного, ушел. Я запер за ним дверь, а потом вернулся на кухню.
Сестра сидела, прижимая к вискам ладони. Глаза были закрыты, и она что-то шептала. Мне стало столь жаль ее, что я обнял Женю за плечи и поцеловал руку. Она никак не отреагировала. Ей было очень плохо, и я даже физически почувствовал исходящий от нее жар. Не жар, а какой-то адский пламень, сжигающий ее изнутри.
– Всё… кончено, – прошептала она.
– Что – всё? – спросил я.
Она меня не видела и не слышала. Я почти силой поднял ее и повел в комнату. Женя шла как пьяная, спотыкаясь, но была очень легка, невесома. Словно в ней оставался один дух, продолжающий бороться с кем-то. Я уложил ее на кровать и укрыл пледом.
«Не вызвать ли врача?» – подумалось мне. Я всматривался в ее бледное лицо, а она вдруг тихо произнесла:
– Посади рядом, не уходи.
– Хорошо, – сказал я. – Конечно.
Так прошло несколько минут. Потом я неожиданно, думая о своем, сказал:
– А ведь корабль «Святитель Николай» не продается, я знаю.
– Не важно, – отозвалась сестра. – Это игра, не более.
– Игра со смертью, – сказал я.
– Может быть.
– Послушай, там, в мастерской, я нашел портрет, который ты тщательно прятала. Портрет Павла. Почему?
Не надо было задавать этот вопрос.
– Потому что я люблю его, – просто ответила сестра.
Глава восьмая
Брат и другие
Эта ночь для меня оказалась тяжелой, бессонной. Но еще хуже пришлось сестре, она впала в какое-то полузабытье, бредила, голова металась по подушке, иной раз пристально смотрела на меня, но не узнавала. Температура у нее была очень высокая. Я растерялся, совершенно не знал что делать. Почему не вызвал врача? Потому что сам впал в какую-то прострацию, слушая ее бессвязный шепот. Ловил обрывки слов, пытаясь понять смысл. Я будто подслушивал ее потаенные мысли, стремясь собрать их в единое целое, постичь полностью то, что вырисовывалось за нами.
И порою мне казалось, что я близок к этому. Но еще не мог осознать. Кого убил Борис Львович, о чем она кричала ему в лицо, когда я появился в квартире? Бред, бред… И Павел… Неужели она действительно любит его? Почему же нет? Портрет – самое лучшее тому доказательство, это ее крик души. А как же я раньше не сообразил? А знает ли о ее любви Павел? Все передо мной было еще в каком-то тумане, в предрассветных сумерках, а я сам то ли спал, то ли бодрствовал.
И вновь мне казалось, что на нас с сестрой смотрит сквозь оконное стекло отец, смотрит и молчит, но вот подает какие-то знаки рукой, зовет, просит впустить в комнату. Я, повинуясь его зову, встал – сердце сжималось от боли – и отворил окно, а желтый осенний лист, бившийся о стекло, скользнул с холодным порывом ветра мимо моих ладоней. Он будто знал где его последнее пристанище: здесь, на кровати, возле сестры, у ее щеки. Улегся, как преданное существо, хранитель сна. А Женя и в самом деле уснула, я даже не заметил когда. Может быть, после того, как я ей дал таблетку реланиума? И я не тронул этот лист, не стал убирать с подушки. Пусть лежит там, куда его принес ветер. А в небе уже гасла последняя утренняя звезда.
Кстати, насчет реланиума мне посоветовал Заболотный, я позвонил ему где-то в шестом часу утра и сбивчиво рассказал всё, что случилось. Хватило ума, а может, напротив, бес попутал. Впрочем, я звонил и на квартиру к Татьяне Павловне, но там никто не отозвался. Мишаню более всего заинтересовал полуночный визит Бориса Львовича. Мне казалось, он даже подскочил от радости, когда узнал о некоем подобии примирения. И о корабле. Сказал, что приедет с первым трамваем. А я подумай, что он-то мне как раз и нужен, ведь Заболотный наверняка знает о любви Жени к Павлу, вообще об их взаимоотношениях. Теперь я не сомневался, что именно эту информацию он намеревался продать Борису Львовичу там, в каюте, когда я подслушивал их разговор. Пусть мне выложит, я должен знать.
Сколько он запросил тогда с Бориса Львовича? Тысячу долларов? Но тот и ста не дал, не захотел слушать. Молодец все-таки. И тут я вдруг вспомнил о письме, которое передал от Бориса Львовича Жене. Ведь именно оно повлияло на решение сестры встретиться с ним. Почему? Только лишь в том, что они десять лет назад в этот день впервые познакомились? Мне страшно захотелось, пока Женя спит, найти это злополучное письмо и прочитать. И я начал поиски, понимая, что поступаю глупо и бесчестно.
Я воровато обшарил карманы ее куртки, затем стал рыться в ящиках письменного стола и наткнулся, наконец, на голубоватый листок бумаги. Это и было письмо от Бориса Львовича. Вот оно, показавшееся мне довольно сумбурным и не вполне внятным, но таившее в себе какой-то особенный смысл для сестры:
«Женя! Хотел назвать „дорогая“, но ты проявление любых моих чувств встречаешь в штыки. И все из-за того, что ты не можешь простить, ты разорвала наши отношения восемь лет назад, даже не вникнув в суть проблемы, не выслушав меня, не поговорив. Доверилась слухам, а всё гораздо сложнее. Там, в той трагедии не было злой воли или умысла, я не виноват, но не хочу перед тобою оправдываться. Нет, хочу, поскольку не отрицаю своей вины, но так сложились наши с тобой судьбы, это рок, Шекспир, и нам надо непременно встретиться, чтобы я смог объяснить. Ты поймешь, мы сможем начать заново, потому что я люблю тебя еще больше, чем тогда, прежде. Только теперь я понимаю, сколь много ты для меня значишь. Во имя Той, выслушай! Быть может, ты спасешь существо, готовое к самому тяжкому. Поступай по-христиански, а я позвоню тебе и не бросай трубку. Скоро годовщина нашей первой встречи. Вера – в надежде. Я открою тебе всю правду.
Борис».
Понял я из этого письма только то, что тень какой-то трагедии висела над Борисом Львовичем, да и над Женей тоже. Но вот они встретились и объяснились, а что дальше? Интересно, знает ли что-либо о той давней истории Заболотный? Наверняка, ведь он в курсе всего, что происходит. Как бы его выпотрошить на эту тему? Но Мишаню бесплатно даже чихнуть не заставишь. Едва я подумал об этом, как раздался звонок в дверь. Лёгок на помине.
– Как она? – с порога спросил Заболотный. Было еще раннее утро, но от него уже разило духами, как из парфюмерной лавки. И кошачьи глаза сыто жмурились.
– Спит, – отозвался я. – Надо бы врача вызвать. Заболотный прошел в комнату к сестре, поглядел на нее, пощупал пульс. Покачал головой, даже языком прищелкнул, словно профессор медицины.
– Врач будет, – сообщил он мне шепотом. – Я уже звонил Борису Львовичу, тот обещал прислать лучшего, из своих запасников. С местной поликлиникой не связывайся, там доктора сами на ладан дышат, уже и позабыли как клизму ставить, еще сопрут что-нибудь из квартиры, только отвернешься. Если надо, мы Евгению Федоровну в центральную клинику определим.
– Мы? – тупо переспросил я.
– Ну, Боренька. Он хотел сам примчаться, но я его отговорил.
– И правильно. Еще неизвестно, как Женя на него отреагирует, когда проснется. Может, хуже станет. И вообще, напрасно ты ему звонил.
– Так ты же меня так напугал, будто сестра при смерти, я сам растерялся. А похоже, что это всего-навсего нервное перенапряжение. Как следствие – высокая температура и упадок сил. Я знаю, у меня такое было. Когда в монастыре жил и изнурял себя с утра до вечера. Одних поклонов до тысячи раз бил. А еще работа в огороде, в коровнике. Страшно вспомнить! Нет, монашество оставь Павлу, не мне.
Мы говорили шепотом, стоя возле окна, но при имени Павла Евгения словно очнулась, повернула голову и затуманенным взором посмотрела на нас, нисколько, впрочем, не удивившись присутствию в комнате Мишани.
– Где отец, почему он ушел? – произнесла она очень отчетливо. – Ты говорил с ним?
Заболотный толкнул меня в бок локтем, поскольку я молчал, не зная, что ответить. Но Женя вроде бы тотчас забыла о нас, вновь закрыв глаза. Либо уснула, либо не желала нас видеть.
– Пошли! – шепнул мне Мишаня, и мы на цыпочках вышли из комнаты.
Дверь я на всякий случай оставил чуть приоткрытой. В тот момент я не придал особого значения ее вопросу, думал, что это последствия ночной горянки. Не мог понять, что расстояние между близкими людьми не является неодолимой преградой, что в минуты опасности, тоски или тревоги – мысли и души находят друг друга, сближаются в пленительном полете. Возможно, так было и на сей раз. Сестра чувствовала что-то острее меня. Потом это подтвердилось.
Мы расположились на кухне, я поставил на плиту чайник. Я уж и не помнил, когда ел в последний раз. Мне надо было задать Заболотному много вопросов, разных, но спросил я почему-то о Сене. Будто он сам выскочил между нами из щели в половицах. Встал и раскачивается с какой-то нехорошей гримасой.
– А что Сеня? – усмехнулся Заболотный. – Парень на правильном пути, борется с диаволом не на словах, а на деле. Толк из него будет. Сейчас отсыпается после трудов праведных.
– Готовишь его к новой «акции»? Что будет на сей раз? Поджег синагоги?
– Там видно будет. Каждому своё. Пусть Павел часовню строит, а мы уж как-нибудь более глобальную тему раскрутим. Ему просто завидно, что Сеня за мной пошел, не за ним. А у человека есть свобода выбора, запомни.
– Есть, – согласился я. – Только если ты разумом еще слаб, то духовный учитель нужен. А ты, что ли, себе роль учителя наметил? Ладно, нет мне дела до Сени, я как раз с тобой о Павле хотел поговорить. Вернее… о сестре. Словом…
Тут я запнулся, а Заболотный насмешливо поглядел на меня.
– А что у нас на сегодняшний день в холодильнике? – спросил он. – Душа душой, а желудок своё требует.
– Пусто там. Вон, печенье бери.
– Что ж ты за хозяйством-то не следишь? Мажордом ты или нет? А ведь Евгении Федоровне надо бы какой-нибудь куриный бульончик сварить. Значит, примирилась она с Борисом Львовичем? А как там, у скульпторов, вечер прошел? Чашек много побили?
Он словно намеренно уводил меня куда-то в сторону. При этом лопал печенье и запивал чаем.
– Не трещи, – сказал я. – У тебя был разговор на корабле с Борисом Львовичем. О Жене. Мне не нравится, что мою сестру делают объектом каких-то манипуляций. Я не позволю.
– О-о-о! – протянул Заболотный. – Подслушивал, значит?
– Хоть бы и так. Что ты знаешь? Какую информацию ты хотел запродать Борису Львовичу? Что он сам совершил такого, что Женя не может ему простить? Между ними – смерть?
– Смерть между всеми бродит, но я тебе ничего не скажу, – заявил Мишаня. – Тебя оберегать велено, той же Евгенией Федоровной и Борисом Львовичем. Чтобы психическая конструкция не нарушилась. Нет, право, зачем тебе это нужно? Тебя и так все любят, а ты как юный следопыт. Да еще с пистолетом. Как бы не пристрелил кого ненароком. Такие неопытные возвышенно-нервические натуры чаще всего убийцами и становятся. Вам на жизнь глаза открывать нельзя – сердце слабое, живите в мире тихих грез и самообмана, а еще лучше прислонись к кому-нибудь и держись за руку. Вот к Даше, например. Она девушка славная, характера на двоих хватит. А то упустишь.
«Неужели он уже и про Рамзана знает?» – подумал я. Наверняка ему Татьяна Павловна сказала. А может он-то, Мишаня, и убедил ее продать дочь этому чеченцу? С него станет. Ежели так, и уж мне суждено стать, по его собственным словам убийцей, то первая пуля ему в лоб и отправится. Мне даже занятно стало, представив Заболотного под дулом пистолета. Визгу бы было на всю округу.
– Ты ведь любишь Дашу? – вкрадчиво продолжил Мишаня. Сам же и ответил, поскольку от меня ничего не дождался: – И люби дальше, только поторопись. Враг не дремлет, как говорят у нас в ЧеКа. Мой тебе совет: соверши какой-нибудь поступок, подвиг, что ли? Им это нравится. Или собери деньги, которые требуются – сам знаешь на что. А где их взять? Я тебе подскажу. У Бориса Львовича, если ты целиком и полностью встанешь на его сторону. Сестра выйдет за него замуж, а ты спасешь Дашу. И будут две счастливые пары. Нет, три, по классическим канонам оперетты: я на княгинюшке Марье Гавриловне женюсь, хозяйке своей, ежели ее, правда, какой-нибудь глухой ночью Сеня не зарежет. Что-то он на нее ножик точит. Известно: классовая ненависть, пусти крестьянина в барский дом – он тотчас же и за топор.
– Иди ты к черту! – в сердцах сказал я, хотя понимал, что Заболотный нарочно ёрничает, чтобы позлить меня. Но в его словах была доля правда. Я мог бы попросить деньги у Бориса Львовича для Даши, необходимую сумму для выкупа, чтобы швырнуть их в лицо Рамзану, но… Павел? Ведь сестра любит его, она сама призналась. А ее любит Борис Львович, и это тоже правда. На чью сторону стать? Но решать все равно Жене, не мне. А что Павлу-то нужно, кроме его часовенки? Неужто ничего больше, ни любви, ни счастья?
– Вижу, задумался ты об одном человеке, который тут витает, – произнес Мишаня. – А ты окошко открой да проветри. Он на пути у Бориса Львовича стоит, он, хотя тот еще не догадывается. Меня вот ты учительством коришь, а сам за ним как собачонка бегаешь. Чем же ты лучше Сени? А ну как пророк твой дутым пузырем окажется? Разочарования-то не боишься? Ведь посильнее землетрясения будет. Отстань, пока не поздно. Покажи ему кукиш в спину, коли в лицо не можешь. Сокруши кумира, как сказано.
Теперь-то я понимал, куда он клонит. Да и смотрел Заболотный на меня, не мигая. Как удав на кролика.
– Я в мастерской портрет обнаружил, – промолвил я. – Удивительная работа, лучшее из всего, что ею создано. Он за столом сидит, как живой. Живой и обреченный. На постоянный бой за веру.
– Знаю я этот портрет, видел, – сказал Заболотный.
– Как ты мог его видеть? – взорвался я. – Он запечатанный был в бумагу. Женя его уничтожить хотела.
– Потому и хотела, чтобы никто ее чувств не выведал, – ответил Мишаня. – А видел я его еще там, когда работа над ним заканчивалась.
– Где?
Он не успел ответить.
– В деревне Лысые Горы, – раздался позади нас голос сестры.
Она стояла на пороге, на щеках рдел нездоровый румянец, и смотрела на нас с каким-то гневным вызовом. Когда она поднялась с кровати и что уже успела услышать?
– Ну, разумеется, там, где же еще? – сказал Заболотный. – С пробуждением вас, Евгения Федоровна!
– Ты как тут оказался? – спросила сестра.
– Примчался по первому зову Николеньки. Мы друзей в беде не бросаем. Сейчас еще и доктор подъедет.
– У тебя ночью жар был, – напомнил я. – Зачем ты встала? Тебе бы лежать, я в постель чай принесу.
– Я себя хорошо чувствую, – ответила сестра. – Только голова побаливает и слабость какая-то. Руки дрожат.
Она. присела на стул, задумалась, словно вспоминая прошедший день. Молчали и мы. Я пододвинул к Жене чашку с горячим чаем, она механически сделала несколько маленьких глотков. Заболотный невозмутимо дохрумкивал печенье.
– Значит, вы нашли интересную тему для беседы? – произнесла, наконец, сестра. – Похвально, что не скучаете. Косточки мои моете?
– Ну что ты, Женя! – протестующе сказал я. – Просто…
– Просто, – кивнула она головой. – Всё очень просто. Да, я ездила в конце июня по северным деревням. Случилось побывать и в Лысых Горах. Как же мимо проехать? Заколдованное место.
– И я там как раз погостил несколько денечков, – вставил Заболотный. – Молочка попил свежего. Очень высокий, доложу я вам, процент жирности. До сих пор облизываюсь.
– Как же так, ты ведь говорила, что на юг отправишься? – спросил я. – И билет, вроде бы, был в Ялту…
– А я передумала, – ответила сестра. – Вот только тебе доложить не успела, Коленька, извини. А может быть, надо было и тебя с собой захватить?
– И Бориса Львовича, чтобы он поглядел, как простые русские люди живут, ввергнутые в карамболь демократическими реформами, – вновь вставил Мишаня. – У него бы процент жирности в мозгах поубавился.
Дался ему этот «процент»! Но Женя на его слова не обратила внимания, хотя сказаны они были с каким-то намеком. Или вид сделала, что не слышит.
– А портрет дрянь получился, – произнесла сестра. – Написан хальсовским мазком, но не динамичен. Сегодня же вечером я его на шнурки порежу.
– Охолодись, Женя! – сказал Заболотный. – Лучше продать в какую-нибудь галерею. Я возьмусь устроить. За небольшой процент жирности.
– Порежу, вот увидите, – повторила сестра. – Он мне на мозг давит. И вообще, что хочу, то и сделаю.
Мне показалось, что у нее снова начинается жар, поскольку глаза лихорадочно блестели. И настроение становилось всё более капризным и взвинченным. Она порывисто отодвинула от себя чашку, расплескав чай. Я стал вытирать тряпкой стол. Подумал о том, что она в самом деле способна уничтожить портрет, надо бы сходить в мастерскую, когда Женя вновь уснет, и спрятать его подальше.
– Бритвочкой оно будет сподручнее, чем ножницами, – задумчиво произнес Заболотный, – или секатором. Но ты ведь не холст станешь резать, а натурщика. Так мне видится. Вообще-то, в иных портретах, в которые художники вкладывают значительную часть своей души, заключена дьявольская сила. Это всем известно, вспомните Гоголя. Мистическая сила таких творений коварна, она бьет по самому создателю. Давай, Женечка, кромсай его в лоскут!
– Чушь несешь! – почти выкрикнул я в лицо Мишане. – Она больна, а ты подначиваешь! И никакой там нет дьявольской силы, скорее уж божественное провидение. Вечно ты всё переворачиваешь. Этому портрету место в Русском Музее, вот что я вам скажу! В нем – тайна души русской.
– Эка куда, хватил, – насмешливо отозвался Заболотный. – Тайны-то да секреты все уж давно на Запад распроданы, вкупе с рецептом водки.
– А одна осталась, которая Западу без надобности, – упрямо сказал я. – Именно души тайна, ее вселенская любовь и боль, ее устремленность к Всевышнему, ее покаяние, а слово это и неведомо цивилизованному миру. Забыли уж сотни лет назад. А вот посмотрит какой-нибудь американский миллионер на этот портрет и призадумается. Может, вспомнит, что есть на земле что-то еще, кроме его окаянных долларов. И…
– Ты когда был у отца? – остановила вдруг меня Женя.
– Позавчера. Разве забыла? Я ведь говорил.
– Да-да, помню.
– А почему спрашиваешь?
– Так… Нехорошо как-то. Давай завтра вместе съездим?
– Смотря как ты себя будешь чувствовать, – ответил я, радуясь, что она сама решилась навестить отца – сколько времени прошло! Хотя в его состоянии он вряд ли ее узнает. Но мало ли что? Вдруг случится то, что людскому разумению неподвластно? Бывают же чудеса исцеления…
– Вам, Евгения Федоровна, покой нужен, излишние волнения вредны, так что посещение больниц, а равно как и казнь бритвой новомученника в интерьере Лысых Гор я бы на некоторое время отменил, – произнес Заболотный, а вслед за его словами раздался звонок в дверь.
Это пришел шофер Бориса Львовича, я узнал его. В одной руке у него была корзина с фруктами, в другой – тяжелый пакет с различными дефицитными продуктами. Он молча поставил всё это на пол и тотчас же отчалил, выполнив свой гражданский или шоферский долг.
– Кушать подано! – оказал я, перетащив снедь на кухню.
– Если еще раз, даже в шутку, произнесешь эту лакейскую фразу – убью, – мрачно изрекла Женя. – Откуда?
Заболотный начал выкладывать на стол из корзины апельсины, бананы, киви, ананас.
– Вы, Нефёдовы, какие-то прирожденные убийцы, – сказал он. – Чуть что – сразу мочить, резать. А я знаю, кто это прислал.
Я поднял пакет с продуктами и посмотрел на Женю:
– Выбросить?
– Ладно, оставь, – ответила она, – Какая разница?
– Вот это верно, – кивнул Мишаня. – Сейчас мы тебя навитаминизируем. Икорочкой с балыком попотчуем, маслинку скушаешь, крабиков, вот и слабость пройдет, поправляться станешь. Ты нам нужна здоровая, умная, красивая и беспечальная. Да и мы от этой роскоши немного полакомимся, что останется, я из твоей тарелки подберу, мне не зазорно.
– Ну что ты за человек? – спросила Женя.
– Брат твой троюродный. Все мы на земле братья и сестры, одна семья, а в семье, как говорится, не без уродов. Да, пусть я буду уродом, добровольно, тоже крест ведь особенный, его еще попробуй – понеси, согнешься, а балансировка между уродством и красотой также нужна, чтобы перекосов не было. И потом: что-то не больно красота мир спасает, на уродах он держится. Они – на вершине власти. Больше скажу – мутирует человек, когда ползет вверх, всё выше и выше, что в творчестве, что в науке, что в любой другой сфере, даже в церковной. Уродуется от почета и внимания. Хочешь сохранить лик свой светлый – ниже, ниже пригнись, дай себя растоптать уродам, мутантам этим, то есть нам, мне, а мы тебе за это и памятник, и осанну.
Снова позвонили в дверь, на сей раз пришел доктор – пожилой мужчина с академической бородкой и в роговых очках. В отличие от шофера он был более разговорчивым. Представившись, оказал:
– Вы, молодой человек, не выглядите таким уж больным, хотя некоторая одутловатость в лице и синева под глазами указывают на проблему с сердцем. Ревматик?
– Я здоров, недужит моя сестра. Проходите в комнату.
Мне этот доктор понравился, напоминал какого-то персонажа из чеховских пьес. Остались такие еще и в наше время, как ископаемые. Врачи да учителя, самые полезные и стойкие в стране люди. Пока Юрий Петрович занимался сестрой, я топтался в коридоре, а Заболотный названивал кому-то по телефону. Наконец доктор отпустил Женю и позвал в комнату меня. Проходя мимо, сестра коварно ущипнула меня за локоть.
– Обложил со всех сторон, – шепнула она. – Следующим придет тюремщик.
Юрий Петрович выписывал за столом рецепты. На шее болтался фонендоскоп, рядом лежал аппарат для измерения давления.
– Как она? – робко спросил я, присаживаясь на краешек стула.
– Пока ничего определенного сказать не могу, – отозвался доктор. – Нужны анализы, исследования. Я дам направление в клинику. Похоже на гемолитическую анемию. Сейчас она в порядке, но дня три лучше побыть дома, в покое. Никакой работы, никаких нервных нагрузок. Рецидив внезапного повышения температуры возможен, тогда сразу звоните мне. Вот телефон. И пусть попьет капелек, рецепты я выписал. А теперь, молодой человек, давайте послушаем вас. Мой опыт подсказывает, что в семье, где один больной – там и двое.
Пришлось подчиниться.
– Тэк, тэк, тэк!.. – повторял Юрий Петрович, заставляя меня то дышать, то не дышать, колдуя над моей грудкой клеткой. Потом он отложил фонендоскоп и строго произнес: – У вас, дружочек, сильная аритмия сердца. Близко к тахикардии. Когда последний раз обследовались?
– Давно. В детстве.
– Вам бы тоже не мешало в госпиталь недельки на три. А потом в санаторий. Мотор слаб, все-таки ревматик?
Пришлось ему сознаться, что у меня порок сердца после ревмокардита. Юрий Петрович постучал костяшками пальцев по моему лбу.
– Идиот, – мягко сказал он. – Загнуться хочешь?
– Нет, не хочу.
– А так и произойдет, если образ жизни не переменишь.
– Как? Я не курю, не пью.
– Этого мало. Тебе тоже волноваться не следует. Береги сердце. Лучше всего сменить обстановку, жить где-нибудь на природе, в деревне. Уезжай из Москвы, пока не поздно. Это город мертвых.
И сестру забери. Россия велика, устроитесь.
– Я подумаю, – сказал я, понимая, что это сейчас невозможно.
– Ладно, решайте сами, – тяжело вздохнул доктор и встал. – Звоните, если что.
Когда я провожал его до двери, в коридор высунулся Заболотный. Подмигнул мне.
– Доктор, а я как же? – обидчиво спросил он. – Меня-то осматривать будете, до кучи? Чай, заплачено.
Юрий Петрович мельком взглянул на него и ответил:
– Вы, юноша, до ста лет проживете, ежели, правда, не споткнетесь на ровном месте. Засим – прощайте, честь имею.
И он удалился. Мне от слов доктора стало как-то неспокойно на душе. Словно я уже предчувствовал какую-то надвигающуюся трагедию.
– Пойду, сбегаю за лекарствами, – сказал я, поглядев на рецепты. Почерк у Юрия Петровича был такой, что ничего не разберешь.
– Валяй, – кивнул Мишаня. – А я тут до Павла дозвонился.
– Про Женю рассказал, что она больна?
– Нет, зачем? У него своих забот хватает.
«Может и правильно», – подумал я. Пусть будет что будет.
Не стану вмешиваться ни в чьи отношения, мне вредно волноваться, как заявил доктор. Буду наблюдать за всеми издалека. Как часовой с вышки. Я усмехнулся, зная, что это все равно невыполнимо. Я создан таким, что мне суждено всегда путаться у всех под ногами, как бестолковому щенку, хочу этого или нет. И взрослой собакой не быть.
– Он тебя часа через полтора будет на Крутицком Подворье ждать, – продолжил Заболотный. – Я-то не смогу поехать, а ты слетай. Думаю, Евгению Федоровну можно одну оставить, ничего страшного не случится. И напомни ему, что в два часа у нас важная встреча с Котюковым.