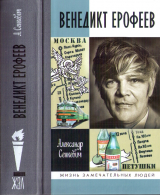
Текст книги "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний"
Автор книги: Александр Сенкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Главная мысль стихотворения Фёдора Тютчева «Silentium» содержалась, как я думаю, в строке: «Мысль изречённая есть ложь», то есть истина в её неискажённой полноте необратимо теряет своё содержание в словесном оформлении. Поэт жил в обществе, в котором чтение Библии не считалось поступком предосудительным. Иными словами, всё, что есть, видим и знаем, препятствует ощущению Бога. Истина о Нём может открыться через преодоление сознания, по ту его сторону, в той бездне, где растворены и погашены все проявления позитивного конкретного знания.
Отсюда родилось мироощущение Венедикта Ерофеева, а не от страха быть пойманным на инакомыслии. Живя моралью Нового Завета, а не «Моральным кодексом строителя коммунизма», человек ощущал себя в достаточной степени духовно свободным, сберегающим своё право на интимность личных чувств и переживаний.
Советская реальность переставила акценты. Высокий смысл стихотворения Фёдора Тютчева превратила в низкий, плотно приблизившись к надписи на плакате «Не болтай», взывающей к народу со стен домов, когда шпиономания охватила Страну Советов.
Для большей ясности сказанного приведу отрывок из книги моего старого друга Леонида Борисовича Воронина «Ищу человека», арестованного за написание нескольких стихотворений полукрамольного содержания:
«1959-й... Мне 21 год, и я в Лефортовской тюрьме по политическим обвинениям. “Почему писал поэму о Гумилёве? Что говорил о свободе слова в СССР? Как воспринял события в Венгрии?”
Когда следователь говорит мне, что моя мать свидетельствует против меня (а это, конечно же, было неправдой), я заявляю, что не буду отвечать на его вопросы и объявляю голодовку.
И вот меня привозят из Лефортова на Лубянку, где в большом кабинете, кроме работников КГБ, сидят какие-то люди в штатском (один из них, как я потом узнал, был из прокуратуры СССР, а другой – врач-психиатр, который должен был провести экспертизу на предмет моей вменяемости). Врач-психиатр, о профессии которого я первоначально не догадывался, беседует со мной, убеждается в моей психической полноценности и неожиданно – в присутствии работников КГБ и прокурора – спрашивает меня: “Молодой человек, а вы читали ‘Silentium!’ Тютчева?” (Это – о тютчевском стихотворении, начало которого так многозначно, а в той ситуации прямо-таки крамольно: “Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои...”) Задавая такой вопрос, он, мне кажется, и сам в какой-то степени рисковал: по сути, подсказывал, посылал своего рода сигнал заключённому, как ему себя вести. Да, это был явный (без оглядки на окружающих) знак сочувствия мятущемуся молодому человеку.
Если вспомнить классификацию Бердяева, это было узнавание “в моральном акте” сочувствия, сострадания к ближнему. Человек узнал человека, говоря словами Георгия Адамовича, “во мгле” случившегося, “перекликнулся” с ним.
Так литературный, философский мотив высветился в моей жизни, а жизнь – в свою очередь – заставила внимательнее вглядываться в тексты прочитанных книг»40.
Леонид Воронин до этого события не таил своих чувств и читал своим товарищам по педагогическому институту им написанные стихи:
Пожалуй, в нашей бренной жизни
есть лицемерная черта:
ты говоришь о коммунизме,
а сам не веришь ни черта.
Среди его слушателей были студенты, приобретшие чуть позднее литературную известность: Олег Григорьевич Чухонцев, Владимир Николаевич Войнович, Георгий Исидорович Полонский[133]133
1939—2001.
[Закрыть], Игорь Ильич Дуэль.
История Леонида Воронина в те «вегетарианские времена» закончилась относительно благополучно. Лагерь ему заменили перевоспитанием на стройке. А его друг Владимир Войнович продолжил свой путь в литературу. Осенью 1960 года он написал стихи «Четырнадцать минут до старта», ставшие гимном космонавтов, а в 1962 году вышла его повесть «Хочу быть честным» (именно эта книга чрезвычайно возмутила Венедикта Ерофеева) о стройке дома для комсомольцев-молодожёнов, который сдают досрочно. Один из персонажей повести – студент, посланный райкомом комсомола, – без фамилии. Спустя пять лет после публикации этой повести Владимир Войнович в своей пьесе на тот же сюжет одаривает его фамилией Воронин. Эта пьеса была поставлена во многих советских театрах. А через десяток лет после её первой постановки поэтесса Татьяна Александровна Бек[134]134
1949—2005.
[Закрыть] передала мне слова Владимира Войновича о моём друге: «Его биография делает ему честь».
Именно такой атеистический и «советский» взгляд на стихотворение Фёдора Тютчева честно и талантливо выразил в 1957 году в стихотворной и исповедальной форме Илья Эренбург. Это был его реквием по самому себе:
Ты помнишь – жаловался Тютчев:
«Мысль изречённая есть ложь».
Ты не пытался думать – лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли?
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.
И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведёшь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь41.
Назови, читатель, кого-нибудь ещё из ангажированных и увенчанных наградами советских писателей, кто высказался бы так лапидарно и точно о своей жизни, потраченной невесть на что. Я искал подобные примеры и не нашёл.
Глава десятая
«НАМ ЧЁРТ НЕ БРАТ
И БОГ НАМ НЕ ВЛАДЫКА»
В очерке Анатолия Иванова «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» без всяких обиняков описано отношение автора поэмы «Москва – Петушки» к собратьям по перу. Прочитав его, может показаться, что известный писатель обладал характером капризной барышни и раздражённо фыркал, как только брал в руки любое сочинение своего современника. Автор очерка, писатель, библиофил и книгочей, достаточно долго общался с Венедиктом Васильевичем и, будучи проницательным человеком, попытался объяснить, почему это происходило, но так и не нашёл убедительного ответа. А то, что он приводит в качестве своих предположений, затрагивает не содержательную, а внешнюю сторону прозаического творчества писателя.
Обращусь к тексту очерка Анатолия Иванова: «Похоже, что для него не существовало никаких авторитетов, столпов, мерил. Особенно когда речь заходила о современниках. О своих коллегах по перу – почти о всех поголовно – отзывался едко и унижающе. Что это ревность, соперничество? Не исключено. Но главное, сдаётся, не в этом. Это была своего рода форма освобождения от штампов чужого мнения, от диктата среды. Опуститься до нуля, начать с чистого листа, создать свою шкалу ценностей. Путь этот, по Ерофееву, лежал через алогизм, фарс, выкрутасы, хармсовщину или, иначе говоря, через противоиронию, выворачивающую всё и вся наизнанку и тем самым восстанавливающую серьёзность – но уже без прямоты и однозначности. Казалось, нет ничего на свете, что он не смел бы извратить, изничтожить презрением. Сказанное относится, впрочем, к его творческому alter ego»1.
Шоры снять с глаз не так-то трудно. Куда сложнее при этом поступать, как предлагал Александр Блок в «Прологе» поэмы «Возмездие»:
Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймёшь, где тьма.
Пускай же всё пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нём грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума2.
Венедикт Ерофеев отчётливо понимал, как далеки от этих блоковских заповедей его многие собратья по перу. Да и собратьями их назвать у него язык не повернулся бы. Как это ни показалось бы маловероятным, реальная действительность не воздействовала на органы их чувств, а только по необходимости использовалась ими для создания в их произведениях некоторого правдоподобного колорита. Венедикт Ерофеев нуждался в самой жизни, в её красоте и непотребстве, а не в её имитации. Никаких чувств ревности и соперничества по отношению к имитаторам в нём не существовало. Конструирование жизни с помощью теорий, объясняющих её с помощью исторического материализма или любого другого -изма, ему было малоинтересно и выглядело пошловато, как кривлянье и гримасы клоуна в передвижном балагане. Неудивительно поэтому, что его притягивали к себе самые обыденные ситуации и вещи, но с обязательным присутствием в них невероятных странностей. Ещё более неприятными, за редким исключением, представлялись ему советские исторические романы.
Как только умер И. В. Сталин, у читателей в СССР возник интерес к заметным фигурам мировой и отечественной истории. Из иностранцев предпочтение отдавалось вождям Великой французской революции 1789—1799 годов, а из соотечественников – участникам восстания декабристов 1825 года, народовольцам, а также, разумеется, героям-большевикам, многие из которых были репрессированы.
После XX съезда КПСС в нашей стране изменился подход к анализу исторических фактов. Нельзя сказать, что полностью была восстановлена научная объективность, но врать стали осмотрительнее. Особенно это касалось сочинений по новейшей отечественной истории. Обезличивающий эффект, присутствующий в прежних сочинениях, заметно в них ослаб. В исторических романах и повестях писателей молодого поколения уже при выборе героев преобладал личностный принцип.
В 1968 году в Политиздате – крупнейшем издательстве агитпропа ЦК КПСС был запущен проект многотомной серии «Пламенные революционеры». За 20 лет её существования было издано 160 художественно-документальных книг, в основе которых лежал опыт серии «Жизнь замечательных людей», выпускаемой издательством «Молодая гвардия». Соответствующим отделом ЦК КПСС и Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС был рекомендован список революционеров, как отечественных, так и зарубежных, жизнь и деятельность которых могли бы вдохновить писателей на создание увлекательных и идеологически полезных биографий. Чтобы советская молодёжь знала, с кого брать пример. Предполагались авторские книги, то есть основательно беллетризованные. Допускалась свобода писательской фантазии. Издательство ограничивало только объём произведения. Редакторам рекомендовалось не сдерживать творческую фантазию авторов. Историческое и географическое поле всей книжной серии было огромным. Оно занимало несколько веков и множество стран. Да и сами коммунистические идеи, как известно, возникли не вчера.
К столь грандиозной работе были привлечены многие авторы, в том числе и писатели, известные своим свободолюбием и популярные среди молодой читающей аудитории. Назову некоторых из них. Это Марк Александрович Поповский[135]135
1922—2004.
[Закрыть], Булат Шалвович Окуджава, Юрий Валентинович Трифонов[136]136
1925—1981.
[Закрыть], Натан Яковлевич Эйдельман[137]137
1930—1989.
[Закрыть], Василий Павлович Аксёнов[138]138
1932—2009.
[Закрыть], Анатолий Тихонович Гладилин[139]139
1935—2018.
[Закрыть], Владимир Николаевич Войнович.
Тираж первого издания любой книги из этой серии был постоянным: 200 тысяч экземпляров. Соответственно тиражу авторам выплачивался и гонорар. Обычно эти книги выпускали двумя и даже тремя тиражами, настолько они быстро расходились.
Чем была вызвана такая популярность книг о главных деятелях французской революции, декабристах, народовольцах и видных большевиках? В то время интеллигенция верила в иллюзию, что «дядюшка Джо» извратил ленинские идеи[140]140
На рецидив этой идеи в современном либеральном медиапространстве обратил внимание философ и политолог А. С. Ципко. Речь шла о писателе и журналисте В. А. Шендеровиче, который «пытается соединить в своей душе несоединимое: любовь к коммунистам, к “ленинской гвардии”, к деятелям III Интернационала с ненавистью к Сталину»: «Недавно на “Эхе Москвы” Шендерович осуждал коммуниста Геннадия Зюганова за то, что он ходит с цветами к могиле Сталина, к могиле человека, который уничтожил, по словам Виктора Шендеровича, “цвет ленинской гвардии”, опошлил “идеалы Октября”. Я понимаю, что Виктор Шендерович – литератор и он не очень хорошо знает историю и идеологию большевизма. Но всем тем, кто, несмотря ни на что, продолжает верить в величие, как говорит патриарх Кирилл, “грандиозность идеалов коммунизма”, надо знать, что не Сталин, а именно “ленинская гвардия” оправдывала убийство тех, кому, по словам соратника Ленина Григория Зиновьева, “большевики не имеют что сказать”» (Ципко А. Трагедия Катыни оправданию не подлежит// Московский комсомолец. 2020. 31 января. С. 3).
[Закрыть], а пришедшие после него ниспровергатели – полуграмотные временщики и потому-то наломают немало дров. Появившиеся из небытия персонажи серии «Пламенные революционеры» словно грозили из своего прошлого новым вождям: «Не настоящие вы революционеры, а обманщики и самозванцы! Не то что ленинская гвардия. Недолог ваш век. Народ всё помнит, видит и понимает». Так думали взявшиеся за работу писатели-шестидесятники с репутацией любимцев молодого поколения. Они надеялись по возможности смухлевать, ведя игру с властью по своим правилам. Это было глубокое заблуждение. В действительности власть сама ненавязчиво втянула их в игру, зная, чем приманить этих амбициозных и самонадеянных людей, которые не чувствовали на себе её смешливого взгляда. Думая, что их мухлёж незаметен, они радовались и ликовали, словно были не писателями земли Русской, а заурядными заезжими шулерами.
Вячеслав Курицын прав в определении основной причины недомыслия этих талантливых людей и их идеалов: «Общеизвестный тезис: недостатки шестидесятников есть недостатки XX съезда. Съезд, как известно, предложил весьма однобокую трактовку истории: идея была хороша, да дискредитирована врагами. Чего уж тут этого слова бояться: именно что врагами. Только чьи враги? Партии? Рода человеческого? Оставив в стороне этот скользкий вопрос, укажем на онтологическую сущность такой позиции: вновь была предложена чёрно-белая, романтическая трактовка мироздания – есть хорошее и плохое, наши и “ихние”. И основной ущерб шестидесятничества, на мой взгляд, именно в “чёрно-белости”: мир разодран на “высокое” и “низкое”. “Высокое” – это, скажем, устремления “физиков” из “Понедельника” Стругацких или “Железки” Аксёнова. Низкое – это “мещанство”, “бюргерство”, “частная жизнь”. Непременная принадлежность “чёрно-белого” взгляда – нетерпимость. <...> Вот – вкратце – о том наследстве, которое следующее поколение никак не могло взять с собой. Да, конечно, лежит на этом наследстве печать времени. Да, шестидесятники – дети своего времени. А бывает ли иначе? Но скажу: семидесятники детьми своего времени не были»3.
Владимир Муравьёв решительно возражал, когда речь заходила о причислении Венедикта Ерофеева к писателям-шестидесятникам.
Он аргументированно изложил свою позицию в предисловии «Высоких зрелищ зритель» к двухтомнику сочинений Венедикта Ерофеева, выпушенному издательством «Вагриус» в 2007 году: «Контекстом “шестидесятничества” была советская литература, а если взять шире – то советская социалистическая культура мировосприятия, насквозь идеологизированного, причём никакие частные акценты, протестные или обновленческие, дела не меняли. Мировосприятие это намертво скреплялось образом жизни, в которой безраздельно властвовали определённые стандарты речи, внешности, поведения, одежды... Никакое “инакомыслие” в условиях морально-политического единства было даже непредставимо и уж во всяком случае с самого начала (оно же и конец) находилось в компетенции соответствующих органов. В принципе, надлежало стандартизировать всё, и не столько отрицательный, сколько заблудший персонаж тогдашнего советского популярного романа робко жалуется возлюбленной: что это – чуть шаг в сторону, сразу окрик; возлюбленная же удивлённо советует ему: а ты не суйся в сторону, иди в строю, как все. Самым страшным и убийственным было забытое сейчас громовое слово-обвинение “отщепенец”, действительное на всех уровнях жизни. Собственно говоря, это было то же самое, что прежде “враг народа”, и недаром прозорливый администратор сообщает герою ерофеевских “Записок психопата”, что он – “врах” и что его надо без лишних слов расстрелять. Самым детективным сюжетом было тогда изобличение (“узнавание”) чужака, притворяющегося своим – и в чём-то, как выясняется, не такого, как все (“так положено”)»4.
Булат Окуджава честно сказал в 1992 году на страницах журнала «Столица»: «Мы дети своего времени, и судить нас надо по его законам и меркам. Большинство из нас не было революционерами, не собиралось коммунистический режим уничтожать. Я, например, даже подумать не мог, что это возможно. Задача была очеловечить его. <...> Мы же ведь всегда воспитывались этакими “удобными”, бездумными. Мы были разными, и уровень мышления был разный, и степень революционности. И всё было – и равнодушие, и страх, и слепая вера, и цинизм». Но не это определяло лицо поколения5.
Вот это «но» и отделяет Венедикта Ерофеева от Булата Окуджавы с его друзьями-шестидесятниками.
В 60-е годы прошлого века всё-таки произошли серьёзные сдвиги в отношении к мировой культуре – её восторженное восприятие большинством советской интеллигенции, поощряемое властью. Это было самое благоприятное время для филологов и историков культуры, которые восстанавливали в прежних правах шедевры литературы и искусства. Наступила эпоха талантливого культуртрегерства, в которой происходило толкование и обожествление созданного на протяжении веков, а не сотворение чего-то нового. Игорь Смирнов, философ и филолог, назвал её «эпохой всеобщего пафоса соавторства, а неавторства»6, обратив внимание, что даже роман Андрея Битова «Пушкинский дом» был написан в соавторстве с русской литературой. Писатели-шестидесятники остерегались нести личную ответственность за свои тексты.
И это касалось не только писателей, но и филологов. Соавторство становилось в те годы распространённым явлением. Чувство страха загреметь куда подальше притупилось, зато осторожность оставалась прежней. Сторонились также и тех, кто позволял себе лишнего в высказываниях.
Не потому ли некоторые писатели-шестидесятники, как, например, Василий Аксёнов, кисло и достаточно ревниво восприняли поэму «Москва – Петушки» и трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»? Да и Венедикт Ерофеев особенно не жаловал Василия Аксёнова. Обращусь к книге Натальи Шмельковой «Последние дни Венедикта Ерофеева»: «Приступил было к “Ожогу” Васьки Аксёнова, но дошёл только до 25-й страницы, прочёл: “Мы шли по щиколотку в вонючей грязи посёлка Планерское, а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы”, – сплюнул и отложил в сторону. Сказал только “экое паскудство” и больше ничего не сказал»7.
Профессор Санкт-Петербургского университета Анатолий Александрович Собчак[141]141
1937—2000.
[Закрыть], ставший политиком, оказался куда более подготовленным для восприятия «новой словесности». По своим взглядам на советскую жизнь он и писатель Венедикт Васильевич Ерофеев не были антагонистами и относились друг к другу с симпатией. Но это произошло намного позднее, уже в конце 1980-х годов.
Судите сами по книге Анатолия Собчака «Хождение во власть» (1991): «Скоро я познакомлюсь с Венедиктом Ерофеевым. Это будет тоже на театральной премьере, но уже на Малой Бронной. Его роман “Москва – Петушки”, вышедший в самиздате, потряс многих. Ерофеев дожил и до публикации романа, и до театральной премьеры. Но он тяжело болен, и первая наша беседа с ним окажется последней. Точно волна смертей начала 80-х, уходов тех, кто не дожил до конца эпохи, сменилась другой волной, уходами тех, кто дожил и увидел начало новой. А нам ещё не время. Мы только начали это малоприятное и, видимо, малоблагодарное дело. Мы не Гераклы, но авгиевы конюшни тоталитаризма, построенного в одной, отдельно взятой стране, разгребать сегодня нам»8.
Не отрази Венедикт Ерофеев болевые точки не только нашего, но и так называемого цивилизованного мира, его прижизненная слава давным-давно развеялась бы как дым. С ходом времени понимаешь значимость его творчества и для новой русской литературы, и вообще для современной словесности.
Что касается родной страны, Ерофеев существовал, образно говоря, уже не в сумасшедшем доме, а большей частью в балагане. Сумасшедший дом как непременный атрибут всеобщего психоза оставался в послевоенном сталинском детстве и после смерти вождя всех времён и народов иногда возникал в его сознании лишь неким наваждением. Из творчески одарённых людей жить и работать в балагане и в то же время не превратиться в клоуна или канатоходца, ходящего по проволоке под его куполом, мало кому удавалось. По крайней мере, из канатоходцев, чувствующих под собой твёрдую почву и выражавших открыто, понятно и художественно убедительно свои свободолюбивые мысли, я знаю только одного – Владимира Высоцкого.
Однако Венедикт Ерофеев преодолел и эти искушения. Оставался тем, кем был до приезда в столицу. Не относился он к комедиантам по своей натуре. Ведь пересмешник – не комедиант. Вот единственное объяснение, почему он избрал наихудший для здравомыслящего человека образ жизни – какое-то время он убегал от власти, чтобы не оказаться в её капкане.
И всё же с помощью Венички из поэмы «Москва – Петушки» писатель не отказывает себе в удовольствии время от времени поюродствовать и показать своим сотоварищам по перу козу, что на Руси использовали как жест, изгоняющий нечистую силу. Ведь юродствовать и паясничать, согласитесь, – не одно и то же.
Итак, в моём повествовании о Венедикте Ерофееве без писателей-шестидесятников не обойтись. Не буду утверждать, что ко всем этим людям он относился с безразличием. Другое дело, что многие из них своей жизнью и творчеством не воплощали для него моральных стандартов и не считались провозвестниками того лучшего будущего, в котором он хотел бы оказаться. Ни у кого из них не было даже предчувствия, что жизнь Советского государства основательно изменится, а право частной собственности будет охраняться законом. Им казалось, что власть коммунистов навсегда, до скончания веков – настолько она прочно утвердилась в сознании советских людей, подобно вросшим в вечную мерзлоту домам на сваях из сверхпрочной стали или на арматурном каркасе, залитом бетоном. С большинством диссидентствующих писателей-семидесятников Венедикту Ерофееву было тоже не по пути. Их психологическую установку он быстро уяснил и тут же занёс в блокнот: «Нам чёрт не брат и Бог нам не владыка»9.
В исторической повести Натана Эйдельмана «Апостол Сергей» речь шла не о восстании на Сенатской площади 15 декабря 1825 года в Петербурге, а о более позднем по времени бунте целого полка в Чернигове и его вдохновителе Сергее Ивановиче Муравьёве-Апостоле[142]142
1796—1826.
[Закрыть], повешенном среди пяти декабристов на кронверке Петропавловской крепости. Сергей Муравьёв-Апостол относился к радикальным заговорщикам, участвовал в управлении Южным тайным обществом и, как было указано в приговоре Верховного суда, «имел умысел на цареубийство; изыскивал средства, избирал и назначал к тому других: соглашаясь на изгнание императорской фамилии, требовал в особенности убиения цесаревича и возбуждал к тому других...».
Что говорить, и по нынешним временам перед нами личность с криминальными наклонностями. В этом же приговоре среди многих обвинений приводится факт подкупа священника для чтения лжекатехизиса, составленного Сергеем Муравьёвым-Апостолом перед восставшим Черниговским полком. Именно это событие легло в основу концепции Натана Эйдельмана. Изложу её в самом общем виде.
Сергей Муравьёв-Апостол и его друг Михаил Бестужев-Рюмин воплощают собой истинных христиан и будут прощены Господом Иисусом Христом. По представлению писателя, в христианстве заложены отрицание рабства и провозглашение милосердия и свободы. Именно поэтому Сергей Муравьёв-Апостол предстаёт на страницах повести человеком редкого благородства, мужества и христианских добродетелей. Иными словами, он, по убеждению писателя, всецело соответствует своей фамилии.
Булат Окуджава повестью «Глоток свободы» вторит своему коллеге. Тема декабризма и образ Павла Ивановича Пестеля[143]143
1793—1826.
[Закрыть] поданы им через чувства и размышления Ивана Евдокимовича Авросимова, писаря в высочайше утверждённой комиссии по расследованию преступной деятельности участников восстания на Сенатской площади. Любовно-лирические линии в сюжете повести оттеняют её основную политическую идею – неудавшееся восстание декабристов было для судьбы России трагическим событием. Сорвавшийся план побега Пестеля и различные обстоятельства, ему сопутствующие, усиливают трагизм повествования. Повесть Булата Окуджавы – реквием по несбывшимся надеждам.
Венедикту Ерофееву была куда ближе оценка декабристов Александром Солженицыным в статье «“Русский вопрос” к концу XX века»: «Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ обещали России революционную тиранию, иные декабристы на следствии настаивали, что свобода может быть основана только на трупах»10.
Писатели, кумиры молодёжи конца 1960—1970-х годов, не обращали внимания на отношение Николая I к арестованным участникам восстания на Сенатской площади.
Солженицын вносит коррективы в характеристику образа царя как тирана, необузданного в своей жестокости к восставшим: «Все нижние чины были прощены через четыре дня; при допросах 121 арестованного офицера не было никакого давления и искажения; из приговорённых судом к смерти тридцати шести Николай помиловал тридцать одного»11.
Как тут ни верти, а вывод напрашивается один, причём без всяких натяжек. При всей свежести языка и оригинальности повествования практически все прославленные авторы книжной серии «Пламенные революционеры» отличались, как и их герои, политическим радикализмом левой направленности. У некоторых из них этот радикализм слегка завуалирован лирическими отступлениями, а большей частью – ничем не прикрыт. И ещё одна, наиболее важная черта в их отношениях с окружающим и враждебным им миром. Как это ни прискорбно, большинство героев этих повестей ни в грош не ставят индивидуальность человеческой личности. Внешние обстоятельства, а не сам человек, определяют выбор. Постараюсь подкрепить моё утверждение новыми примерами.
В чём-то конкретном упрекать этих писателей глупо. Они писали так, как требовали обстоятельства жизни в СССР после смерти Сталина и соответствующие умонастроения, господствовавшие в молодёжной среде того времени. Ведь и главная установка, принятая в 1961 году на XXII съезде КПСС, по которой предлагалось советскому народу выстраивать свою последующую жизнь, была мечтой-идеей, заведомо невыполнимой: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
На эту безответственную декларацию Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1980 года» приводит ироническое заявление Мао Цзэдуна[144]144
1893—1976.
[Закрыть], сделанное им в 1958 году: «Подождём самое меньшее два-три года после вступления Советского Союза в коммунизм, а затем вступим сами, чтобы не поставить в неудобное положение партию Ленина и страну Октября»12.
Культ прекраснодушия набирал силу, но он не был пропитан кровью, как при Сталине, а скорее его прообразом был незлобивый, витающий в мечтах помещик Манилов из поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души». На эту эфемерную булочку с изюмом советская молодёжь на очень короткое время клюнула, но вскоре спохватилась и взглянула на окружающую жизнь трезвыми глазами. Она поняла, что её бесстыже водят за нос и принимают за толпу легковерных идиотов. Надо было после снятия со всех постов Никиты Сергеевича Хрущева как-то снизить в молодёжной среде градус недовольства напоминанием о борьбе с проклятым царизмом и возродить пафос освобождения от монархической власти до появления культа Сталина и последующих за этим массовых репрессий в СССР. Вот потому-то власть, состоявшая из тех, кто убрал Хрущева с политического поля, затеяла новую пропагандистскую кампанию, частью которой стала книжная серия «Пламенные революционеры». Тут и пригодилась партийная история по Владимиру Ильичу Ленину. Тут и пришлись ко двору писатели-правдолюбцы.
Самое простое объяснение сотрудничества художников слова с властью (на мой взгляд, мало что разъясняющее): писателям тоже кушать хотца.
Тут стоит вспомнить запись Ивана Алексеевича Бунина[145]145
1870—1953.
[Закрыть] от 25 апреля 1919 года в «Окаянных днях»: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки”...»13
Понятно, что Валентин Петрович Катаев[146]146
1897—1986.
[Закрыть] перед Иваном Алексеевичем ёрничал, валял дурака. Шокируя своего учителя с христианскими представлениями в сознании, он ещё таким образом продумывал перспективу собственной будущей жизни. Сможет ли бывший прапорщик ужиться с чуждой ему большевистской властью первых двух лет после октябрьского переворота? Где-то в подсознании у него сохранялась, я думаю, надежда, что, может быть, этот кошмар всё-таки закончится и всё войдёт в прежнюю колею.
Через много-много лет после его откровений для него самого и многих других выживших талантливых советских писателей кошмар, о котором он неожиданно, но неспроста вспомнил в повести «Уже написан Вертер», наконец-то закончился. Он опубликовал это своё «антисоветское» произведение в 1980 году в июньском номере «Нового мира». Это была первая такого рода публикация в подцензурной печати. Особого шума в СМИ, как ни странно, не последовало. Повесть в печать «продавил» главный идеолог Страны Советов Михаил Андреевич Суслов[147]147
1902—1982.
[Закрыть]. Для кампании всенародного осуждения не сработала даже записка председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова[148]148
1914—1984.
[Закрыть] в ЦК КПСС от 2 сентября того же года, всполошившегося от такого неожиданного плевка в историю советских спецслужб. В ней отмечалось, что повесть «в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции»14.
Отмечу, что главные душегубы-чекисты в повести были евреи. Как говорят в народе, с антисемитизмом и сахар слаще, и водка крепче.
Номер журнала с опубликованной повестью из библиотек, однако, не изъяли. Разве что через Главлит запретили её упоминание в печати. Как тогда говорили: «Всего и делов-то!» Ведь из числа советских классиков Катаева не исключили и не лишили звания Героя Социалистического Т руда.
Честно говоря, Леонида Ильича Брежнева не очень волновала идеология его власти, в которой он по своему невежеству мало что понимал. Главным идеологом, смотрящим за чистотой марксизма-ленинизма, считался Суслов. Вот ему и даны были карты в руки. Пусть разбирается, где есть отклонения от генеральной линии партии, а где их нет, а только одни наговоры.
Я убеждён, что меркантильные интересы названных мною авторов повестей о пламенных революционерах оставались на втором плане. Они художественно выразили идеализацию декабристов, народовольцев, Ленина и его ближайших сподвижников, а также восхищение их радикальной деятельностью в интересах трудового народа, опираясь на совершенно другие соображения и взгляды. Расправа над декабристами и народовольцами причислялась писателями-шестидесятниками к чудовищным преступлениям царизма. А уж появление в России Владимира Ленина (Ульянова) воспринималось как событие вселенского масштаба, как появление нового мессии, спасителя. Его уход из жизни представлялся мнимым. Как писал Владимир Маяковский: «Ленин и теперь живее всех живых – наше знанье, сила и оружие». Андрей Вознесенский подхватил эту идею и в соответствии со своим атеистическим временем образно её снизил: «Уберите Ленина с денег, / Так цена его велика!»
Большинство людей уверовали, что смерть вождя – искупительная жертва, за которой неминуемо последует если не коммунизм, царство справедливости и добра, то по крайней мере что-то лучшее, чем было, – жизнь, полная достатка и самоуважения. Не случайно имя Ленин в народе замещалось более тёплым, интимным словом – Ильич, тогда как Сталин всегда оставался Сталиным с прилепленным к нему определением «великий». В сознании писателей-шестидесятников он, в отличие от Ленина-мессии, отождествлялся с дьяволом. В наши дни в сознании русских националистов Ленин и Сталин поменялись ролями. Сталин превратился в радетеля народных интересов, а Ленин – в воплощение адских сил, теоретика и практика заговора против России. Недаром известный разоблачитель «заговора сионских мудрецов» В. Ф. Иванов, белоэмигрант из Харбина, ещё в 1930-е годы называл Сталина «катом русского народа и бичом Божьим».





