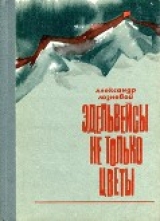
Текст книги "Эдельвейсы — не только цветы"
Автор книги: Александр Лозневой
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Но ошибки не было.
– Немцы в тылу! – услышал Колнобокий в телефонной трубке. А вскоре и сам увидел их. Они бежали по долине, растянувшись цепью и стреляя на ходу. Сержант, первым увидев фашистов в тылу батальона, не дожидаясь команды, открыл по ним огонь из пулемета. Это заставило немцев залечь. Чтобы очистить тыл, Колнобокий повернул назад первую роту, а это сказалось на ходе контратаки. Она стала затухать, свертываться и вскоре захлебнулась.
Видя, что Сху не удержать, комбат приказал отступить.
Хардер въехал в селение на гнедом дончаке. Его сопровождала целая свита, как будто это был не батальонный командир, а сам шеф дивизии «Эдельвейс».
Став старостой, Алибек надел новый бешмет, напялил на голову белую папаху. Власть есть власть. Две лучших комнаты в своем доме он отвел Хардеру, в третьей, тесной и темной, разместился сам с женой.
Оглядев двуспальную кровать и ощупав ковры, Хардер остался доволен. Ординарец принес желтое кресло, обитое кожей, повесил на стену портрет фюрера.
Жена Алибека, робкая, пугливая, как серна, Асият, повозившись на кухне, скрылась в тесной комнатке. Она была рада возвращению мужа и в то же время боялась за него, боялась того, что он связался с немцами. Хотя и офицер и солдаты ничего дурного пока не сделали, но их взгляды настораживали. Она зазвала мужа в комнатку и поделилась с ним своими сомнениями. Алибек рассмеялся: этот немецкий капитан спас ему жизнь. Больше того, дал ему власть. Асият просто ничего не понимает.
Асият верила мужу и все же не могла избавиться от тревоги, которую принесли эти, пришедшие бог весть откуда, чужие люди.
– А придут наши, что тогда? – спросила Асият.
– Были наши, да теперь нет, – усмехнулся Алибек. – Мертвого не воскресить!
Успокоив жену, он прошел в большую комнату, где уже сидели немецкие офицеры. Показалось, что его ждали. Но вскоре понял, что он здесь чужой. Офицеры не обращали на него внимания. Лишь Хардер, войдя в комнату, кивнул ему, показал на стул: садись. Алибек оживился. Ну и пусть их, офицеров. Сам командир батальона пригласил его на ужин. Он так и сказал: «Прошу, друг!»
Алибек положил большие загорелые руки на стол. Но, решив, что это не хорошо, стал прятать их под скатертью: руки у него черные, мужицкие, не то что у господ офицеров.
Между ним и Хардером свободный стул. Показав на него, капитан заговорил о хозяйке: она должна быть здесь, это ее место.
Взглянув на дверь, за которой находилась жена, Алибек подумал: «Незачем ей быть здесь» – и пояснил офицеру, что на Кавказе есть заведенные обычаи, которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Хардер на ответил, поднялся с бокалом в руке:
– За великого фюрера!
Потом пили за великую Германию, за храбрых немецких солдат и прекрасных фрау. Хардер поднялся снова:
– А еще выпьем за тех, кто бросил русское оружие и стал нашим другом! За старосту Алибека!.. Чем больше будет алибеков, тем скорее мы укрепим нашу власть в горах!
– За полную победу!
– За конец войны в этом году!
Звякнули бокалы. Затем опять заговорил Хардер. Это был уже не тост, а, скорее, наставление: он стал поучать подчиненных, как вести себя среди кавказского населения.
– Надо быть хозяином, – подчеркнул он. – Там, где прошел немец, все стало его достоянием. Леса, горы, люди и это синее небо – все внесено в реестр Третьего рейха!.. Не сегодня-завтра, – продолжал гауптман, – падет Сталинград. Это облегчит нам борьбу в горах. – Он поднял бокал и предложил выпить за железного орла Германии – генерал-полковника Паулюса, за то, чтобы Паулюс в этом месяце потопил русские войска в Волге.
– За Паулюса!
– За Сухуми! – перекричал всех молодой офицер.
Услышав слово «Сухуми», Алибек оживился. Это было единственное слово, которое он понял. И он заулыбался, повторяя, как попугай: «Сухуми! Сухуми!»
Пили до поздней ночи.
Но вот офицеры поднялись из-за стола. Приложив руку к сердцу, раскланялся и Алибек. Его ждала жена. Уже сутки, как он дома, а еще не наговорился с нею, не обласкал как следует. Он заулыбался, отходя задом к двери. Но гауптман остановил его:
– Найн!
Снова усадил за стол. Предложил сигарету.
Чуть приоткрылась дверь из маленькой комнатки, показалось бледное лицо Асият. Хозяин хотел было встать, но гауптман задержал его: подождет.
У жены горца – большие черные глаза, тугие косы и очень тонкая талия. Хардеру она напомнила француженку, с которой он встречался в Париже. «О, как давно это было!» – пожалел он. Трудно сказать, когда он будет там снова. И опять, повернувшись на скрип дверцы, увидел жену Алибека. Совсем юная, перетянутая пояском, она показалась даже лучше француженки. Потушив сигарету о ножку стола, задумался. Да, собственно, что тут думать. Победителю все позволено. Вот только как быть с Алибеком? Стоит ли портить отношения? А зачем, собственно, портить? Разве нельзя иначе?
Хардер налил полный бокал:
– Пей, друг!
Староста хотел было отказаться, но тут же понял, что этого делать нельзя. Лучше, пожалуй, не допить – это другое дело, но отказаться… Ведь угощает сам герр гауптман, от которого теперь зависит все. Кроме того, уж больно искристое вино. Такого ординарец еще не подавал. Насквозь светится. Подняв стакан – была не была – Алибек выпил до дна.
Немец одобрительно захлопал в ладоши. И вдруг снова:
– Давай жену за стол!
Староста покосился на комнатку, где беззвучно, как мышь, ступала Асият, опять заговорил об обычаях.
– О, понимайт. Раньше – паранджа…
– Паранджи нет. Обычай есть, – пояснил Алибек.
Капитан сделал серьезное лицо:
– Мы, германски официр, понимайт всякий обычай. Мы не позволяй, чтобы кто нарушаль его. Обычай есть святость.
Алибек оживился, повеселел. А Хардер потянулся к бутылке и доверху наполнил бокал старосты:
– Пей!..
Алибек положил в тарелку недоеденный шашлык, поднял бокал, рассматривая его на свет: вино, как алмаз! Вот жизнь настала: пей – не хочу! И почему немец так угощает его? То есть как это – почему? Да потому, что Алибек – староста, местная власть! Без старосты немцам никак нельзя. А раз так, надо выпить: что там завтра будет – неизвестно, а сегодня – выпить!
Ординарец откупорил еще одну бутылку, высокую, с узким горлышком и непонятной голубой наклейкой. Это было чужое вино: такого Алибек еще не пил. Как не попробовать?
– За него… За фю… фюю… – Не сумев выговорить, выпил. Зашатался и, падая, ухватился руками за скатерть. Загремела посуда, полилось вино.
– Гут. Харашо! – усмехнулся немец.
На шум выбежала Асият. Напуганная, склонилась над мужем. Он совсем пьян. А Хардеру нет дела до Алибека. Потянулся к хозяйке. И неважно, о чем она думает, что у нее на душе. Важно, что она здесь, в этом доме.
Солдат-ординарец поднял отяжелевшего старосту и, поддерживая его, повел на свежий воздух: без слов понял он своего шефа. В сенях Алибек уперся в притолоку, замычал как буйвол. Душила рвота.
– У-у, швайн! – солдат столкнул его с крыльца.
Алибек рухнул на землю. Жена поспешила к выходу: что там с мужем? И столкнулась с офицером. Тот схватил ее за руку. Асият рванулась изо всех сил, бросилась назад в комнатку. Однако не успела захлопнуть дверь – Хардер ввалился следом.
В комнатке полутемно и от этого еще более страшно. Прижалась к стене, не зная, как избавиться от такого гостя. Немец, пошатываясь, приближался – высокий, плотный. От его шагов скрипнули половицы. Со стола что-то упало, наверное горшок с кактусом.
Еще шаг, и фашист набросился на нее. Женщина попыталась крикнуть, позвать на помощь, но широкая плотная ладонь зажала ей рот. Она поняла – случится то, чего не могла допустить, живя без мужа. Теперь муж дома. Какой позор!.. Нет, это невозможно! Это – смерть! Алибек сам убьет ее… Напрягла силы, вырвалась, скользнула в угол, но в тот же миг ощутила на себе тяжелые руки: фашист обхватил за плечи, норовя повалить. Пьяный, взбешенный, он тяжело дышал, обдавая винным перегаром. Непокорство еще более разжигало в нем дикое желание.
Асият притихла, как бы смирилась. Так, по крайней мере, показалось ему. «Ну и хорошо, все они такие», – Хардер почти доволен. А она и не думала смиряться. Дотянулась рукой до ковра, где издавна висели дедовы кинжалы: самодельные, старые… Еще одно усилие – рванула из ножен крайний, с размаху ударила немца в живот.
Не помня себя, будто в бреду, выскочила во двор. Муж стоял, опершись на изгородь. Увидев ее, шагнул навстречу. Одно слово – и он отрезвел. Злоба перекосила лицо. Он будто и не пил. Легко вскочил по ступенькам в дом, сцепился с ординарцем. Тот вскинул приклад, намереваясь ударить Алибека, и неожиданно угодил по висевшей лампе. Лампа упала на пол, вспыхнуло пламя, побежало по ковру, по занавескам. Но Алибеку не до пожара. Схватил жену за руку – надо уходить!
Еще немного, и они бы скрылись в густом лесу, что подступал почти к дому. Но тут грянул выстрел, за ним второй: выскочив на крыльцо, ординарец открыл огонь по убегающим.
– Скорее! Скорее!
Но жена будто нарочно медлит, отстает. Вот она добежала до дерева, раскинула руки, пытаясь обхватить ствол, и упала.
– Асият! Асият!
Над головой Алибека чиркали пули, впивались в стволы деревьев. Но что ему пули! Опустившись на колени, он подхватил жену за плечи – скорее туда, в чащу! И вдруг понял: мертвая.
Ничего не видя и не слыша, побежал к лесу. Пусть чиркают, пусть свистят пули! Так долго шел домой, к жене, боялся, что не дойдет… Нет, он и мертвую не оставит ее!.. Бросился назад, к жене. Уже готов был взять ее на руки, но тут пуля сорвала папаху. Упал, прижался к земле: будь ты проклят, фашист! Еще не время умирать! Жена мертва – не воскресить. А ему надо мстить. Таков закон предков. К этому зовут горы!
Прислонясь к стволу чинары, долго стоял молча. Да, он любил Асият, но теперь все равно. Теперь важнее подумать, как жить дальше. Куда, в какую сторону податься? Может, снова надеть гимнастерку, обуть кирзовые сапоги? Взвалить катушку на спину?.. Его, конечно, примут, но и спросят: а где был до сего времени? Чем занимался? Сказать неправду – значит погубить себя. Нет, он ничего не скроет, расскажет все, как было. Скрыть невозможно. Его многие видели с немцами…
Алибек понял – он находится между двух огней. Один огонь, зажженный гитлеровцами, пылает над селением, над его домом, другой – пока невидимый, но уже дышащий пламенем возмездия – встает из-за гор.
Всю ночь провел Алибек в лесу. Безмолвный, страшный. Кинжалом копал могилу. Потом, свершив обряд похорон, долго стоял у свежего холмика. Утром побрел в горы.
16
«Главное – оторваться от койки», – так впервые сказал, кажется, летчик, мечтавший скорее подняться в небо. А может, и не летчик, а танкист, не в этом суть. Важно, что фраза, оброненная человеком, прижилась в госпитале, стала девизом раненых. «Оторваться от койки» – означало жить, бороться, в крайнем случае, опираясь на костыли, обучать других, приносить какую-то пользу Родине.
– Отрыва-а-аю-с-ь! – нарочито громко произнес Головеня, принимая палку и собираясь совершить первую прогулку.
– Дай тебе бог солдатских ног! – по-отцовски напутствовал пехотинец.
– Семь футов под килём! – прокричал раненый моряк.
– А я вот что скажу. Ты, Серега, особенно не газуй, – отозвался шофер, жестикулируя руками, на которых всего было по одному пальцу. – Как-никак с капиталки вышел… Сперва потихоньку, не спеши. А там, после, и на всю «железку» давить можно.
– Сговорились! – рассмеялся Сергей. – Будто спектакль разыгрываете!
Он еще топал по лестнице, а все, кто мог встать, прилипли к окну: давно ли полумертвого привезли, лежал, как пласт, а теперь, гляди, пошел! Не свалился бы… И облегченно вздохнули, увидя его шагающим по двору.
Этот день был для лейтенанта началом новой жизни, не похожей на ту, однообразную и нудную, что текла до сих пор в палате. Он гулял в парке среди высоких чинар, любовался морем, а то усаживался на скамье под платаном и читал. Появились новые знакомые, любители поговорить на военные и особенно на политические темы. Старая зеленая скамья теперь почти не пустовала. Здесь текли оживленные разговоры, возникали жаркие споры.
– Вот ты скажи, – начинал обычно, усаживаясь рядом и стуча костылями, старшина Третьяк. – Скажи, пожалуйста, могли мы остановиться на Дону?
– Могли, да не смогли.
– Это как же понимать? Не пошел Мовша в церковь, так собаки загнали?
– Понимай как хочешь.
– Нет, тут надо прямо сказать: не могли! Был я в те дни в артиллерии, истребителем танков считался. А скажи, чем я мог истреблять эти самые танки? Сорокапяткой? А что такое сорокапятка? Воробьев из нее пужать, а не по танкам бить! Поставить в огороде и пужать, чтобы подсолнухи не клевали…
– Не в сорокапятке дело, – возразил кто-то из раненых.
– Как то есть? – Третьяк даже побледнел. – Да если б тогда у нас пушки да снаряды, мы бы им, фашистам… А то, что получилось… Ей-богу, до смешного доходило! Я вот, к примеру, наводчиком был. Глаз у меня наметан: только бы цель поймать, а там – пиши крест. Ну, вот, значит, пошли танки. Ползут по стерне и тут и там – десятка полтора, наверное. Выбираю крайний слева, подвожу по центру – хрясь! А он, проклятый, хоть бы что, как полз, так и ползет. Навожу еще – и опять мой снаряд, как горох о стенку. Так какой же я, к хренам, истребитель! Название одно и только!
– Ты еще скажешь и самолеты у нас – хуже?
– На самолетах не летал. А вообще, что ж скрывать: «ишачок» против «мессера», что дворняжка против борзой.
– Если так рассуждать, то, выходит, и воевать не стоит?
– Постой, постой…
– Что – постой? Пушки неважные, самолеты плохие. Что ж, по-твоему, остается – лапки вверх и… делайте с нами, что хотите?
– Ты, Серега, хоть и чином постарше и образование у тебя, а вперед батьки в пекло не лезь. А что я тебе в батьки гожусь, так тут никаких сомнениев: тебе двадцать три, а мне, слава богу, пятьдесят. Ты, сынок, послухай сперва, потом скажешь. Я тут другое в виду имею. Уж больно мы кричать попусту научились. И тут и там кричим, выхваляемся. А на деле-то вон как вышло. Фашист во двор, нам бы тут ворота на запор и вся недолга. Да куда там, кинулись…
– Хватит, старшина!
– Рад бы замолчать – не могу. Душа болит! Подумать только, вон куда его, черта, пропустили, к самой Волге! На Кавказ пропустили! Да такого за всю историю не было! – старшина ткнул пальцем в газету. – Не могу! Очень уж сводка тяжелая… Эх, да что там! – он замолчал. Но вот поднял голову: – Непонятно, почему он, гад, сразу на Волгу и на Кавказ идет.
– То есть как – почему? – ухватился за слово лейтенант. – Тут вся его стратегия как на ладони видна. Неумная, скажу тебе, стратегия.
– А у нас – умная? Сколько городов сдали…
– Да погоди ты! – лейтенант встал.
– Что ж тут годить. Завтра Владикавказ сдадим. А там…
– Погоди!.. Неумная потому, что Гитлер за двумя зайцами погнался. Слишком широко рот раскрыл. Одна нога здесь, другая там. Видит око, да зуб неймет… Глупая стратегия.
– Почему же глупая?
– Да потому, что никому на свете не удавалось поймать сразу двух зайцев.
– Ох, что-то я не понимаю, – тяжело вздохнул старшина. – Ленинград в блокаде. В Сталинграде – уличные бои. Дивизия «Эдельвейс» вышла на перевалы… А ты – глупая стратегия… Так однажды проснемся утречком, а у ворот госпиталя фрицы: «Хэндэ хох!..»
Лейтенант задумался: в чем-то старшина прав. Но согласиться с ним не мог – мешала иная убежденность, своя линия, которой всегда придерживался. Вопросы старшины задевали за живое, тревожили. В самом деле, если так подумать, почему отступаем? Почему сейчас, как в сорок первом, сдаем одну позицию за другой? Оставляем города, деревни? Неужели ничему не научились? А может, вредительство? Почему в небе только немецкие самолеты? Почему?!
– Может, сразимся? – сказал солдат, все время молча сидевший в сторонке.
Головеня посмотрел на солдата, на шахматную доску с расставленными фигурами:
– Что-то не хочется. Вон со старшиной.
– В подкидного – пожалуйста, – отозвался Третьяк.
– Товарищ лейтенант, говорят, вы разряд имели, – не отставал солдат.
– Давно когда-то, – признался Головеня.
– Я тоже – перед войной. Может, все-таки одну партию, а?
– Ну, давай.
Головене выпало играть белыми.
– Пойти к новичкам, что ли, – тяжело поднялся старшина и, опираясь на костыли, заковылял к подъезду третьего корпуса. – Завтра доспорим! – бросил он на ходу.
– Эк! – крякнул от удовольствия лейтенант, снимая слона.
Солдат будто ничего не заметил, думал, не сводя глаз с доски. Наконец, с шумом передвинул ладью:
– Стоп, пропала коняжка!
– Что поделаешь, война, – отозвался Головеня. И вдруг спросил: – Это он к каким новичкам пошел?
– С перевала, говорят, прибыли, – не отрываясь от доски, ответил солдат.
– Что?.. С перевала?.. – лейтенант неожиданно встал. – Потом доиграем. После… – и быстро пошел к третьему корпусу.
– Такая партия! – сокрушенно вздохнул солдат.
– Ладно, после, – обернулся Головеня.
Когда он вошел в третий корпус, многие из новичков лежали в коридоре на носилках: не хватало мест.
– Кто тут с перевала?
– Почти все, – ответил щупленький, лицо в веснушках, солдат. Он то поднимал вверх свои забинтованные руки, то опускал их, не находя покоя.
Лейтенант прошел по коридору, рассматривая раненых: ни одного знакомого. Видать, с другого направления. А как хотелось услышать, что сейчас в Орлиных скалах. Поговорив с одним, с другим, Головеня собрался было уходить, но, услышав голос худого, раненного в обе ноги бойца, остановился. Тот просил узнать, куда положили Ромашкина.
– Уж очень слаб Ромашкин, – жаловался солдат. – Матери написать бы – у него рук нету.
– А вы с ним откуда?
– Мы-то?.. Из Орлиных скал, товарищ лейтенант.
Головеня опустился на корточки:
– Из батальона Колнобокого?
– Так точно.
– Вот как, – оживился он, усаживаясь на пол. – Что там, в Орлиных?..
– Сдали Орлиные…
Рядом заворочался обросший черной бородой боец: он без рубахи, тело от шеи до поясницы в бинтах, порыжевших от крови и йода.
– Думал, кто из старых друзей найдется, – сказал лейтенант, лишь бы что-нибудь сказать. Больно было слышать – сдали…
Бородач повел глазами в сторону лейтенанта и прохрипел:
– Командир… Товарищ командир.
Головеня опешил. Где он видел эти горящие как угли глаза? Слышал этот голос?
– Товарищ командир взвода, – опять прохрипел солдат.
Лейтенант взглянул пристальнее, бросился к бородачу:
– Вано!.. Да ты откуда? Тебя ж похоронили!
– С того света, товарищ лейтенант.
В памяти Головени встала картина боя в Орлиных скалах. Вой, грохот… На тропу ворвались гитлеровцы. Они скоро поднимутся на наши огневые позиции, и тогда их не выбить. Подбежавший Егорка трогает его за плечо: «Смотрите! Смотрите!» Лейтенант поднимает голову: на вершине ската – Пруидзе. Солдат отбивается, отходит. «Они убьют его!» – содрогается Егорка. А немцы бегут, бегут… Потом тишина. Ни немцев, ни Пруидзе, ни самого Егорки…
Лейтенант не слышал, как вошла сестра, как остановилась за его спиной и что-то сказала, может быть предупредила: посторонним нельзя, – но тут же отошла в сторону.
Бледный, с запавшими глазами, Пруидзе совсем не походил на того солдата-шутника, который не так давно вместе с Донцовым шагал по тропе, спасая его, Головеню.
– Значит, в пропасти побывал?
– В самой преисподней, товарищ лейтенант. Если бы не ангел-хранитель Калашников, лежать бы мне до второго пришествия!
– Калашников?
– Там в батальоне сержант такой есть. Красивый. Настоящий архангел Гавриил. Он и еще солдат – подхватили вдвоем и только пыль столбом!.. А искали Зубова.
– Как – Зубова? – удивился лейтенант.
– Зубов, говорят, тогда в пропасть упал.
– Странно.
– Его искали, а меня нашли. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
– Зубов не упадет, – с досадой произнес лейтенант и добавил: – Упустили гада!
Потрогав седеющие волосы Пруидзе, Головеня улыбнулся:
– А знаешь, Вано, на кого ты сейчас похож? Помнишь кинофильм «Абрек Заур?» На него, на абрека Заура! Посади тебя на коня, дай саблю в руки – чистый абрек. Ей-богу.
Сравнение понравилось солдату, он заворочался, пытаясь приподняться, но вдруг застыл от боли.
– Какой там Заур, встать не могу, – еле выдавил он.
– И не надо вставать. Я тоже таким был, не то что встать, головы поднять не мог, а теперь, видишь, хожу. Скоро выпишусь!
– Мать у меня здесь, – тихо сказал Вано. – Старая…
– Может, письмо написать? А то лучше Наташа домой сходит. А?
– Здесь Наташа?
– Здесь, – улыбнулся лейтенант. – И не только она. Донцов здесь.
– Степан жив?
– Живехонек, – лейтенант подсел ближе. – Только вот задержали его. Неразбериха какая-то… Я не верю, чтобы он сделал что-нибудь плохое. Не такой это человек. Скорее, не уступил какому-нибудь тыловику: язык у него, сам знаешь, как топор – не говорит, а рубит. Вот и решили припугнуть хлопца. Но такого не испугаешь, – лейтенант помолчал немного и заключил: – Донцова с музыкой бы встречать надо, цветы ему преподносить…
Со здоровьем Вано Пруидзе было пока неясно. Порой он чувствовал себя неплохо, но вдруг подступала боль, и тогда, стиснув зубы, он тяжко стонал. Врач уверял, что нет ничего страшного. Но где найдешь такого врача, который бы сказал больному всю правду? Таких врачей нет и, наверное, никогда не будет. И не потому, что не хотят, им просто не дано на это права. Если даже человек умирать будет, и тогда врач не скажет ему об этом, а непременно станет утешать, подбадривать: крепись, мол, дружище, все идет хорошо.
– Вот ты и крепись, – оказал Головеня. – Черт не выдаст, свинья не съест.
Через два дня лейтенант пришел к Вано вместе с Наталкой. Девушка улыбалась и очень смешно рассказывала о том, как, увидев впервые Пруидзе (это было на хуторе), испугалась его. А почему, и сама до сих пор понять не может.
Огонек дружбы снова вспыхнул.
17
Головеня открыл дверь, собираясь выйти на прогулку, но, услышав голос диктора, читавшего сводку Совинформбюро, остановился. В сводке подводились итоги боев за неделю, сообщалось о провале коварных планов немецкого командования.
Подойдя к Тереку, фашисты намеревались форсировать его и, развивая наступление, нанести удар по столице Азербайджана – Баку. Бакинская нефть не давала им покоя. Не только промыслы, но и сам город были разбиты на секторы, которые распределялись между высокопоставленными немецкими генералами. Одним из претендентов на жирный кусок был командир 23-й танковой дивизии генерал фон Мокк.
Прибыв на Кавказский фронт из Франции, он развил бурную деятельность. Решив, что он, а никто иной, первым войдет в Баку, генерал не замедлил заверить в этом фюрера.
Шесть дней и ночей рыскала дивизия фон Мокка вдоль Терека, пытаясь найти слабое место в нашей обороне и переправиться через него.
Но пока генерал гонял дивизию туда-сюда, советские воины не дремали. Спохватился фон Мокк на седьмой день, а танков почти нет. Герои обороны Терека не только метко стреляли из орудий, но и ловко поджигали бронированные чудовища бутылками с горючим.
Так бесславно сгинула мокковская танковая дивизия.
С хорошим настроением вышел из палаты Головеня. Рядом, шурша галькой, плескалось море. Веселым, озорным казалось оно сегодня. И появилось желание – дотронуться, поговорить с ним. Опустился на корточки: «Ну, здравствуй!» – и не успел опомниться, как ощутил на себе соленую россыпь брызг. Вздрогнув, откинулся назад, но волна опять настигла его.
Отряхнувшись, лейтенант загляделся на море. Кажется, ничего особенного: вода, однообразие, а вот смотрел бы и смотрел, не отрываясь. Море! Кто не задумывался, стоя перед ним, не восхищался его могучей силой и переменчивой красотой!
Здоровье Головени почти восстановилось: еще немного – и выпишут из госпиталя. Хватит, повалялся: пора на фронт. Медленно шел берегом, вдыхая свежий морской воздух. Жалко, Наташа на работе, как хорошо бы побродить вместе с нею! О Наташе сокровенные мысли: любит ее, не может представить своей жизни без нее. Наташа придет к нему вечером. Но до вечера еще так долго. Хотелось увидеться сейчас, сию минуту. «А что если махнуть к ней? Вот удивится!.. Рискнуть, что ли? – спросил сам себя и тут же ответил: – Да, собственно, риска никакого. Разве что на обед опоздаю».
Повернув к скверу, Головеня увидел солдата. Тот стоял у изгороди, что-то рассматривая. В фигуре, в том, как он отставил ногу, упершись руками в бока, угадывалось что-то знакомое. А может, просто показалось? Лейтенант подошел ближе:
– Зубов? – удивился он.
– Здравия желаю, – как ни в чем не бывало козырнул тот.
Нелегко было Головене произнести слово «здравствуй», но произнес. Произнес так, как будто все, что было в Орлиных скалах, забыто и он ничего об этом знать не желает.
– Вы похудели, товарищ лейтенант.
– А вы поправились, – еле сдерживаясь, ответил Головеня.
– Радость у меня: полк нашелся!
– Да ну-у-у? – протянул офицер, зная, что тот врет. Но, боясь спугнуть предателя, продолжал: – Я, признаться, очень беспокоился, когда вы из Орлиных скал ушли. Куда, думаю, человек делся? В горах и затеряться нетрудно.
– Как узнал, что полк рядом – не пошел, а полетел, – говорил Зубов. – Хотел вам доложить, да как-то все… Ведь там, в полку, очень просто могли дезертиром засчитать. Командир у нас – ух какой! Нервы у него и все такое. Стоит задержаться – сразу трибунал. Он, командир, так и сказал. А вообще похвалил: молодец, говорит, Зубов, орел!
– Где же твой полк находится?
– Тут… вон там… – махнул рукою в неопределенном направлении Зубов. – Пополняется. Скоро на фронт…
Чувство гадливости охватило Головеню. «Негодяй, даже здесь продолжает выкручиваться», – подумал он.
– И все же можно было доложить, – опять заговорил лейтенант. – Двое суток искали вас, волновались. А вы…
– Виноват. Торопился я. Ведь полк на Марухском перевале был. Оттуда – на отдых. Боялся, не разминуться бы. А тут еще хлопцы – скорее, говорят…
– Какие хлопцы?
– Там, в горах. Двое из наших.
– Допустим, – согласился лейтенант. – Но зачем же было стрелять?.. Крупенкова ты ранил?!
– Крупенкова? Что вы, товарищ лейтенант. Он сам себя хотел искалечить. Крупенков знаете какой? Для него никакие уставы не писаны. Да что вам говорить, вы сами его в штрафную посылали. Не помогла и штрафная… А что самострелом хотел стать, это точно. Лично мне высказывал, – возьму, говорит, пальну в ладошку – и прощай, фронт! Я еще, помню, отругал его. Что ты, говорю, мелешь, дурак! Самострел – тот же предатель!.. – Зубов замолчал. Но вот спохватился. – Разрешите идти?
– Погоди, – холодно ответил Головеня.
– Могу опоздать. Боюсь просто…
– Не опоздаешь.
– Как же, товарищ лейтенант, полк вон где, а я здесь… К тринадцати ноль-ноль.
– Пойдете со мной.
– Куда?.. Если в комендатуру, то мне незачем. Я там был.
– Вы что, устава не знаете? – еще строже произнес офицер. – Выполняйте последнее приказание!
– Слушаюсь, – выпрямился Зубов. – Мне что, как хотите. На то солдат.
С минуту шли берегом, топча влажную гальку. У каменной лестницы лейтенант пропустил Зубова вперед. Тот занес ногу на ступеньку, обернулся:
– Куда вы меня?..
– Шагом марш! – вместо ответа приказал офицер.
Зубов пошел лениво, едва переставляя ноги; одна, вторая, третья ступеньки… Вдруг обернулся и с размаху ударил лейтенанта в грудь. Падая, Головеня ухватился за его гимнастерку, потянул за собой, и оба повалились на жесткую крупную гальку. Зубов полагал, что он легко справится с ослабевшим лейтенантом, но в первую же минуту понял – сделать это не так просто. Офицер оказался достаточно сильным и на редкость сноровистым. Застигнутый врасплох, не поддался, более того, сам перешел к нападению и так прижал его, что чуть было не задушил. Зубов понял: одно спасение – нож. Потянулся к карману. Но едва блеснуло лезвие, как тут же удар по руке…
Головене показалось – враг сломлен. Зубов обмяк, расслабил мышцы – делайте с ним, что хотите: сопротивление бессмысленно. Лейтенант начал вставать, но в этот миг получил новый удар и упал. Барахтаясь, они покатились к воде. Зубов попытался схватить оброненный нож, но лейтенант перевернул его, и оба свалились в море. Когда Головеня выплыл, Зубов был уже на берегу. Подобрав пилотку, пустился наутек вверх по лестнице.
Тяжело дыша и сжимая кулаки, лейтенант побежал следом, но понял – не угнаться, и только простонал, скрипя зубами.
18
Наталка устала и уже готова была прекратить поиски, как вдруг прочитала на углу дома название той самой улочки, которую долго не могла найти. Пошла, рассматривая номера. Вот и дом Вано, Остановилась у глинобитной, невзрачной на вид хаты. Крыша прогнила и местами обрушилась. Одно из окон наполовину забито фанерой. Дотянулась до стекла рукой – на стук никто не отозвался. Постучала еще: мертвая тишина. Дверь оказалась незапертой. Переступила порог и оказалась в небольшой комнате: стол, два венских стула. На стене плакат, призывающий помогать фронту.
– Добрый день! – громко произнесла девушка, полагая, что там, за перегородкой, «то-то есть.
Никто не откликнулся, не вышел к ней. Оставаться одной было неудобно: шагнула к двери и оказалась лицом к лицу с пожилой женщиной.
– Простите, зашла в дом, а там – никого, – улыбнулась Наталка. – Я от вашего сына…
Та недоумевающе посмотрела на белокурую девушку, пожала плечами:
– У меня нет сына.
– Вы разве не мать Вано?
– Соседка я, – заговорила она с грустью в голосе. – Ни матери, ни сынов, никого в этом доме не осталось. На днях похоронили старую… Как услышала, что Вано убит, – слегла, да так и не встала…
– Вано жив!
– Как – жив? Что ты, милая. Солдат приходил, все, как есть, сам видел… Погиб он.
– Вано ранен. Вот я и пришла…
– Как же так? Где же Вано?
– В госпитале. Скоро выздоровеет.
Женщина вытерла кончиком платка слезы:
– Не дождалась мать сыночка… Он же, солдат, который приходил, все как есть обсказывал. Вано будто на скалу влез, а там немцы. Убили его… А выходит, жив… – И опять о матери: – Видать, судьба у нее такая… Коли б не самолеты да не эта весть, может, еще пожила бы. Фашисты, они и тут покою не дают. Видала дом на углу? Никто не уцелел. Бомба прямо в крышу… Там и Лейла осталась…
В тот же вечер Наталка навестила Сергея. Умышленно не зашла в палату, вызвала его во двор, чтобы поговорить наедине.
– Как же теперь быть? – спрашивала Наталка. – Что же сказать Вано?
Думая о матери Пруидзе, она невольно вспомнила свою мать, умершую в начале войны. Вспомнила отца, брата, о которых давно ничего не слышала, и не смогла удержаться от слез. Сергей обнял ее за плечи.
– Вот что, – сказал он. – Вано чувствует себя неважно. Нельзя ему расстраиваться. Так что о матери – ни слова… Понимаешь?
Наталка кивнула головой.
– Ну вот и хорошо, – и стал приглаживать ее растрепанные волосы.
– Сережа, а солдат, приходивший к матери Вано, – это, наверное, Донцов?








