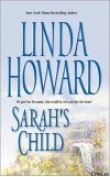Текст книги "Год веселых речек"
Автор книги: Александр Аборский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава семнадцатая
Так или иначе, дела у русского парня неплохи. Друзья детства наверное сейчас лобызаются на перроне, и у них там полный порядок. В сердце снова поднималась неприязнь к Ольге, и Таган опять с добрым чувством начинал думать об Айнабат. Конечно же, друг его детства – вот кто не стал бы играть и притворяться. Он, Таган, встретил сегодня ее в поле, когда ехал сюда. Поравнявшись с ней, остановил машину, девушка покраснела, подошла к нему и – самое забавное – стала подшучивать над его щегольством. Голос ее звенел как у чибиса, и, ясная, свежая, Айнабат выглядела столь неотразимо, что Таган, пожалуй, впервые так остро почувствовал очарование милой спутницы его детских лет. И в ту минуту он представил себе счастливца, кто назовет ее своей женой.
А теперь один, сидя в комнате брата и хватаясь за все, что могло бы унять боль, снова твердил себе: «Вот кто будет чудесной, верной подругой. Пусть не так образованна, как иные прочие, но умна, живо интересуется всем. А поступит в университет – и станет такой, что только держись!»
Приятно думать о ней, но ведь с Айнабат не может быть иных отношений, кроме тех, какие существовали в их семейном кругу. Не о ней, в сущности, мечтал бедняга, подавленный отчаянием. Сам того не подозревая, он смотрел на нее словно бы чужими глазами. Но чем более сосредоточивался он на мыслях об Айнабат, тем дальше отходила и не так уж мучила Ольга.
За этими размышлениями и застали его шумно ворвавшиеся в комнату Меред Мурадов и Лева Костромской.
– Ты здесь? Не удрал? А мы бежали!.. – Меред сорвал со стены полотенце, вытер вспотевшее лицо и обнял брата, шагнувшего к нему навстречу.
Младший был похож на старшего, но ниже ростом, отчего выглядел плотней и шире. Лев Григорьевич Костромской оказался рыжим остроносым мальчиком лет семнадцати (как выяснилось в дальнейшем, ему было за двадцать). Синеглазый и подвижный, Костромской чем-то привлекал к себе, с Мередом они беззаветно дружили.
– Наконец-то! – продолжал радоваться Меред. – У Завьялова был?
– Угу. Он поможет…
– «Поможет», а чего невеселый сидишь? И даже чая нет на столе!
– Уж эта наша хозяюшка! – вставил Костромской. – Ее надо обнять да сломать два ребра, тогда она догадается, что к ней неравнодушны. Впрочем, для столичных товарищей мы кое-что кроме чая заготовили.
– А «столичная» есть? – спросил Таган. Младший пристально посмотрел на брата: с ним что-то неладное.
– «Столичной» нет. Есть вот… – Меред вытащил из холодильника бутылку ереванского коньяку с козерогом на этикетке. – Устраивает?
– Вполне.
– А хочешь – тербаш, шампанское по-лу-су-хое… – проскандировал Меред, вынимая, как фокусник, из холодильника бутылку за бутылкой и ставя их на стол, под торжествующим взглядом своего помощника.
– Пьяницы горькие, да вы с ума сошли? – напустился Таган на железнодорожников.
– Виноват! Прошу без паники, товарищ начальник! – сказал Костромской и стал откупоривать бутылки. Он в самом деле был еще очень молод.
Брат вышел из комнаты. Может быть, впервые в жизни Тагану действительно хотелось захмелеть, забыться и рассказать этим ребятам о своей «вдребезги разбитой» любви.
– Слушай, может, есть желание пригласить кого-нибудь? – спросил брат, входя со скатертью в руках. – Не стесняйся, такси за углом.
– У меня никого нет, – сурово взглянув на брата, ответил Таган. – И не стели скатерть: по-холостяцки так по-холостяцки, к чему лоск наводить.
– Верно, ну ее. Подумаешь, ханы-паны! – Костромской кинул скатерть на диван. Закуски задержались в соседней комнате, и Лева взялся развлекать Тагана. Поинтересовался для начала:
– Чем, собственно, вы заняты? Мередка толковал мне, да я ни бельмеса не понял. Божий мир, что ли, перекраиваете? Как выглядит эта портняжная работа?
– Ох, избавьте. Не охота об этом. Давайте без… перекройки мира и без тепловозов!
– Ви-но-ват! – точно дирижер, взмахнул руками Лева, и руки у него оказались совсем незагорелыми, тонкими и веснушчатыми. – Обыкновенных тепловозов не надо – согласен, но таким зверем, как у нас с Мередкой, пренебречь не имеете права. Сейчас нас вызывали, думаете – зачем? Специальное задание. На Мургабской ветке затор. В принципе заторы, пробки на транспорте – варварство, давно отошедшее в область предания. Но на Мургабской, к вашему сведению, плывуны…
– Слышал… Как раз это по моей части. И вы, значит, туда, на Мургабскую? Ясно. А не слыхали, случайно, как вчера «Торпедо» с Киевом сыграли? – еще пытался уклониться от производственных вопросов Таган.
– Слава аллаху, киевляне: два ноль.
– Костромской, а болеет за киевлян. Надо бы за кого поближе, за ярославцев, например, – неловко пошутил Таган.
– В Киеве, если не ошибаюсь, в полузащите играет мой троюродный брат по матери, – сказал Лева многозначительно.
– Тогда другое дело. Тогда я вполне солидарен с вами. А сам я за армейцев.
– Любопытно, почему?
– По той же причине. В армии у меня полно троюродных братьев. Родню всегда не мешает поддерживать.
Их спросили из-за двери: будут ли ждать шашлык, или начнут с одним горячим блюдом? Не долго думая, решили ограничиться одним; но пока в соседней комнате ссыпали на блюдо гору плова, Костромской добился-таки своего – втянул инженера в дискуссию. Юноша, видимо, чуточку даже подготовился к ней. Выбрав момент, он заявил, как-то картинно насупясь:
– Все равно, Таган Мурадович, скучное дело у вас. Особенно для молодых да в наш век. Вода и вода. Растительность, вегетарианство.
– Но воду же добыли кровью, – не удержался Таган.
– Либо воровали… – подхватил Костромской. – Тогда-то хоть жили веселей. Шумные базары, чайханы, умыкание невест, звон караванных колокольцев… Я читал. А нынче – агрегат, кнопочки нажимай, и шабаш. Ни ловкости, ни отваги не требуется. Честное слово, так скоро и люди нудными агрегатами станут. Тоска!
– Гм… страшно интересно. Особенно вшивые чайханы, верблюды на веревке… Сон в летнюю ночь! Но я бы все-таки осмелился посоветовать вам, Левочка, не только поверхностной беллетристикой голову забивать, а вникнуть кое во что поглубже. – Тагана немного сердило легкомыслие мальчишки, хотя он и дурит-то, скорее всего, из чистого пижонства.
Показался Меред с тарелками в руках, Лева подмигнул ему: ведем, дескать, свою линию и не сдаемся.
– Вот, мой ага [10]10
Ага – старший.
[Закрыть], этот рыжий басмач на меня вильяет, – сказал Меред, нетвердо произнося русское слово. И Таган прицепился к слову, дважды вслух повторил «виляет», нарочно облегчая произношение. И вышло совсем нелепо. Он сам, впрочем, тотчас пожалел о нечестном приеме и далее старался исправить свой промах.
– Послушайте! – минуту спустя требовал он внимания Левы. – Положа руку на сердце, вы согласитесь со мной: в драках из-за воды очень мало романтики. И вы, Лева, только так, из озорства, этим восторгаетесь. А технику хулить – нам-то с вами! – непозволительно. Ординарный цинизм. Да такие, как вы и я, молодчики при нынешней технике легко могли бы вызвать у старых романтиков самую черную зависть.
– Ай спасибо! – вскричал Лева, протягивая своему оппоненту руку. Конечно, он был совсем мальчишка, и Таган охотно прощал его, но, между прочим, признался:
– Я тебе, друг Лева, чуть по шее не дал, так ты безбожно задираешься.
– Люблю задеть человека!
– Ну-ну. В другой раз осторожней. А в общем, дорогие товарищи, жизнь превосходна! – сказал Таган и совсем не в лад словам, горестно покачал головой. Тогда Лева, по-прежнему верный своему намерению – развлекать гостя, принялся болтать о девчатах.
У него оказался солидный донжуанский список, и он не преминул выдать несколько коротких хлестких историй. Все головокружительные успехи относятся к прошлому, пояснил Лева, а сейчас это надоело до смерти. Он умолк на минутку, и Таган невольно припомнил свои несложные похождения, грехи собственной юности. Ему-то и хвастаться, по существу, нечем. Два-три ранних увлечения, какие иссякают с наступлением летних каникул или с окончанием зимних, да позднее – связи с женщинами, тоже редкие и тоже мимолетные, кроме одной, ашхабадской, когда студент Таган Мурадов близко сошелся с лаборанткой института, у которой был ребенок. Пылкая дружба от весны до осени, потом – охлаждение и разрыв. От былого увлечения не осталось и следа. Но оно едва не завершилось загсом, так как студент почитал за бесчестье отказаться от слова, данного сгоряча. К счастью, лаборантка сама уклонилась от формальностей: то ли одумалась, то ли утешилась с другим… Расскажи сейчас Таган историю с лаборанткой, Левка наверняка высмеял бы его чрезмерную щепетильность. И он, Левка, явно хотел посвятить Тагана еще во что-то, но им помешали.
Квартирная хозяйка – туркменка со строгим неподвижным лицом – внесла на блюде плов. Меред принялся разливать коньяк, заигравший в посуде темным золотом. Молодые люди чокнулись. Таган, отхлебнув, задохся, поспешно стал закусывать, а железнодорожники глядели на него с укоризной. Лева безмятежно отдувался, щелкая языком, и говорил:
– А недурен напиток, право недурен!
Выпили еще – за присутствующих. У Татана голова затуманилась; захмелели и железнодорожники, но всячески старались показать, что коньяк для них все равно что газировка.
– Да, Завьялов мне здорово помог, теперь уж ни один дьявол не удержит: осенью в институт, – похвалился Меред. – А сам он только что уехал. Идем сейчас с Левой по перрону, там провожают его…
– Девушки с цветами? – усмехнулся Таган.
– Нет, мелкое начальство. Девушек не видел. («Значит, умчалась в экспедицию с утра», – подумал Таган.) Ох и глаз у канальи, прожектор, а не глаз! – как нарочно продолжал Меред о Завьялове. – Вчера нагрянул в депо и высмотрел как раз то, что хотели скрыть. Вот это я понимаю.
– Нда, ничего не скажешь, – с мрачной задумчивостью заключил Таган. – Вам-то еще полбеды. Нагрянул и уехал. А в мою жизнь, если хотите знать, Завьялов влез как бревно.
– А какой помехой вам он может быть? – удивился Лева. – Вы же в разных ведомствах.
– В разных, в разных. Нальем-ка еще, братцы! – нетерпеливо предложил Таган.
– Салют! Поддерживаю всей душой, только… ох, знаете, у меня время истекло, – встрепенулся неожиданно Лева и, уже стоя, одним духом опустошил свою посудину.
– Так неотложно? – спросил Таган.
– Да, почти смертельно. Мередка знает. Пора, пора кончать крутить им головы. Сегодня – ответственный момент. Не приведи бог!
– Ну, желаю удачной кражи, – напутствовал Таган Леву.
И вот братья сидели вдвоем, и старший делился своим горем, со всеми подробностями рассказывал про Ольгу. Как увидел ее в Москве и «попал в плен», а потом встретил здесь; как вчера прискакал сюда и узнал, что она ушла к жениху… к Сене Завьялову.
– Постой, – перебил его Меред. – А может, только так… Может, он и не жених?
– Молчи! Все взвешено. Ольга ждала своего Сеню! Радовалась, когда получила письмо от него. Я сам видел – синий конверт… Они же вместе росли.
– Ну, велика важность! – не сдавался Меред. – И пусть себе растут, только – в разные стороны. Знаешь, отшей ты его к чертовой бабушке!
– Ва-аллах! Рассуждаешь, как этот твой помощник, теленок несмышленый. Все у вас проще простого. Пойми, если бы она любила меня, а то ведь его. Дело-то не в нем, а в ней!
– Ха… а на вокзал вон не идет провожать.
– В пески уехала. Работа у нее.
– Любит, так нашла бы выход. Люди жизни не жалеют… Разве это любовь!
– А ты не утешай меня, – негромко сказал Таган. – Я ведь не баба, которой можно зубы заговорить. И не для того разоткровенничался, чтобы ты пожалел. Вот ума не приложу, как всю эту канитель отбросить. Больше мне ничего не надо. Когда-нибудь найду и я свое счастье.
– Не ясно, – пожал плечами Меред. – Или ты не любишь ее, или ты не мужчина. Да будь у моей Айнабат десяток женихов, я всем бы глотки перегрыз. Ведь она же только одна на свете, другой нет! Как же я с ней расстанусь? – Произнеся свою грозную тираду, Меред побагровел и ударил кулаком по столу, а Таган от его признания сразу отрезвел и пристально посмотрел на брата.
– Ты любишь Айнабат?
– А ты удивляешься?
– И она тебя?
– Могу сказать: да. Любит! – с неотразимой уверенностью ответил Меред.
– Ну так выпьем за твое счастье! – Таган жадно глотнул, отклонился от стола и вдруг засмеялся, поражая брата странной своей непоследовательностью. – Бывает… Она так хитра на выдумки, жизнь!
Мереду показалось сперва, что это вино действует на брата; потом он заподозрил, что брат смеется над его признанием. Справившись наконец, со своей расслабленностью, Таган объяснил:
– Да я не над тобой, над собой смеюсь. – И пообещал рассказать Мереду все в день его свадьбы. Так и быть, уж повеселит их с Айнабат.
– Нет, сейчас! – настаивал Меред. – А то буду гадать, голову ломать.
И Таган, не щадя себя, рассказал, как он, окончательно разуверившись в Ольге, стал подумывать об Айнабат. Между прочим, девушка очень и очень симпатична ему, но, разумеется, даже мало-мальски серьезного разговора у них не было. Именно вчера и сегодня, «назло всему миру и в первую очередь, конечно, Ольге», культивировал он мысль о своих «кровных туркменках». Он признался во всем с такой чистосердечностью и с таким юмором, что теперь от души захохотал Меред.
– Ишь ты, подбирался! – Он шутя замахнулся на брата расписной деревянной ложкой.
– Да, хотел поймать двух туртушек. Не успел шапку снять, а они уж у кого-то за пазухой. Одно утешение: «Бедный молодец честью богат». Ни тебе, ни Завьялову я ножки не подставлю. Хоть убейте, совесть чиста перед вами.
– О, добрейший мусульманин! – поддразнил еще Меред. – Со мной и правда тягаться не стоит, а его-то на твоем месте я сковырнул бы.
Таган не отвечал и вдруг засобирался ехать; но, в сущности, спешить ему было некуда, и шашлык, оказалось, давно поспел.
Лишь часа через полтора они вышли на улицу. Солнце село. Дома и деревья окутывались сизым сумраком.
Неторопливо шагали братья по старому тротуару. Меред острил, рассказывал забавное про Левку и про себя самого. Таган слушал и чувствовал, что медленно обретает прежнее равновесие.
Повернули за угол, на многолюдную улицу, залитую светом, и Таган увидел Каратаева. В темном костюме, в шляпе, он чинно шествовал с супругой. Хотелось уклониться от встречи, – может быть, Каратаев и не заметил его; но нет, заметил и, приветственно потрясая рукой, крикнул:
– Здравствуй, Таган-джан! А я только что от Скобелева. С ним условились на вторник. И – пока не забыл: Лугина просила передать большой-большой привет! – Он проплыл дальше, торопясь к началу сеанса в кино.
– Ничего не понимаю! – Таган вспыхнул как красная девица и остановился. – Или весь мир рехнулся, или же я спятил и нет мне места в этом прекрасном мире…
– Бестолковый ты парень. Видишь, я говорил – ни черта она его не любит! Может, вернемся, выпьем за твое счастье? – тормошил его Меред.
Глава восемнадцатая
Каратаев проснулся в отменном настроении, накинул халат и выглянул на веранду, где жена готовила завтрак.
Обычно он бродил с полчаса по дорожкам, дыша утренним воздухом и любуясь тем, как разрастается виноградник, провожал в школу сына и дочь, а потом уже завтракал. Сейчас Каратаев быстро переоделся, съел яичницу, взял портфель и пошел в водхоз.
Вчерашняя поездка взбодрила его, Каратаев чувствовал прилив сил и был полон самых благих намерений. Первым долгом разогнать канцелярскую скуку и добиться, чтоб все работали с душой. Ведь стыдно же. Болтаем «мы призваны» – и тонем в бумажках. Вот без промедления собрать бы сотрудников и сказать: шесть лет уже как хлынула к нам Аму-Дарья, а мы все еще раскачиваемся… Впрочем, надо сначала с Иванютой и парторгом, а в конце дня собрать…
С улицы он увидел в окно: служащие почему-то толпились у стола, за которым сидел бухгалтер и читал вслух газету. Уж не нота ли какая?
Но когда он вошел в прокуренную комбату, все оказались на своих местах и делали вид, что усердно занимаются работой. Сидят как сычи… Чего-то испугались, даже Иванюта… Странно! И уборщица, вытиравшая пыль в кабинете, с испугом шмыгнула за дверь. Это совсем уж удивило: Каратаев никогда не был таким начальником, при виде которого у подчиненных вытягиваются лица и появляется желание улизнуть. Наоборот, отношения с подчиненными у него самые товарищеские.
Он сел в кресло и взял лежавшую на столе пачку свежих газет. Развернул «Правду» – ни ноты, ни постановления правительства, ни забористого фельетона. И в «Туркменской искре» ничего особенного. В местной газете попалась на глаза статья, подписанная «Т. Мурадов». Выше подписи, в тексте мелькнуло «Каратаев», и он прочитал: «К сожалению, таким энергичным руководителям, как Аннадурды Мергенов, водхоз плохой помощник. А Каратаев, который еще недавно, и вполне справедливо, считался лучшим специалистом, не понимает всей сложности проблем современного орошения, отстает от жизни…» Кровь бросилась в голову, перехватило дыхание, и он не мог уже читать, отшвырнул газету.
«Какой негодяй! Да как он смеет меня позорить? Разве я могу оставаться тут? Уже наверное весь город гогочет. И детей в школе высмеивают: „Отец-то ваш! Отстает!“ Ну и скотина… И редактор этот, Кутлыев, беспринципная тварь! Сам же дифирамбы мне пел; жена говорит, вчера звонил, и вдруг – на тебе, в грязь втаптывает».
Ярость у Каратаева смешалась с обидой, горькой до слез. О нем часто писали в газетах, особенно в прошлые годы, писали с похвалой, и только сегодня впервые хлестнули, несправедливо и нагло. Он схватил блокнот, вырвал лист и одним духом написал заявление. Пусть немедля освободят его от занимаемой должности. К чертям! Управляйте сами как хотите, а он уедет в родное село, станет простым мирабом…
С пачкой бумаг вошла секретарша. Каратаев посмотрел на нее как на лютого врага и сухо спросил:
– Ашир здесь?
– Да, во дворе.
– Скажите, чтоб подал машину. А бумажки, пожалуйста, все отдайте Иванюте.
– Есть срочные. Он велел вам передать.
– Ничего. Верните ему. И скажите Аширу.
Секретарша вздохнула и вышла. Каратаев дрожащими руками вчетверо сложил листок, сунул в боковой карман, в другой карман втиснул газету с пасквилем; не глядя ни на кого, проследовал к выходу и, не сдержавшись, даже хлопнул дверью.
Тотчас же из ворот выехал Ашир. Каратаев сел в машину и поехал в райком. Всю дорогу сидел рядом с шофером неподвижно, как истукан, и не глядел наружу. Казалось, все прохожие говорят только о нем, смеются над ним, и он чувствовал к ним жгучую ненависть.
Взбежал по лестнице на второй этаж и направился к Назарову со страхом: а ну как тот занят и придется ждать в приемной, среди народа, которого вовсе не хотелось видеть. Но Каратаеву повезло. В приемной одна Гульнар, примостившись у окна, печатала на машинке.
– Хозяин у себя? – Обычно он был ласков с Гульнар, а сегодня и поздороваться забыл. Его впустили без задержки. Назаров что-то писал, склонившись над столом. Подняв голову, спокойно сказал:
– Здравствуй. Защелкни там дверь и садись, а я сейчас, чтоб мысль не потерять… – Он дописал, взглянул на Каратаева, и чуть заметная усмешка пробежала по лицу. – Ну ты, конечно, готов растерзать Мурадова, ученика своего, врага своего? Напрасно! Уверяю: ученик с радостью похвалил бы учителя, да не за что хвалить, вот беда. Я разделяю его мысли. Целиком. Понимаешь: я, старый твой друг! Уж в моей-то дружбе, надеюсь, не сомневаешься? Или тоже усомнился и меня готов записать во враги?
Говорилось все это горячо, Назаров не обдумывал своих слов, хотя, как всегда, знал вполне, что сам он хочет. Но и для него дело складывалось непроста: не обычный дежурный вопрос решался у них. А Каратаев с трудом терпел эту райкомовскую амортизацию и задыхался от бешенства. Не дослушав, выхватил на кармана заявление, развернул и кинул на стекло перед Назаровым. Тот лишь слегка шевельнул бровями и, не глядя, отодвинул бумажку в сторону.
– Брось канцелярщину, Акмурад. Неужели ока еще не опостылела тебе? Скажи так. В отставку хочешь? Ну вот, ты только дверь открыл, а я уже знал, чем ты дышишь. Герой, а чуть погладили против шерсти, сразу – в отставку. Понятно, в пастухи, в мирабы, в сторожа – жить помаленьку да печенку себе выедать. Милый мой, ты старый член партии, и тебе излишне объяснять, как это называется. Сейчас ты видишь в этом геройство. Очухайся, оглянись, парень, куда ты заехал, куда тянет тебя твое самолюбие? Уверен, что и статьи толком-то не прочитал. Вспыхнул и бросил все…
– Хватит, начитался, – задыхаясь и дрожа, но с достоинством сказал Каратаев.
– Конечно, задело: твое имя склоняется. А какие там подняты вопросы и как освещены – на это наплевать. Самолюбие превыше всего. Теперь я вижу – плохая статья. Не так следовало написать. – Назаров оттолкнул кресло и, поднявшись, заходил по кабинету. Каратаев хотел встать и уйти, но сообразил, что это было бы уже совсем мальчишеством. – Да ты вспомни, когда мы дрались за эту воду и землю, вспомни, как честил и тебя и меня командир за малейшую оплошность. В лицо пистолетом тыкали, ругали последними словами при всем народе. Разве мы складывали оружие и уходили? Злее дрались! Не о своем самолюбии думали – о том, что поважнее. А теперь ты вроде как вышел из строя и занялся собой. Вини себя, не ученика. Он не глумится над своим учителем. Он хочет силенок тебе прибавить, помочь выбраться из болота. Мурадов друг тебе, ручаюсь.
– Свинья, а не друг! А тебя такие молодчики пылью академической с ног до головы обволокут – и ты рад в адвокаты к ним записаться! – крикнул Каратаев. – Ведь вот ты же говоришь мне в глаза… И Мурадов мог бы сказать, а не позорить на всю республику. В глаза величает меня учителем, а в газету тайком на меня строчит…
– Нет, он не таил ничего, мне известно: как приехал, тогда же намекал тебе, что водхоз хлопает ушами. А людей на селе интересует практически все. И дренаж, и новейшие способы поливов, и использование техники… Одной прибавкой воды мы урожайность не поднимем. Ты сам не раз мог убедиться в этом, но опять не торопишься за ум взяться. Вот и приходится застарелую болезнь лечить сильными средствами.
– Отсекать ножом загнившие члены? – криво усмехнулся Каратаев. – Так вот, я и хочу собственноручно…
– Да не кокетничай ты, Акмурад, как перезрелая дева! Положение серьезней, чем ты думаешь, – сказал Назаров с гневом и сел за стол. – Ведь ты сейчас тешишься мыслью: «Не ценят – не надо! Уйду. Как еще обойдетесь без Каратаева». А я тебя прямо спрошу: без какого? Без того, который, когда надо было, влезал в ледяную воду и про которого по селам сказки рассказывали? Да, без того не обойтись. А без того, о ком говорят: «Он уже не работает, а служит»; кто на все смотрит с благодушием постороннего, – без такого Каратаева обойдемся. Помни: решается твоя судьба. Народ-то обойдется, а вот мы с тобой обойдемся ли без него?
– А как оставаться, Мухаммед? – помолчав, с тоской промолвил Каратаев. – Не видишь, что ли: мне теперь носа в колхозы нельзя показать.
– Конечно, – согласился Назаров, и опять чуть заметная усмешка тронула его губы. Если ты считаешь себя правым и оклеветанным. А стряхнешь с себя «постороннего», станешь думать не о себе, а о том, как двинуть вперед большое дело – найдется и мужество смотреть в глаза. Я на твоем месте сразу собрал бы людей своей конторы и со всей решительностью вскрыл бы ошибки. Без трескотни и без покаяния, а по-деловому: вот то-то плохо у нас и вот почему, а надо вот так!.. А потом дал бы стенограмму в газете, как ответ Мурадову, опять-таки без полемических вывертов, и тем самым показал бы, как надо трезво смотреть на вещи. Я, Акмурад, называю мужеством это, а не бегство в сторожа.
Дверь в кабинет приоткрыла Гульнар и сказала:
– Возьмите трубку. Из ЦК. И в приемной много собралось, ждут.
Каратаев посидел еще минутку и встал. Назаров кивнул на заявление, лежавшее на столе. Каратаев как-то безнадежно отмахнулся и вышел из кабинета.
Продолжая разговор по телефону, Назаров машинально смял заявление и бросил опять на стол.