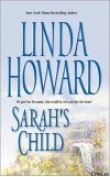Текст книги "Год веселых речек"
Автор книги: Александр Аборский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
И разве не унизительно ждать помощи от человека, который одержал победу над тобой, отнял у тебя самое заветное?. Нет, обойдемся без Завьяловых!»
За чертой города он отпустил поводья, дал полную волю лошади и погрузился в задумчивость. Опять ворошил в памяти встречи, разговоры с Ольгой и уже находил подтверждение тому, что она, хотя и играла с ним «как с котенком», но душой всегда тянулась к «другу детства». С Завьяловым связана лучшая полоса ее жизни. Зародившись в самую нежную пору, отношения их крепли год от года, А Таган случайный человек, на него Ольга и внимание-то обратила лишь дважды – в том почти сказочном снежном царстве под Москвой да здесь, на Серебряном холме. И многозначительная недосказанность сокровенных мыслей, вся эта полная счастливых надежд таинственность отношений, которая будоражила Тагана, – пустое самообольщение.
Впереди в сумрачной степи вспыхнули фары машины. Когда он поравнялся с ней, машина остановилась. Щелкнула дверца, и послышался веселый голос Назарова:
– Кто при звездах и при луне так поздно скачет на коне? Ого, я угадал – Таган Мурадович. Откуда? А я думал, вы все еще у Мергенова. Ну как там? – Назаров вынул из кармана портсигар, открыл и протянул Тагану. – Вы ведь курите, кажется?
Таган вяло принялся что-то рассказывать о колхозе, о Мергенове, и Назаров тотчас понял неуместность делового разговора.
– Да погодите, в самом деле, погодите-ка! – затрубил он, перебивая. – А ночь-то, звезды, торжественность! И настраивает на великое, чистое… – Он запнулся, не зная, что еще добавить, и неожиданно стал прощаться. – Ну, желаю успеха. Заезжайте. Иногда, знаете, в дом ко мне бы вам забежать, помечтали бы за стаканом вина…
Непредвиденная встреча на дороге встряхнула Тагана. Словно хмель с него слетел, и он уже трезво размышлял о своей неудаче. Сама неудача больше не заслоняла всего мира. «Завтра все-таки съезжу к Завьялову, – сумел переломить себя Таган. – Пусть они там жених и невеста, какое мне дело! Посмотрим на этого нера [9]9
Нер – порода верблюдов.
[Закрыть]: правда ли, что любой груз ему нипочем?»
Он бодрился, но, кажется, ни разу в жизни еще не было так обидно и тоскливо.
Глава тринадцатая
Около полуночи Ольга вернулась, зажгла лампу на столе и распахнула окно. Ложиться в постель и спать! На заре за ней заедет Каратаев. Она встретила его вечером, идя к Завьялову в гостиницу, тогда и сговорились ехать вместе.
Свидание в гостинице так взволновало ее, что сон не шел. Хотелось с кем-нибудь поделиться мыслями, но с кем? В доме одна сторожиха. Она душевная, добрая, все поняла бы, Ольга любит с ней разговаривать, но старушка крепко спит за стеной, – не будить же. Ольга откинула одеяло, села и задумалась, уронив руки на колени и глядя на звезды, мерцавшие над черным садом.
Голова и сейчас полна Завьяловым. Странно, прямо-таки с трудом верится! Высокий, сановитой внешности железнодорожник в белом кителе, пахнущий табаком и одеколоном человек, с которым она только что простилась у ворот, – это и есть Сеня Завьялов, тот самый, с кем она когда-то каждое лето проводила в Карайболе.
Карайбол – область ее детства: железнодорожная станция с поселком и речкой в тайге.
Зимой в те годы Лугины жили в Томске, Иван Никитич читал в университете, а Ольга училась в школе. Было ей тринадцать лет, когда впервые приехали на лето в Карайбол, и поселились в сосновом лесу, с густым духом смолы, с клубникой вокруг трухлявых пней и множеством маслят, выглядывавших из-под светло-коричневой хвои. Славно в Карайболе, и друзья есть – дети дорожного мастера, Сеня и Тоня. Ловили рыбу, купались, ходили за ягодами и к пещерам, где будто бы обитали разбойники.
Тоня была бесцветной девочкой, а ее брат, босой, в заштопанных штанах и вылинявшей рубашке, сразу же пленил городскую девчонку удалью, ловкостью и изобретательностью, Сеня придумывал забавные игры, рискованные путешествия по глухим местам, рассказывал у костра на речке страшные истории про беглых каторжников и то с увлечением строил у себя в сарае модели сверхмощных паровозов, то забирался на сеновал и читал Марка Твена. Он почти всегда был в движении, только приходя к Лугиным на дачу, вдруг деревенел, опускал голову и улыбался, когда заговаривали с ним. Профессорство Ивана Никитича казалось ему явлением исключительным, он смотрел на хозяина дачи как на бога, сошедшего с неба, и конфузился своей собственной ничтожности.
В их доме он с Ольгой держался скованно, как будто видел на ней отсвет необычайной личности ее отца. Сеня сумел пленить не только Ольгу, но и ее мать, и особенно Ивана Никитича, который сразу же заметил в мастеровом сынишке исконную русскую пытливость и ждал от него чего-то значительного.
– Этот дичок еще покажет себя!.. – говорил Иван Никитич. Он дарил мальчишке книги и беседовал с ним на серьезные темы. Сеня «приручился», стал в доме Лугиных своим.
Уже на другой год в Карайболе на ивах у речки появились сердца, пронзенные стрелами, вензеля «О» и «С» – первые знаки первой любви. Любовь с каждым летом разрасталась. На лоне таежной карайбольской природы Ольга пережила тогда такое обилие романтических чувств во всей их первоначальной свежести, что долгие годы потом вспоминала о Карайболе как о чем-то неповторимо прекрасном.
Ольге исполнилось семнадцать, когда Иван Никитич перевелся в Московский университет, и ей пришлось расстаться с Карайболом и с «нареченным» своим, к тому времени уже студентом транспортного института. Она уезжала с растерзанным сердцем, но все-таки с уверенностью, что Сеня – это судьба. Через четыре года, считалось тогда у них, соединятся они на веки вечные.
Они встретились, когда «нареченный» окончил институт, стал служить на Среднеазиатской дороге и приехал в Москву в командировку. Он возмужал, держался по-прежнему скромно, но уверенно и сохранил прежние чувства к Ольге. Ольга и ее мать, Анна Васильевна, были от него в полном восторге, Иван Никитич также встретил «старого карайбольского дружка» чрезвычайно радушно, за чаем расспрашивал о работе, о планах на будущее. Арсений отвечал дельно и с какой-то особой ясностью человека все познавшего. Ольга слушала его с интересом.
Потом, как обычно, пошли воспоминания о Сибири, о преимуществах таежного климата, и тут самыми разговорчивыми оказались Ольга и Анна Васильевна. Сеня тоже оживился, а Иван Никитич, не любивший «сентиментальных оглядок», молча курил да изредка поглядывал на Сеню, как бы изучая. А когда он ушел и Ольга с матерью стали взахлеб хвалить его высокий рост, ум и скромность, Иван Никитич искоса посмотрел сперва на жену, потом на дочь и замотал головой.
– Не то, не то… Ну разве думал я, что мастеров сынишка станет таким!
– Каким «таким»? – возмутилась Анна Васильевна. – Уж ты, известно, всегда высмотришь чего и нет.
Ольга горячо защищала Арсения от нелепой, как ей казалось, придирчивости отца. Иван Никитич слушал, помалкивал, только усмехался.
Завьялов пробыл в Москве всего неделю, встречались они с Ольгой вечерами. И московские вечера были почти такими же волнующими, как когда-то в Карайболе.
Она вспомнила все это теперь, глядя на звезды. И ей захотелось излить душу суровому отцу своему. Ольга пересела к столу, взяла лист бумаги, вечное перо и стала быстро писать:
«…Только что возвратилась из гостиницы, от Арсения Ильича Завьялова. Назвать его попросту Сеней невозможно – язык не поворачивается. „Мастеров сынишка“ такой стал важный – впору настоящему барину, если бы он, Сенька, не был путейским чиновником. Он приехал сюда вгонять в жар и трепет местных железнодорожников и завтра уезжает. Остановился в роскошном номере с великолепными текинскими коврами, специально оборудованном здешними подхалимами только для высокого начальства.
Когда я вошла под сладчайшие звуки Моцарта, Арсений Ильич поспешил мне навстречу, но уже не с юношеским самозабвением и легкостью, а с сознанием собственного достоинства и с такой солидной осанкой, что я не рискнула упасть в его объятия. Ради бога, папа, прости мне такую откровенность. Слишком мало в мире людей, с которыми я могу быть до конца откровенной, а замыкаться в себе ты не научил меня. Потому не суди строго, папочка. Да, я боялась смять его белоснежный китель, хотя соблазн был велик. Кстати, твой карайбольский дружок похорошел: веснушек почти не осталось, утонули, должно быть, в бронзовом загаре.
Мы все-таки обрадовались друг другу, сели на диван и застрекотали как сороки. Долго не виделись! Расспрашивал о тебе, о маме, о моих каракумских скитаниях и все удивлялся, как это я сама, по доброй воле, могла променять Москву на пустыню, да притом очень довольна своей работой и жизнью. Мой наивный идеализм ему непонятен. Вот если бы я приехала сюда для разбега, для прыжка в высшие сферы, это Арсений Ильич понял бы и назвал бы меня умницей. Сам только и мечтает о Москве со всеми ее благами – видимо, и добьется своего. Судя по тому как быстро у него идет продвижение по службе, он неплохой специалист. Рассказывает о своих успехах, а мне становится грустно. Вспоминаю, как ты когда-то сказал про него: „Не то, не то!..“ – а я бесилась и не понимала, чем Сеня мог тебе не понравиться. Ведь он не обманул ожиданий. Дичок из сибирской глуши, из простой рабочей семьи – стал инженером, образованным человеком, держался скромно, с достоинством… Казалось, чего еще! Правда, я и сама тогда была чуточку им недовольна. С великим усердием занимался мой „нареченный“ своими служебными делами, а мне, как чему-то второстепенному, уделял одни вечера. Опять прости меня, родной, – но ему и тогда не хватало безрассудства. Хотя я и понимала, что нельзя пренебрегать делами ради личного, а все-таки чувствовала в сердце холодок разочарования и обиды. Словом, я тоже почувствовала в нем что-то „не то“, но по-своему, по-бабьи. А сегодня слушала его, и это „не то“, как облачко, разрасталось в темную тучу и закрывало мое карайбольское солнце. Я видела перед собой не прежнего Сеню, своего „суженого“, как говорили сибирские казачки, мамины знакомые, а совсем чужого мне человека.
Нет, это не Сергей Романович Скобелев (я о нем писала – о нашем начальнике экспедиции), который всю жизнь кочует по диким пустыням, чтоб вывести их из мертвого оцепенения. Вот в таких старых рыцарях есть то самое „безрассудство“, тот юношеский жар, которого нет в молодом Арсении Ильиче и которого он даже не понимает.
Впрочем, Арсений Ильич тоже не совсем лишен рыцарства.
Когда-то, перед нашим отъездом из Карайбола в Москву, он клялся мне в верности до гроба. Конечно, и я клялась. Дело прошлое, могу признаться, да и вы отлично знали все, по крайней мере догадывались. Потом, два года назад, он писал мне, что карайбольскую клятву считает для себя священной и женится на другой только в том случае, если я окажусь вероломной. Сегодня, представь, опять заговорил о своих чувствах, и опять-таки не как прежний Сеня, робея и волнуясь, а как Арсений Ильич, хладнокровно и даже немного в шутливом тоне. Засвидетельствовал, что все еще верен слову, хотя не раз подвергался соблазну сделаться клятвопреступником. Особенно в прошлом году осенью, когда отдыхал в Сочи. Как бы в подтверждение своей рыцарской стойкости он показал мне фотографию, на которой снят на берегу моря с прелестной девушкой в очень милом платье и с теннисной ракеткой в руке. Лицо как у счастливого ребенка, улыбка очаровательная. „Кто это?“ – спросила я. – „Дочь такого-то“… Он назвал самую простую фамилию, не то Усков, не то Носков, но с такой многозначительностью, как будто это Лев Толстой, которого должен знать весь мир. А это, оказывается, всего-навсего начальник некоего управления по строительству железных дорог. „И ты не потерял голову, не задохнулся от счастья при виде такой девушки?“ – обрушилась я на него. Он смеялся, и, может быть, от души. – „Потерял бы, конечно, если бы не было тебя“, – „Но меня уже нет“, – сказала я в порыве раздражения и разом, сама не знаю зачем, выложила все, что было у меня на сердце. Сказала, что он не герой моего романа, и я уже не чувствую того, что было.
Он не ожидал такого поворота, весь передернулся, закурил и заходил по комнате. „Признание“ мое задело его, но, пожалуй, только самую поверхность души. Он скоро успокоился и, по-моему, даже повеселел: ведь я освободила его от глупого обета.
Объяснение прошло в самых приличных тонах, без лишних упреков, чему я была очень рада. Он проводил меня да ворот общежития, и мы расстались. Вот как!..
Я пишу о нем зло и, наверное, несправедливо, но не думай, будто моя злость от того, что мне предпочли другую. Нет. Если бы „предпочел“ и остался настоящим человеком, я бы скоро утешилась. Это не измена, пустяки! А зла я оттого, что „нареченный“ стал скучным, бескрылым чиновником. Вот где измена, и, по-моему, самая худшая, самая оскорбительная из всех.
Я пришла домой как с похорон, сидела и смотрела на звезды в окне и невольно сравнивала Арсения Ильича с Таганом, у которого была на днях в ауле. Я познакомилась с его матерью, дедушкой, с дальней родственницей, их воспитанницей, и чувствовала себя среди них хорошо, как дома. Все они очень сердечные люди, и я так рада, что моя работа на новых землях по каналу связана с их работой, со всей их жизнью. Не сердись, что пишу как газетчик, но я сейчас правда так думаю…
Ты, наверное, лучше меня знаешь Тагана. Такой энергичный, серьезный парень. Сирота, бывший подпасок, он стал инженером, человеком влиятельным, если я не ошибаюсь. И он нисколько не хвастает своими успехами.
Как-то я попросила его рассказать что-нибудь о себе. И я знаю, что немножечко нравлюсь ему. Другой на его месте обрадовался бы случаю порисоваться, распустить павлиньи перья, прикинуться героем, а Таган поведал мне самую детскую историю о том, как он пас когда-то верблюдов в пустыне, потерял верблюжонка, пошел искать и попал в песчаную метель. Он держится как настоящий мужчина, без малейшей рисовки. „Вот я такой, а вы можете любить или не любить меня, ваше дело“. За это нельзя не уважать.
Ну вот, наболтала тебе всякой всячины и душеньку отвела, а то встреча с Сеней так взволновала меня – даже сон пропал. А сейчас лягу и усну.
Спокойной ночи! Поцелуй маму. Обо мне не беспокойтесь. За Сеню замуж не выйду и ничего не сделаю очертя голову…»
Глава четырнадцатая
Чуть светало, когда Ольга услышала настойчивый гудок под окном, торопливо оделась и вышла.
В саду щебетали птицы. За воротами в белесом сумраке стоял возле машины Каратаев, дымил папиросой. Каратаев привык вставать рано и пребывал, по-видимому, в бодром настроении.
– Доброе утро, как самочувствие? Да вы, извиняюсь, что-то немножко бледны! – забеспокоился он, глядя на Ольгу.
– Просто не выспалась, – отвечала она. – И потом, на рассвете у всех лица какие-то мертвые. – Не докладывать же этому старому любезному туркмену, как затянулся вчера ее визит к Завьялову и как полуночничала она, исповедовалась в письме отцу.
– В общем, устраивайтесь удобней. Я захватил новую кошму, можете даже прилечь, а я тут, впереди. – Он заботливо расстелил кошму на заднем сиденье, подтянул повыше ее край и помог девушке сесть. – Ну-с, как в санях? – спросил он, усаживаясь рядом с шофером.
– Отлично. Я так сладко засну! – притворно закрывая глаза, ответила Ольга.
– На здоровье. Трогай, Ашир.
Машина дрогнула и покатилась по безлюдным улицам. Город казался почти нежилым, призрачным в мутно-сером свете, и только издали, от вокзала, доносились гудки тепловозов и лязг буферов – отголоски особой, неугомонной жизни, которые резче подчеркивали пустоту и безжизненность окружающего.
Убаюканная плавным покачиванием, Ольга действительно заснула, да и Каратаев дремал. Уже далеко за городом, когда на разбитом шоссе сильно подбросило, Каратаев вскинул голову и, косясь на шофера, сказал:
– Нельзя ли осторожней!
– А ухабы-то… как по волнам, – мигом оправдался Ашир. – Только жаль, вас разбудил, девушка.
– Ну, подумаешь! – весело откликнулась Ольга и часто заморгала, точно стряхивая с ресниц остатки сна. Беспечно оттолкнув край кошмы, свалившейся ей на колени, она высунулась за борт и глядела на степь, негромко приговаривая: – Смотрите, какой восход! А воздух!
Справа от них торжественно вставало огромное солнце. Над вспаханным полем звенели жаворонки.
– Да, недурно. Зря не взяли ружья: сизоворонка тут должна попадаться, а ближе к пескам – красавчик… Вон, вон – пара уток, видите, волокутся к каналу. Эх!.. – посожалел Каратаев, но вскоре забыл о пернатых и предался другой страсти. – Каждый день мы видим солнце, и все-таки оно нам кажется чудом, – заговорил он, глядя на восток. – А вот ведь тоже чудо! – В лучах солнца, среди беспорядочных развалин и осыпавшихся стен одиноко возвышалось здание, увенчанное куполом. – Полюбуйтесь: мавзолей Санджара. Великий Сельджук строил его для себя, по собственному плану, и в 1157 году чин чином был положен под куполом. Мертвый город Мерв, древняя столица мусульманского мира: богатство, ремесла, шумная торговля. Потом Тули-хан, сын Чингиза, за день перебил больше миллиона жителей. Кажется, февраль 1223 года… Потом Тимур, и Надир-шах – с той стороны… Когда завоеватель разрушит плотину, все зарастает колючкой, пыль покрывает целый край. История!.. Мы тоже недалеко отсюда дрались с басмачами… Ох и схватки бывали! – вспомнил Каратаев свою молодость. – Сейчас подумать страшно, а тогда не испытывали страха, с легким сердцем гуляли по степи. Кровь лилась не ради грабежа, а во имя великой цели… Смотрите, как Санджар освещен! – опять указал Каратаев. – Герой, воин на поле битвы! Все повержено, один остался, отстоял свою жизнь и задумался… Завидую историкам, честное слово. Наука всех наук.
– Верно, – глядя на мавзолей, согласилась Ольга. – А я завидую тем, кто сам историю делает. Вот вы…
– Да что я. Когда же и какую историю делал?
– А когда отстаивали советскую власть.
– Не я один…
– А история и не делается одним человеком.
В ответ Каратаев лишь замотал головой. Мысль, высказанная девушкой, была слишком проста, ничего особенного, но он чувствовал ее правду.
Санджар остался позади. Кончились давно уже редевшие рощицы шелковичных деревьев. Кое-где земля еще пестрела, вспыхивала кострами ремерий, похожих на маки. По низинкам над изумрудной осокой гордо возвышались эремурусы. И чаще замелькали палевые лысины такыров.
– А тюльпаны-то! Можно на минуточку? – попросила Ольга. Шофер притормозил, она вышла из машины, вдохнула полной грудью чистый сухой воздух. – Ой как жалко губить тюльпаны! И все-таки надо нарвать ребятам. У них там одни ящерицы да черепахи…
И мужчины выбрались на траву, закурили. Время от времени оба поглядывали на Ольгу. Она нарвала огромный букет тюльпанов, метелок, голубых «лисьих хвостов» и еще каких-то неведомых ей трав и цветов. Поехали дальше. Впереди над плоской равниной стали вырастать и горбиться барханы. Попадались еще кустики полыни, верблюжьей колючки. Но вскоре машина тяжело заколесила в песках, подернутых зыбью, как озеро при свежем ветре.
Три месяца назад, когда Ольга впервые увидела нагромождение голых холмов, ее охватила жуть, как будто она попала в то первозданное бытие, о котором можно прочесть в библии. Потом, присмотревшись, нашла даже особую прелесть в суровом обличье этой земли.
– Ящерицы да черепахи… Признайтесь: скучаете по своим местам, когда этак вот в глазах рябит? – с запозданием вспомнил Каратаев слова девушки и показал на песок.
– Еще как скучаю! – Ольга точно ожидала его вопроса. – Знаете, я и в Москве думаю о нашем сибирском лесе, где мы жили, когда я была маленькой; а здесь и подавно. Иной раз плакать хочется.
– Понятно, – согласился Каратаев и, должно быть, не совсем кстати ввернул: – Леса – краса; зато, как это у вас у русских: «без леса жить ясней»?
– Так в шутку только скажут, – возразила Ольга. – Я вот привыкаю, многое мне нравится, по-честному, но погляжу – ни гривки, ни долинки, ни-че-го! Не на чем глазу задержаться.
– Не согласен. Имейте в виду: ровная, четкая линия горизонта умиротворяет, располагает к покою, глубокому созерцанию. – Вероятно от нечего делать, Каратаева тянуло к легкому философствованию, и сам он, пожалуй, не придавал сколько-нибудь серьезного значения собственным словам.
– Ну вас, вы софист. Со-зер-ца-ние! – передразнила Ольга. – Для созерцания нужна перспектива, богатство линий, чтоб они пересекались, – иначе где же у вас движение, гармония, совершенство?
– Я софист, согласен, – великолепно держался Каратаев. – Согласен – движение. Но возьмите хотя бы простое, обыкновенное дерево, милое вашему сердцу. Ведь дереву вовсе не требуется движения; и не двигаясь с места, оно достигает совершенства.
– Ой, вы трижды софист, неисправимый софист! Да вы, может, нарочно со мной так говорите? – высказала подозрение Ольга. Она с умилением глядела на цветы, лежавшие у нее на коленях, и цветы ей казались уже чудом, яркой приметой жизни, которая осталась где-то позади.
– Я нарочно? Зачем же. Знаете, спорить с вами весело, а оглянешься вокруг – опять буруны, сплошные буруны песка. Вот пишут, мы победили природу, а как победишь ее, когда этому скопищу бродячих бурунов конца и края не видно, тянутся до самого Каспия. Крепко еще она держит человека в своих руках. А ветер подует – какой ералаш поднимается! Вы не испытывали такого?
– Нет, в настоящую бурю не попадала, но мне рассказывали. Кажется, даже страшнее нашей пурги. И все-таки понемногу ведь покоряем пустыню, правда? И она еще плохо изучена.
– Э, оставим лавры окончательной победы нашим потомкам! – засмеялся Каратаев. – А то мы о них так заботимся – все хотим припасти: пожалуйте на готовенькое. Вот я убежден: дать бы нам побольше воды на те земли, какие у нас уже есть, и всего будет вдоволь. Почва-то у нас, знаете?..
– Да, мой грозный начальник Сергей Романович – как это он выразился? «Воткни посох в землю, плесни водой – и посох зацветет». Только он, Сергей Романович, сердится: говорит, плохо мы воду используем, землю губим.
– Вы не слышали, ему будто бы предлагали солидный пост в дирекции канала, а он отказался.
– Да, знаю. И правильно сделал! – загорячилась вдруг Ольга. – Такие, как Скобелев, должны возглавлять экспедиции, заниматься творческой работой, а не сидеть в дирекциях. Ему уже шестьдесят пять лет…
– Скобелев… Случайно, не потомок генерала? – спросил Каратаев, раздумывая о чем-то своем.
– Все так спрашивают, – откликнулась Ольга. – за глаза «генералом» дразнят; а он даже и не из дворян, из самых что ни на есть пролетариев. При мне беседует недавно с ашхабадским корреспондентом, и тот – насчет родства. Сергей Романович сперва с раздражением ответил, а потом по-хорошему объяснил, как тяготит его это мнимое родство, тем более что фамилия Скобелев слишком связана с Туркменией. Из-за этого Сергей Романович, молодым еще, собирался отсюда сбежать на север, да так, говорит, и не успел – прижился.
– Простите… раз уж взялись косточки перемывать… а его семейное положение?
– Какое там положение! Бобыль, рак-отшельник, – рассказывала Ольга. – Сын погиб в войну, жена умерла после войны. Где-то в Саратове есть сестра и двоюродные братья, он переписывается, иногда ездит туда, на Волгу. А так – пески и пески… Но с ним вы не шутите: жениться, я слышала, собирается начальник. У Сергея Романовича большая любовь, там, у нас же в экспедиции.
Они продолжали сплетничать, а машина тем временем взбиралась на пологий пригорок, за которым в ложбинке показались палатки.
– Наконец-то! – сказала Ольга таким тоном, будто вернулась в родной дом.
Каратаев разглядывал лагерь. Там виднелся колодец, и под сенью карагача горел костер. Около костра двигалась женщина. Козырьком приложив ладонь ко лбу, начала всматриваться: кто же к ним едет? Возле палаток лежали верблюжьи седла, ящики, груды саксаула. За палатками верблюдица и длинноногий верблюжонок мирно щипали колючку.
– Раечка! – позвала Ольга. – Что же вы, или нам не рады?
И только теперь, после ее слов, краснощекая повариха-татарка устремилась навстречу.
– С приездом, Оля-джан! Думала – чужие. Шофер не наш, а вас не видно за цветами.
– И письма я привезла, Раечка. Давайте разделим цветы по палаткам, поставим в воду, и я вам дам письмо, а вы нас за это покормите, мы еще не завтракали.
– Сей минут, сей минут, Оля-джан! – захлопотала Раечка, подбросила саксаула в костер, налила воды в чайник и повесила его над огнем.
Из крайней палатки вышел загорелый молодой человек в синей майке и брезентовых брюках, его отрекомендовали кандидатом геологических паук Клычем Сахатовым.
– Салам, салам, Ольга Ивановна. А мне письмишка нет? – осведомился Сахатов.
– Есть. Но почему вы не у своих вышек? Опять Раечку сторожите?
– Ну, вы сразу все тайны раскроете! – засмеялся Сахатов, подавая руку Каратаеву. – Пощадите не меня, так Раечку. Видите, мы оба смутились. Между прочим, я теперь окончательно обосновался в лаборатории, – уже серьезно продолжал геолог. – Без вас тут события развивались головокружительно. Нашли водонепроницаемую глину. Идеальная облицовка для русл каналов, допустим, малого сечения. Лучше всякого цемента. Пойдемте покажу. И вас прошу, Акмурад-ага. В таких вещах вы опытнее нас всех…
– А вы откуда меня знаете? – перебивая геолога, удивился Каратаев.
– Кто же не знает мургабского бога воды! – Сахатов почтительно поклонился начальнику водхоза. – Я ведь из вашего района. Отец мирабом был, и я с детства слышал, как вы шерстили взяточников. Продажность среди мирабов искореняли.
– Позвольте, сын Сахата Дурды? Отлично помню вашего отца. Вот кого никакими деньгами не могли соблазнить баи.
Разговаривая, все трое вошли в палатку, где на длинных грубо сколоченных столах стояли колбы, пробирки, ванночки, а на полу – ящики с круглыми столбиками пород. Сахатов взял колбу, в которой лежал небольшой глиняный шар, залитый водой.
– Видите: без малейшей мути. Не размокает, точно камень. Не фильтрует. А главное – местный материал, не надо возить за сотни километров.
– От души поздравляю, и вот вам за это награда. – Ольга отделила часть цветов и вручила Сахатову. – Только не дарите Раечке, наслаждайтесь сами. Раечка свою долю получит. Пойдемте, Акмурад-ага, позавтракаем и – в поле, ловить Сергея Романовича.