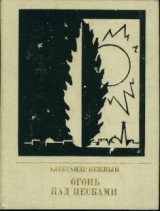
Текст книги "Огонь над песками. Повесть о Павле Полторацком"
Автор книги: Александр Нежный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
От этих его слов снова – как и тогда – безотчетной тревогой наполнилось сердце, и чрезвычайно медленным и тесным показался тотчас вагон. Сидеть было теперь невмоготу, он встал, подошел к выходу и так простоял две станции, держась за оконную раму и внутренней стороной ладони ощущая сильное тепло нагревшегося дерева, а внешней – сухой жар ровно и быстро текущего воздуха. Сейчас уже все, что наполняло сегодняшний день, – бой, вспыхнувший в Кизыл-Арвате, переговоры с Фроловым и горечь шумиловских слов… несчастный брат Аглаиды, которому внушил он безумную надежду, – все как бы сплавилось в одно смутнее, тревожное, томящее чувство. …Однако что, собственно, заставляет его называть эту надежду безумной? Она безумной кажется Артемьеву, с жизнью уже простившемуся, тогда как, по сути, нет в ней ничего несбыточного. Не сознательного врага он спасает, – а человека несчастного, человека сбившегося… Не Павла Петровича и не Зайцева, – а человека, в их деле вполне случайного… Его-то, и так от всех бед вдоволь испробовавшего, – его-то и под расстрел? Всякое в борьбе бывает; бывает, что и времени-то на размышление вовсе тебе не отпущено, и ты рубишь и иначе не можешь… не имеешь права… Но тут! Нет, друзья-товарищи, так нельзя… уже не в Артемьеве только дело…
И Дапиахий, его исчезновение… Ага, отметил он вскользь, вот вспомнилось.
Оп спрыгнул с подножки и быстро зашагал в следственную комиссию.
Там, в коридоре возле кабинета Хоменко, сидела женщива с маленьким, упрямо сжатым ртом, над верхней губой которого ясно был виден темный пушок, прямым тонким носом и густыми длинными темными бровями, придававшими ее лицу сумрачное, даже несколько угрожающее выражение. Одета она была в платье из яркой, синей с золотом ткани, с короткими рукавами и невероятно широкое – с ним вместе эта женщина полностью занимала три стула и отчасти напоминала павлина, пышно распустившею свой хвост. Она курила, и в промежутке между двумя затяжками надменно-суровым взором оглядев Полторацкого, медленно от него отвернулась, тем самым без всяких околичностей выразив, что никакого впечатления на нее он не произвел.
Переступив порог кабинета, Полторацкий плотно закрыл за собой дверь и сказал:
– Не женщина, а прямо птица какая-то, правда! Это кто?
Хоменко сидел за столом, обеими руками обхватив голову.
– Птица… – он буркнул. – Эта вот птица твоего Даниахия и заманила.
– Нашелся?
Зябко поеживаясь, Хоменко встал, обошел стол и уселся напротив Полторацкого, острыми своими коленями касаясь его колен. Некоторое время он сидел молча, прикрыв тяжелыми веками круглые черные глаза с пожелтевшими белками. Затем крепко потер ладонью лоб, откашлялся и гулко, как в бочку, проговорил:
– Малярия, ч-черт… На улице дышать нечем, а меня трясет. Во, брат, комедия! – Но вздохнул он при этих словах невесело и, невесело же взглянув на Полторацкого, кивнул. – Нашелся… Здесь он у меня, я ему сейчас очную ставку с этой птичкой устрою. Знаменитость, между прочим… мисс Носова – не слыхал? Ну как же! Про нее в цирке знаешь, как объявляют? Известная укротительница змей мисс Носова с ее чудовищным пятипудовым удавом!
– Не удав, а целая гидра, – усмехнулся Полторацкий. – А деньги? Пятьдесят тысяч – при нем? – спросил он, будучи однако совершенно уверен, что у Данахиня не осталось и копейки.
– Н-ну, Паша, ты меня удивляешь… Ты ведь ее видел? Видел, – утвердительно произнес Хоменко и палец поднял.
Полторацкий пожал плечами.
– Ерунда какая-то… Разумный человек – и на тебе!
– Сбесился, – исчерпывающе объяснил Хоменко. Сильную дрожь его тела ощутил коленом Полторацкий и сказал:
– Ты бы полежал, Лексеич.
– Надо, – отозвался Хоменко. – Вот к вечеру она за меня всерьез возьмется, и я упаду. – Он тяжело глянул па Полторацкого. – У Фролова в Кизыл-Арвате бой был, ты знаешь?
Полторацкий кивнул:
– Знаю. Сегодня с ним по прямому проводу разговаривал… вместе с Шумиловым. Завтра Совнарком… завтра решим – отозвать его или оставить еще.
– Ну-ну, – покачал головой Хоменко, – ну-ну… Раздражение мгновенно вскипело в Полторацком, он помолчал, опустив глаза, и лишь потом ровным голосом произнес:
– Ты поясней, если можешь. У меня времени нет загадки твои разгадывать.
– Загадки? Какие загадки, окстись, Паша… Я грешным делом всего-навсего о том подумал, что решите вы, как всегда, правильно… – не без яда произнес Хоменко, – у нас иначе и быть ие может, только…
Он остановился, и Полторацкий, не выдержав, поторопил его вопросом:
– Что – «только»?
– Только Фролову, я думаю, нам с тобой помочь будет уже трудно, – кладя горячую руку Полторацкому на колено, тихо промолвил Хоменко, и круглые птичьи, близко поставленные глаза его взглянули с болью. – Я кое-что получил сегодня оттуда… из Закаспия… У меня там человек один очень толковый есть, – пояснил он, встав и подойдя к столу, – он сообщает… словом, так: стачечный комитет в Асхабаде уже создан… во главе – Фунтиков. Знаком?
– Немного… Лицо такое длинное и усы вверх, – движением пальца показал Полторацкий как именно закручены фунтиковские усы. – Не дурак… Поговорить умеет и любит…
– Вот и заговорил их там! А тут еще Фролов отчебучил… Через всю Хитровку – рабочий район, ты знаешь – в конном строю, да с плакатами, а на плакатах надпись: «Смерть саботажникам!» И баба его с ним, и у бабы тоже плакат…
– Какая баба, – возразил Полторацкий. – Жена…
– Да хоть бы и жена, – еще больше рассердился Хоменко, – на кой ему ляд ее на коня сажать да еще с плакатом? Словом, так, – взял он со стола и потряс в воздухе какой-то бумагой, – я тебе официально как народному комиссару сообщаю… Я имею точные сведения, что из Аскабада в Кизыл-Арват двинулся эшелон… Полагаю, что по фроловскую душу поехали.
– Когда?
– Сегодня утром. Завтра там будут, и честно тебе скажу, не хотел бы я на месте Фролова оказаться, не хотел бы!
– Предупредил?
– Депешу-то я послал… не Фролову, нет, она до него все равно не дойдет… Телеграфисты в Закаспии уже на сторону смотрят. Вот этому, – ткнул он пальцем в стол, в ящик которого убрал бумагу с донесением, – своему человеку отправил. Наказал непременно с Фроловым связаться и сообщить. Он сделает… все, что возможно, сделает, тут я вполне уверен. Боюсь, правда, возможностей у него не густо осталось. – Он сунул руки себе под мышки, ссутулился, сжался и исподлобья глянул на Полторацкого – Холодно…
– Не ко времени занемог, Лексеич, – отозвался тот. – Ты хоть таблетки-то какие пьешь?
– Пью. Да толку от них – желтею только и глохну. Погоди, – остановил он Полторацкого, у которого был уже наготове вопрос о Даниахии-Фолианте. – Ты вот что – ты соседа, подполковника этого, когда в последний раз видел?
– Когда? Да в тот день… в тот вечер, пожалуй… Ну да, точно: с тех пор и не видел.
– Так вот они нашего брата учат! – отшвырнув стул, метнулся из-за стола к окну Хоменко и, стоя к Полторацкому спиной, повторил сдавленным голосом: – Вот так нас, раздолбаев, и учат… Мало учат! Зайцев удрал… Этот теперь как в воду канул…
– Павел Петрович?! Постой, постой, Лексеич, ты не торопись только, ты вникни… Ну, не видел я его – и что? Я его и раньше-то не очень примечал… У него семья в Асхабаде, он мне говорил, он туда уехать мог… взял отпуск и уехал, очень просто! Или гостит у кого-нибудь, или в командировку отправили… Ты хоть узнал?
Только вздохнул в ответ Хоменко и, как бы истощив все силы, неверными ногами побрел от окна к шкафу, слабой рукой отворил дверцу, нашарил куртку и с трудом набросил ее на плечи.
– Холодно мне…
Затем он опять уселся за стол, опять обхватил обеими руками голову и тихим голосом велел Полторацкому слушать его внимательно и не перебивать. Начал он с инженера Борисова.
– Тот самый, – тихо и медленно говорил Хоменко, изредка прикрывая глаза с пожелтевшими белками, – всеобщий знаток горного дела…
Инженер Борисов к разговору в следственной комиссии отнесся пренебрежительно. Доходили сведения, что даже в кругу не очень близких людей он весьма насмешливо отзывался о неуклюжих, по его словам, попытках Хоменко (со снисходительной барственностью щуря сиреневые глаза, инженер Борисов иначе как красным или коммунистическим сыщиком его не называл) навязать ему участие в тайном сообществе, замыслившем ниспровергнуть в Туркестане Советскую власть. По словам инженера Борисова, подобное сообщество есть всего-навсего продукт воображения местных Робеспьеров, кошмар их горячечных сновидений и метания нечистой совести. Его высказываниям, одаако, сопутствовало рассчитанно-неопределепное пожатие плеч, коим он как бы указывал на собственное затруднительное положение – положение человека, из долга чести принуждешюго говорить именно так и тем самым впервые в жизни с немалыми душевными усилиями совмещающего такие понятия, как ложь и честь. Короче: два секретных агента взяли под неусыпное наблюдение ииженера Борисова и его квартиру на Уральской улице.
– Ивана Матвеевича возле его дома заметили, – тихо сообщил Хоменко.
Даже с места привстал Полторацкий.
– Зайцева?! И что – упустили?
– Экий ты скорый, – проговорил Хоменко. – Не лыком он шит, Иван Матвеевич, в тюрьму не торопится.
– Ну, но задержать… так хоть проследить за ним могли бы твои ребята?!
– У них задание, – внятно проговорил Хомепко. – Борисов и его квартира. Они бы за Иваном Матвеевичем пошли, и мы бы с тобой и ведать не ведали, кто к инженеру в гости ходит.
Дальше говорил Хоменко – и чем больше слов слетало с его сухих, потрескавшихся губ, по которым он время от времени быстро проводил языком, чем больше узнавал от него Полторацкий, тем мрачней хмурил брови и тем крепче сжимал в кулаке машинально взятый со стола коробок спичек. Средоточие было в Ташкенте, тут сомневаться не приходилось. Асхабад скорее всего ждал и наконец дождался сигнала из туркестанской столицы, хотя, заметил Хоменко, не исключено, что стачком, двинувший эшелон Фролову в тыл, подчинился не столько команде из центра, сколько подстегнувшим его событиям… Разумеется, заговор сплетался и существовал сам по себе, вне всяких расчетов на недовольство линией того или иного чрезвычайного комиссара, но уж коль столь многообещающая возможность сама давалась в руки, то упустить ее было просто грешно. Так, пытаясь проследить своей мыслью мысль вдохновителей мятежа, тихо рассуждал Хоменко и при этом зябко поеживался. Людей у меня мало, счел нужным снова отметить он, однако даже и с теми, которые есть, кое-что все-таки сделать удалось. Появился, например, в поле зрения следственной комиссии некий англичанин с дипломатическим паспортом и с невыразительным обликом заурядного фельдфебеля. Англичанина этого дважды, видели в Старом городе и оба раза в обществе Цингера, еще раз мелькнул рядом с ним Зайцев; тут, кстати, прочли шифрованную записочку, но один поспешный шаг все изрядно напортил. Не нужно было до поры вызывать в следственную комиссию инженера Борисова, не нужно, повторил Хоменко и добавил: «Моя вина». Цингер исчез – стало быть, знал его Борисов, и подполковник решил меры принять, и правильно сделал… К англичанину пока подступиться не с чем. Корнилов на даче огород копает, Кондратович в Старом городе чай пьет. «А ведь между тем петля уже готова, чтобы нам на шею накинуть и нас удушить! – бледнея и быстро проведя рукой по горлу, сказал Хоменко. – Есть доказательства, нет – брать надо было их всех, голубчиков, и дело с концом! Нам ныне в законность играть – смерти подобно!» – «Это ты брось, – твердо сказал Полторацкий. – Этак мы только себе яму отроем, и ничего больше». – «А они сейчас нам могилу роют! – вскрикнул Хоменко. – И напрасно… напрасно ты надеешься, – перегнувшись через стол и свое лицо с черными круглыми яростными глазами приблизив к лицу Полторацкого, сказал он, – что я тебе содействовать буду с этим твоим Артемьевым… Ты ведь и для этого ко мне пришел, так? Напрасно!! Приговорил его трибунал – и пулю ему в лоб, контре проклятой…» – «Тебе ярость весь свет застит, – резко оборвал его Полторацкий, невольно отстраняясь от близкого, жаркого дыхания Хоменко. – Вина у Артемьева есть, я ее знаю, но не такова она, чтобы за нее жизнью платить». – «Перед революцией, – выпрямившись и поспешно ухватив сползающую с плеч куртку, ответил ему Хоменко, – всякая вина высшей кары достойна». Так живо напомнили вдруг Полторацкому эти слова его собственные, к Аглаиде Артемьевой обращенные, так остро понял он, какой отзвук в ее душе они тогда породили, что у него пропало желание возражать Хоменко. Он усмехнулся невесело, но Хоменко, приняв усмешку на свой счет, проговорил грозно и громко, что революция ничем не связана в действиях, направленных против се врагов.
Затем на короткое время предстал перед Полторацким Даниахий и, скосив в сторону неглупые, быстрые, но сейчас совершенно лживые глаза, длинно и сбивчиво принялся объяснять причины своего таинственного исчезновения. Высокий, сужающийся кверху его лоб сплошь покрылся мелкими бисеринками пота, пока Даниахий, блуждая взором, повествввал про внезапный обморок, приключившийся с ним по дороге в комиссариат («Жара, невыносимая жара всему виной!» – в этом месте своего рассказа со слезами в голосе воскликнул Даниахий), обморок, очнувшись от которого он едва добрался до гостиницы, где в настоящее время проживает давнишняя и добрая его знакомая, известная укротительница змей мисс Носова, очаровательная, редкой души женщина, с которой связаны лучшие мгновения его трудной жизни… Но поздним вечером, когда он, Даниахий, благодаря нежным заботам этой во всех отношениях прекрасной женщины… этою ангела, принужденного существовать на грешной земле, начал приходить в себя, к ней в номер ворвались какие-то пьяные хамы, и он, Даниахий, собрав последние силы, решительно встал на ее защиту. Последовала, разумеется, сцена самого непристойного содержания, явилась милиция… И вот я здесь, – уронив голову на грудь, заключил Даниахий. «А деньги?» – Полторацкий спросил. «Деньги? – как бы пытаясь уразуметь, о чем речь, произнес Даниахий. – Какие деньги, Павел Герасимович?» – «Да перестаньте вы! Из кассы комиссариата исчезли пятьдесят тысяч – где они?» – «Ах, эти! – хлопнул себя по лбу Даниахий. – Как же, как же, есть они, эти деньги, то есть, я хотел сказать, они были… Да, совершенно точно – были, пока со мной не случился обморок… Вы мне не верите, Павел Герасимович?» – упавшим голосом спросил Даниахий, Полторацкий махнул рукой, попрощался с Хоменко и вышел.
Взглядом, исполненным крайнего недоумения и вместе с тем суровым, проводила его мисс Носова, в своем сине-золотом платье занимавшая три стула.
6
В тот вечер у Николая Евграфовича Савваитова собрались гости. Безусловно, самым почетным из них был тот худенький, седобородый старичок, который только вчера появился в савваитовском доме и, отвергнув предоставленный ему хозяином диван, спал на сундуке, покрытом газетами. Несколько странно было паблюдать, как Николай Евграфович, тоже седобородый и всем внушающий самое искреннее почтение, явно робел перед худеньким старичком и не всегда мог выдержать взгляд его редкостно живых, синих глаз. Это обстоятельство отмечено было всеми гостями Савваитова, среди которых приглашенный Николаем Евграфовичем Полторацкий увидел средних лет узбека в европейской одежде с несколько надменным и замкнутым выражением тонкого лица, мужчину с багровым рубцом на щеке, на Полторацкого неприязненно глянувшего, женщину, с ним рядом сидевшую, со скорбной складкой рта и учащенным, нервным дыханием… Он еще стоял в дверях, когда Савваитов, тронув его за руку, попросил посторониться. Он оглянулся – с чайниками и пиалами на подносе входила в комнату Аглаида Артемьева, и Полторацкий с мгновенно оборвавшимся и полетевшим в холодную пустоту сердцем едва мог выговорить: «Здравствуйте, Аглаида Ермолаевна». «Добрый вечер», – кивнула она ему и пошла вкруг стола, расставляя перед гостями пиалы и разливая чай. Горьким чувством отозвался в нем вполне равнодушный ее кивок, и он готов был уже уйти, сославшись на усталость и недомогание, но Савваитов, приметив его движение, тотчас сказал:
– И не помышляйте, Павел Герасимович, никуда я вас не отпущу. Вы на Востоке, так чтите его законы и не наносите обиды хозяину дома, который вам искренне рад. Прошу любить и жаловать, – обратился он к гостям, – это мой жилец, третий по счету и, признать надо, наиболее удачный как по характеру… характер определен по фирасату, так что ошибки быть не может, верно, Юсуф? – с улыбкой повернулся Николай Евграфович к узбеку, который в ответ молча склонил голову и прижал к груди руку, – …так и по безукоризненному поведению… Павел Герасимович Полторацкий. А вам, Павел Герасимович, я прежде всего представлю моего старинного друга и замечательного мыслителя… да, да! – воскликнул Савваитов, увидев, как худенький старичок протестующе выставил перед собой обе ладони, как бы закрываясь ими от чрезмерной возвышенности посвященных ему слов, – я еще скромен в эпитетах, друзья мои… Дмитрий Александрович Ковшин, – почти провозгласил Савваитов, и худенький старичок доброжелательно Полторацкому улыбнулся. – Диодор Мартынович Клингоф, – указал Николай Евграфович на мужчину со шрамом, и тот, холодно взглянув, сделал неопределенное движение головой, которое лишь с большой натяжкой можно было принять за поклон. – Серафима Александровна Кузьмина, жена Диодора Мартыновича, – сказал Савваитов, и Полторацкому показалось, что перед тем, как ему растерянно улыбнуться, испуганно вздрогнула жена Клингофа. – Юсуф Усмансуфиев, в прошлом – мой ученик, а ныне – учитель в местной школе… У него сейчас и живет ваша девочка… Айша. Он вам расскажет о ней. С Аглаидой Ермолаевной вы знакомы. Теперь, Павел Герасимович, должен открыть вам причину, собравшую нас за этим более чем скромным столом. Причина такова… – тут Савваитов умолк и понурился. В тишине, тотчас за его словами наступившей, слышно было учащенное, нервное дыхание Серафимы Александровны. – В комнате, которую вы занимаете, висит портрет юноши… Точно такой, как и здесь, – указал он крупной, заметно вздрагивающей рукой, и Полторацкий действительно увидел на правой от двери стене знакомое доброе и вместе с тем печальное лицо молодого человека, в задумчивом взгляде которого можно было угадать тщетные попытки примирить смятенную душу с жестокими нелепостями бытия. – Вы как-то спросили меня, кто это, и я вам ответил: сын. Это мой сын, ему было бы сейчас тридцать, но он прожил только двадцать один год… Его казнили… – не своим, странным, тонким голосом произнес Саввэитов и несколько раз вздохнул глубоко и жадно.
– Николай Евграфович! – тревожно вскрикнула Аглаида, но властным жестом прервал ее Ковшиг, сказав:
– Не надо… Слезы должны быть выплаканы.
– …его повесили, – продолжал Савваитов, благодарно кивнув Дмитрию Александровичу, – здесь, в Ташкенте, девять дет назад, в ночь с десятого на одиннадцатое июля… В его память мы и собрались. Выпейте, Павел Герасимович, – протянул он Полторацкому рюмку, – выпейте за моего Сережу, который… которого… я так и не смог уберечь… Это был… чистый мальчик… агнец, попытавшийся стать жестоким! Вы знаете, Аглаида Ермолаевна, – вдруг обратился он к Аглаиде, – я тут сон видел… Мне снилось, что вы за Сережу выходите… И я был так счастлив, так счастлив.
Он грузно опустился на стул.
– Я была бы ему хорошей женой, – вспыхнув, сказала Аглаида, и Полторацкому, с тяжкой пристальностью все еще смотревшему на портрет задумчивого молодого человека, помнилось, что печальный взор юноши несколько просветлел.
После слов Аглаиды наступило довольно длительное молчание, в продолжение которого Савваитов сидел, уставив застывший взгляд в пол и сложив ладони, одна поверх другой, на массивном набалдашнике своей палки, а худенький старичок, Дмитрий Александрович Ковшин, необыкновенно живыми глазами внимательно и совершенно не таясь рассматривал Полторацкого. Внимание Ковшина приобретало в конце концов оттенок некоей бесцеремонности. Взгляд Дмитрия Александровича сначала отвлекал Полторацкого, затем стал просто мешать ему, обнаруживая силу, вторгающуюся в самый ход мыслей. Во всяком случае, размышлениям о том, что сын Савваитова был, верно, боевик-эсер, и что принятая им роль требовала от него постоянной борьбы с самим собой, постоянных и, надо полагать, зачастую бесплодных попыток смирить совесть, доводящую до исступления, требовала душевного, без отдыха и срока, напряжения столь значительного, что избавление от него могла принести одна только смерть… – этим размышлениям и сопутствующим им мыслям об Аглаиде пристальный вягляд Ковшина несомневно мешал, и Полторацкий решил в ответ твердо на него глянуть. Он глянул – встретил улыбку в глазах Дмитрия Александровича и невольно ему улыбнулся в ответ.
– Я вам прочту стихи, – отрывисто произнес Клингоф. У Серафимы Александровны, в тот миг поднесшей ко рту пиалу с чаем, дрогнули руки. Чай выплеснулся, желтоватое пятно расплылось на белой скатерти, и Серафима Александровна, покосившись на мужа, испуганно улыбнулась, Клингоф презрительно усмехнулся.
– Стихи, – так же отрывисто продолжал он, – посвящены памяти Сергея… моего друга и соратника…
«Вот откуда у тебя этот шрам», – успел подумать Полторацкий прежде, чем Клингоф начал: – Врагом замученный в неволе сном вечным брат наш опочил… Ликует недруг, – молвил он, скользнув взглядом по Полторацкому, – видя в поле лишь ряд безвременных могил… Но дело доблести суровой с бойцом погибшим ие умрет… и новый рыцарь с новой силой на смену павшему придет. – Затем, переводя дыхание, он крикнул с яростью: – Проклятье робкому сомненью! Чем больше павших – больше сил… Нам путь позорный к отступлеиью могильный холм загородил…
Слезы выступили на глазах у него. Робким движением протянула ему платок Серафима Александровна, но Клингоф, к ней даже не обернувшись, молча отстранил ее руку.
– Простите, – обратился к нему Ковшин, – эти стихи не вашего ли сочинения?
– Нет, – отрывисто сказал Клингоф. – Но в них мои чувства, вполне мои!
– Но все-таки, коли не вы их автор, вам не столь обидна будет критика. Авторы ужасно самолюбивы, ужасно! У меня, собственно, буквально два слова… Ведь этиистихи нельзя истолковать иначе как призыв к новым убийствам, ведь так?
– Так, – кивнул с вызовом Клингоф.
– А мне бы казалось, и Николай Евграфович, я думаю, одной со мной мысли, что над могилой погибшего во цвете лет юноши или, как в вашем стихотворении сказано, – над целым рядом безвременных могил, – должен был бы прозвучать призыв к отказу от кровопролития…
Нежный румянец появился при этих словах на бледном лице Дмитрия Александровича. Он говорил спокойно, негромко, но вместе с тем чрезвычайно отчетливо, с доброжелательной полуулыбкой, которая, несмотря на то, что обращена была ко всем, могла восприниматься каждым так, как если бы предназначалась только ему.
– Людская разобщенность, – продолжал Ковшин, – отсутствие братских отношений между людьми…
Но тут с удивительной неучтивостью прервал его Клингоф:
– Бросьте! С кем устанавливать мне братские отношения? С теми, кто повесил Сергея?! Да вы хоть знаете, как его повесили?
– Ради бога! – взмолился Савваитов. – Не надо… прошу вас!
Резко, всем телом повернулся к нему Клингоф и некоторое время не сводил с него тяжелого взгляда своих карих выпуклых глаз. Верхняя губа у Диодора Мартыновичапри этом странно вздернулась, обнажив белые крепкие зубы. Наконец он сказал:
– Отчего же? Пусть… Дмитрий Александрович, как я понимаю, непременно желает царствия божьего, – с явственной насмешкой произнес Клингоф, – иначе – всеобщего братства. Братство так братство – ничего не имею против. Однако желательно бы все-таки знать относительно права на вход в это самое братство… Палач, который Сергея удавил, – он тоже право имеет? – теперь уже на Ковшина смотрел Клингоф и говорил громко, даже, пожалуй, чересчур громко, иногда прерывая свою речь коротким носовым смешком. – А ведь он, знаете ли, с веревкой сплоховал – слишком она толстая оказалась… Вы представляете, я надеюсь, – толстая веревка плохо затягивается. Она не убивает, она только мучает… Ужасно, непереносимо мучает!
Савваитов при этих словах встрепенулся и, вытянув шею, беспомощно посмотрел вокруг. Взгляд его несколько задержался на Аглаиде, и она, страдальчески сдвинув брови, крикнула Клингофу:
– Перестаньте!
– Отчего же? – с коротким носовым смешком отозвался тот. – Совсем напротив, я непременно желаю докончить. А Николай Евграфович своим сыном должен гордиться. И смертью его нисколько не меньше, чем жизнью! Это смерть достойная, дай бог всякому порядочном; человеку – умереть за правое дело! Так умереть, как он. Он им из петли крикнул: да душите же скорей!.. Я эти слова, – с угрозой проговорил Клингоф и потряс крепко сжатым, костлявым кулаком, – до гробовой доски помнить буду… За них кровью… кровью! – вдруг взвизгнул отплатить надо! И за то, что палач, тот самый, кому rocnодин мыслитель, он же мечтатель во всеобщее братство дверь широко распахивает… за то, что палач этот его за ноги вниз потянул… Тогда только, – резко дернул он подбородком, – и удавила… петля… Сережу… – тихо докончил Клингоф.
Чуть запрокинув голову, смежив веки, очень прямо сидел Савваитов. Тихо подошла к нему Аглаида и, взяв его крупную, тяжелую руку в свои руки, произнесла умоляюще:
– Николай Евграфович… прошу вас… не надо… Какие-нибудь полшага разделяли теперь Аглаиду и Полторацкого, и он едва удержался от желания кончиками пальцев, легко, провести по ее лбу, разглаживая страдальческие морщинки. Однако не только сознание совершенной несбыточности своего желания останавливало Полторацкого – странный морок мгновениями охватывал его, и ему казалось тогда, что молодой человек, с задумчиво-вопросительным взглядом которого он так свыкся, обеспокоен участью людей, собравшихся под родным ему кровом. Будто бы удавленный юноша хотел познанием своим умудрить ныне живущих, внушить им мысль, в последний миг жизни его осенившую – в тот миг, когда палач почти повис у него на ногах, помогая захлестнуться петле. Но какая… о чем была эта мысль?
– Там даже вот еще как было, – продолжил Клингоф, однако, заметив протестующее движение Агланды, вынужден был отвлечься. – Да вы не волнуйтесь, – холодно сказал он. – Это все, как «Отче наш», знать следует. Николай Евграфович, – обратился он к Савваитову, – я вам еще раз говорю… я вам всегда говорил и говорить буду – вы своим сыном гордиться должны! И все вплоть до мелочи самой последней знать и помнить должны – как я всо помню и никогда не прощу. Я вам не рассказывал, а там вот еще как было – начальник тюрьмы… его фамилия Андреевский… детей своих привел смотреть, как Сергеи вешают! Слышите, Дмитрий Александрович, – обе руки простер к Ковшину Клингоф, – детей!
Что-то ответить ему собрался Дмитрий Александрович, но Клингоф заговорил опять.
– Тут ненависть страшная, смертельная, иссушающая ненависть! Тут так: ты гибни, а детки мои твоей смерти возрадуются, ибо вслед за мной, мне веря, тебя ненавидят… Они возрадуются, что детей от тебя не будет… что семя твое проклятое с тобой вместе этой же петлей удавят! Кто за это ответит?! А вы говорите – братство… общее дело какое-то… Мерзавцев истреблять – вот общее дело!
– А вам, – словно превозмогая усталость, слабым голосом произнес Ковшин, – простите, что я спрашиваю… вам приходилось, как вы только что выразились… истреблять?
– Если вы полагаете подобным вопросом меня смутить, то напрасно, – внушительно заметил Клингоф. – Кровь негодяев, мною пролитая, мою совесть не тяготит. Этими вот, – потряс он костлявыми кулаками, – …этими вот руками… генерал-майора Тышкевича, прокурора военно-окружного суда… нами приговоренного за то, что зверь был… подследственные солдаты не люди для него были! …я его на тот свет, – и Диодор Мартынович, сощурив карие выпуклые глаза, дважды, как бы спуская курок, согнул указательный палец правой руки. – И никаких угрызений!
– И… и все? – Ковшин спросил.
Клингоф засмеялся отрывисто, закинув голову и обнажив белые крепкие зубы.
– Кровожадный вы человек, Дмитрий Александрович! У нас ведь, как правило, – жизнь за жизнь. Уйти редко когда удается. Сергей не ушел… Я тоже. Но я бежал…да, Дмитрий Александрович, бежал от тех, кого вы мне в братья предлагаете… двоих, правда, пристрелив при этом, ибо наши с ними желания оказались взаимно противоположными… Потом скрывался, жил по чужим документам, нелегально… что, кстати, невероятно противно. Вообразите, как чувствует себя затравленный волк – и вы отчасти поймете мое состояние. Сидишь целыми днями, в какой-нибудь угол забившись, а выйдешь – все кажется, шпик за тобой увязался… Рука сама к браунингу тянется! У нee вот жил, – небрежно кивнул Клингоф в сторону Серафимы Александровны. – Тогда-то и роман у нас начался. Она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним, – с холодной насмешкой произнес он, взглянув наконец на Серафиму Александровну, мгновенно и мучительно, до слез, покрасневшую.
Тут подал голос молчавший до сего времени Юсуф Усмансуфиев.
– Вы бежали, – с подчеркнутой тщательностью произнося каждое слово, сказал он. – А почему не мог бежать Сергей? Мы с ним дружили, – как бы оправдывая свой вопрос, пояснил Юсуф.
– Они дружили, – кивнув головой, подтвердил Николай Евграфович.
Клингоф заметно помрачнел.
– Я в Асхабаде сел, – отрывисто сказал он, – а Сергей в Ташкенте. Асхабадская тюрьма для побега проще.
Не договаривает что-то Диодор Мартынович, сразу понял Полторацкий и вставил свое:
– Бежать отовсюду можно.
– Это вы по каким же примерам рассуждать изволите? – не замедлил с ответом Клингоф. – По Рокамболю? Или… по Зайцеву?
– По собственному опыту, главным образом, – сказал Полторацкий и перехватил быстрый взгляд печальных и строгих глаз Аглаиды, в которых – ему показалось – ясно выразилось сочувствие, именно к нему, Полторацкому, обращенное!
– Ваш опыт, я полагаю, не так уж велик, чтобы давать вам право на столь категорические выводы, – пренебрежительно отнесся к Полторацкому Диодор Мартынович. – Но тому, что я бежал, а Сергей – нет, есть еще причина… Не знаю, Николай Евграфович, говорил я вам или нет… по Сергею побег тоже был приготовлен.
– Я знаю об этом, – с важной простотой произнес Савваитов. – И знаю, отчего мой сын от этой возможности отказался. Требовалось взорвать стену… могли быть жертвы. Он не хотел.
– И напрасно! – вскричал Клингоф. – Тут слабость, одна только слабость… она его погубила. Я тогда записку ему передал. Дословно не помню, но смысл таков: ты не убиваешь, ты казнишь во имя справедливости. И еще: между нами и мерзавцами, управляющими Россией, идет война. Война без жертв, в том числе случайных, не обходится. Пойми это, я ему писал, и к побегу готовься… Он двумя словами ответил: не могу. Слабость… – упрямо повторил Клингоф.






