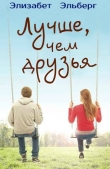Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Не боялся только Семен Тимофеевич. Что мог потерять гегемон – рабочий, кроме своих цепей? И поэтому он спокойно поднялся по трапу и улетел на родину. А все остальные рассеялись по Кордове, ища Леви, и договорились встретиться через два дня в аэропорту, у другого самолета.
Все группа встретилась в точно назначенное время, правда, без офицера флота и товарища из Мавритании. И, естественно, без Леви. Офицеру вдруг захотелось служить в королевском флоте, а почему остался мавритансий товарищ, который и так мог свободно покинуть пределы России – было загадкой…
Дальнейшие поиски решили прекратить во избежание потери других товарищей.
Когда объявили посадку на самолет, Маргарита Степановна совершенно неожиданно заартачилась и начала орать, что без Леви она никуда не полетит, хотя всем было ясно, что она не хочет улетать вообще.
И вдруг все остальные деятели культуры не захотели улетать без Леви и разбежались… Специально прибывшей оперативной группе удалось поймать только Маргариту Степановну – она стояла в мечети на коленях, низко опустив голову, вся в черном, в чадре…
Ее определили по огромной жопе.
При посадке в самолет она, не снимая чадры, брыкалась и рыдала…
Бедный Театр Абсурда еще не знал о свалившемся на него неожиданном горе. Остатки комиссии были еще в пути, когда в лучшем зале, с окнами на залитый солнцем Невский, шло партийное собрание. Как всегда, члены одобряли политику партии, произносили заздравные речи, пели аллилуйю, курили фимиам.
Всюду пишут, что курить табак вредно, но нигде нет слова о фимиаме. Полезно это, вредно?
Парторг, или Король – Солнце, как вам это будет угодно, заливался соловьем, благодаря родную партию за заботу об актерах, режиссерах, завлитах…
Он перечислял долго. Затем слово взял Главный.
Он повторил то же самое, но несколько в другой режиссерской интерпретации, ближе к соцреализму, чем Король – Солнце, который выступал скорее в мелодраматической тональности.
Все говорили так много и курили фимиам так долго только по одной причине – поведение товарища Сокола пугало их. Трудно было вообразить, какие кадохес оно могло бы им принести. Вот и сейчас его не было на собрании. Он бросал вызов. Он куролесил. И он плохо пел аллилуйю. Сокол возлежал на своей тахте, вскакивая в среднем раз в две минуты. Он давал отпор. Сильный и решительный.
Правда, по телефону.
Телефон разрывался.
Не успевал Борис бросать трубку, как тут же снова хватал.
Из невинной пластмассовой трубочки летели мат и угрозы.
– Алло, – стараясь оставаться интеллигентным, начинал Борис.
– А, так ты еще жив?! – удивлялась трубка, – раздавим, как крыс!!!
– Да вы…, – вспыхивал Борис, но трубку быстро клали.
– Какие подонки, – говорил он Ирине, – какая низость…
– Не бери трубку, – шумела она, – я запрещаю!
Но он хватал снова.
– Я им сейчас отвечу… Да, слушаю вас!
– Шолом, гнида, – доносилось до него, – готовься! Скоро мы отрежем твою умную жидовскую голову.
– Ах, ты! – кричал Борис, но трубку уже бросали.
– Подонки! Сколько подонков! – он весь пылал.
– Я тебе запрещаю подходить к телефону! – приказала Ирина.
– Нет, я должен им ответить, сейчас я им отвечу.
И вновь раздавался звонок.
Он сорвал трубку и сам перешел в наступление.
– Подонок, – сказал он, – и трус! Заткни свою поганую пасть! Тебе не удастся нас запугать!
– Я разве запугиваю? – раздался голос Борща.
– А, это вы, – облегченно вздохнул Борис, – простите, ради Бога.
– Ничего, ничего, – успокоил майор.
– Совершенно стало невозможно жить – угрожают, подкарауливают, кроют матом. В конце концов, об этом договоренности у нас не было.
– Что вы хотите, – объяснил Борщ, – взрыв народного гнева! Это должно вас радовать.
– Я не могу выйти на улицу! – возмутился Борис, – с чего это меня должно радовать?!!
– Поскольку все это показывает, насколько монолитно наше общество! И насколько оно не приемлет всякого инакомыслия и антисоветчины.
– Я не спорю, – ответил Борис, – общество, безусловно, монолитное, но как жить нам? Ни сна, ни отдыха измученной душе.
– Потерпите, потерпите, скоро все кончится, и вы спокойно поедете в тюрьму, – успокоил Борщ.
– Когда, – твердо спросил Сокол, – вы меня только кормите обещаниями!
– Вы это можете ускорить.
– Как? – уточнил Сокол.
– Давайте встретимся в ресторане «Садко», – предложил Борщ, – я вам всю объясню.
– Можно сейчас?
– Я не так голоден, но ради вас…, – в голосе Борща было что‑то отеческое.
Борис накинул пиджак и выбежал на улицу. Он торопился. Вышел со двора и быстро пошел по каналу в сторону улицы Бродского. Сзади он заметил машину, красный «Запорожец». Он свернул на улицу Ракова и тут опять заметил тот же красный «Запорожец». Он катил прямо на него. Он еле успел уклониться, но и машина уклонилась следом за ним. Некоторое время он уклонялся, как тореадор от быка, и, наконец, вскочил на тротуар, куда вскочила и машина.
– Это не проезжая часть! – орал ей Борис.
Но машина на слушала его и прямо по проезжей части катила на него.
Тогда он вбежал в вестибюль театра Музыкальной комедии – машина въехала и туда – видимо, она любила опереттку – и кругами пошла за ним. Он бегал вокруг фонтана, по вестибюлю, отчаянно оря:
– Это театр! Это театр!
Но машина, не реагируя, чуть не придавила его у кассы.
Тогда Борис выскочил на волю, понесся на площадь Искусств и там стал ходить зигзагами. Умная машина в точности повторяла его движения.
Он бежал, как молодой лось.
Машина нагоняла.
Как известно, скорость даже старой машины несколько больше, чем молодого лося.
Он чувствовал на своей заднице легкие удары «Запорожца».
– А – а! – визжал он.
Вокруг почему‑то никого не было. Кроме Пушкина. Работы Опекушина.
– Спасите, Александр Сергеевич, – взмолился он и полез на постамент.
Он карабкался по ноге великого поэта, по торсу, наконец, добрался до вытянутой в будущее руки и спрятался под ней.
«Запорожец» крутился внизу.
С высоты монумента Сокол показывал «Запорожцу» кукиш.
– Видали!
Машина покрутилась немного вокруг Александра Сергеевича, а потом уехала в сторону Петроградской стороны.
Сокол еще побыл некоторое время с поэтом, затем благодарно поцеловал его в уста, спрыгнул и пошел в ресторан.
Бледный, с дрожащими руками, он сидел перед Борщем.
– Если б не Пушкин, – сказал он, – если б не Александр Сергеевич…
Сокол не мог от волнения закончить фразу.
– Дорогой мой, – улыбнулся Борщ, – вы ведете себя, как ребенок. Ну чего вы испугались? Это ж был шофер первого класса!
– Какая разница? Мне что‑то все равно, кто меня задавит – шофер первого или третьего.
– Э – э, не скажите. Разница огромная. Неопытный шофер не мог бы повторять за вами ваши финты. Вы же были настоящий Пеле! Он бы наехал на вас в самом начале. Еще в театре Музыкальной комедии.
– Боже, какой ужас! Погибнуть в театре Оперетты! Какой кошмар.
– Не волнуйтесь, все позади.
– Что значит – не волноваться? Если б не Пушкин, вы б здесь жрали один!
– Пушкин здесь не при чем, – ухмыльнулся Борщ.
– Как прикажете понимать? – удивился Борис, – если б не Пуш…
– Я вас спас, а не Пушкин, – отрезал майор.
– Но разве машина могла б взобраться на Александра Сергеевича? – ужаснулся Борис.
– Если мы взбирались на Льва Николаевича и Федора Михайловича, что нам стоило взобраться на Александра Сергеевича? Вы же знаете, что Пушкин был совсем маленького роста, – Борщ смеялся откровенно, но сдержанно,
– Давайте‑ка, перекусим что‑нибудь, – предложил он.
– Секундочку, – остановил его Сокол, – скажите мне сначала, зачем вам все это понадобилось? Зачем вы это сделали?
– Мы были вынуждены, – печально ответил тот, – уже неделю о вас в западной прессе – ни строчки. Теперь у них пищи на месяц.
– Посадите в тюрьму, – жалобно попросил Борис.
– Рановато, – уклонился Борщ.
– Тогда я сейчас разобью зеркала, – пригрозил Борис, – или ударю официанта.
– Что вы? Он капитан, – объяснил Борщ.
– Тогда я дам пощечину той женщине.
– За что?
– Я хочу в тюрьму, вы понимаете!
– Я понимаю, но еще не время. На сегодня вы еще неприкасаемый.
– Почему, я разве западный дипломат?
– Вы выше. Вы должны совершить еще великое дело.
– Какое? – насторожился Борис.
И тут оркестр в ресторане «Садко» грянул «Калинку».
Майор Борщ улыбнулся и заказал медвежатину.
– Вы тоже возьмете, Борис Николаевич?
– Я не люблю медведя, – сказал Сокол, – я вам уже говорил.
– Ради Бога, я ж вас не неволю, – возьмите коня, лося, оленя. Борщ платит.
– Оставьте в покое жителей леса, – попросил Сокол, – возьмите мне водки и пять порций икры.
Борщ заказал.
– Борис Николаевич, – сказал он, – у диссидента не должно быть плохого настроения. Диссидент – оптимист. Он верит в жизнь! В завтра! А ну, улыбнитесь‑ка!
– Нет, – сказал Борис, – до водки не улыбнусь.
– А она уже вот, – Борщ открывал запотевшую бутылочку, – а ну, подайте‑ка улыбочку. Улыбнитесь!
– Кому, вам?
– Зачем? Жизни.
Сокол криво улыбнулся.
– Такой улыбкой можно спугнуть медведя, – констатировал Борщ, – ну, да ладно… Значит, Борис Николаевич, дело такого рода – надо создавать общество.
– Какое? – не понял Сокол.
– Тайное, – пояснил Борщ.
– Зачем? – Сокол заволновался, – зачем тайное общество?
– Для передачи власти, – спокойно объяснил Сокол.
– Кому?!
– Интеллектуалам.
– П – почему?
– Вы что, не любите интеллектуалов?
– А… о… обожаю.
– Так в чем же дело? Жрите икру, а то на нас смотрят.
– Умоляю, увольте, я на это не способен.
– Жрать икру?!
– На тайное…
– Не волнуйтесь, мы поможем, мы научим. Основной ваш тезис какой?
– Я не знаю.
– Слушайте! Главный ваш тезис таков: общество, где к власти могут придти безграмотные, мы уже создали. Давайте попробуем создать общество, где к власти могут придти эрудиты. Вам нравится ваш тезис?
– Это не мой.
– Мы вам его дарим. Повторите!
Сокол опрокинул бокал «Столичной», крякнул.
– Общество, – начал он, – где к власти могут придти идиоты, мы уже создали.
Борщ обиженно смотрел на него.
– Вы знаете, что этот стол прослушивается? – спросил он.
– Догадываюсь, – ответил Борис.
– Что ж вы порете чушь? Я разве сказал «идиоты»? Я сказал «малограмотные», те, кто неправильно говорят, пишут, делают ошибки в падежах, в ударении. Я, например, не могу правильно написать слово «интеллигенция». Хоть убей! Я в какой‑то степени малограмотный. Но разве я идиот?
Соколу хотелось сказать «да», но он воздержался.
– Бывает, кстати, и наоборот, – продолжил Борщ, – высокообразованные, но идиоты…
– Товарищ Борщ, – сказал Сокол, – говорите яснее, что я должен делать. Призывать к топору?
– Ни в коем случае. Никаких топоров! У штурвала страны должны стать высокообразованные люди, а не нынешние, которые в речи делают больше ошибок, чем в ней слогов. Вы помните, как говорили Хрущев, Брежнев?
– Припоминаю, – сознался Сокол. Он был уже пьян. – Короче, кому вся власть?
Борщ улыбнулся.
– Вам, Борис Николаевич!
Сокол подскочил.
– Мне?! Вы хотите, чтоб я стал президентом?
– Сядьте, успокойтесь, – попросил Борщ, – не вам лично. Я имею в виду людей театра, критиков, историков, философов. Одним словом, всех тех, кто является интеллигентом и умеет писать это слово без ошибок. Вы будете требовать поставить их у руля.
Сокол задумался.
– А почему бы их действительно не поставить? – спросил он.
– А вот этого не надо, – укоризненно сказал Борщ, – наш стол прослушивается. Вы не доедете до Запада…
– Пардон, – сказал Сокол, – перепил. Закажите водки еще…
– Достаточно, – отрезал Борщ, – вы не запомните ни названия, ни девиза.
– Чего?
– Слушайте. Тайное общество будет называться «Набат», девиз – «Вся власть – элите», цель – передача власти.
Сокол задрожал, как осина.
– Не могу, – чуть не заплакал он, – отпустите!
– Сможете, – успокоил Борщ.
– Но вы ж из меня делаете Азефа, провокатора.
– Вот здесь клянусь, – торжественно произнес Борщ, – на медвежатине, ни один из ваших членов не будет тронут пальцем. Ни Шустер, ни Аймла, ни Гурамишвили.
– А это кто? – удивился Сокол.
– Я ж сказал – члены «Набата». Представители трех национальностей. Немецкой, эстонской, грузинской. Как видите, принцип интернационализма соблюдается. О своем членстве в «Набате» они еще не знают. Все организуете вы. Вот их адреса, фото, биографии, вкусы и слабости. Изучайте – и за работу!
– Нет, – властно сказал Борис, – сначала водки!
И тут испугался майор Борщ.
– Еще?! – его красные глаза полезли на розовый лоб…
Сокол вышел на улицу Бродского. Его качало.
Перед глазами плыла на могучих волнах гостиница «Европейская». Затем она уплыла, и девятый вал принес здание филармонии. Он побрел к площади Искусств, к памятнику, и долго стоял перед великим поэтом, не решаясь тревожить его – Соколу казалось, что Алекандр Сергеевич спит.
Но Пушкин не спал.
Соколу показалось, что он подмигнул ему.
Если грусть к тебе нагрянет,
Не печалься, не сердись.
В день уныния – смирись!
День веселия верь – настанет, – сказал Пушкин.
– Не уверен, – протянул Сокол.
Затем, взобрался на постамент, вновь поцеловал солнце русской поэзии в уста, оглядел с высоты, нет ли поблизости красненького «Запорожца», спрыгнул и рысцой пошел к дому.
Весь вечер Ирина отпаивала Бориса, ставила ему на голову примочки, поила рассолом, поливала ледяной водой.
Ничего не помогало.
Сокол был подстрелен, на лету.
Подстреленный, он лежал в постели и голосил, как плакальщица. Соседи угрожали вызвать милицию, но он не прекращал. Никогда до этого он еще не создавал тайных обществ. Тем более, по передаче власти.
Естественно, он волновался и вопил.
Кроме всего, Борщ дал Соколу устав «Набата», размер членских взносов, программу и план действий.
В уставе была клятва верности на трех языках, в программе – въезд интеллектуалов в Кремль на белом коне. Сумма взноса была явно завышена. Ирина сделала ему успокаивающий укол. Он заснул, несколько успокоился. К трем ночи он вдруг проснулся и лихорадочно стал листать план действий, и вдруг зарычал.
В плане был захват самолета.
Он не умел угонять. Он не умел водить.
Он даже не летал на самолетах – его тошнило.
Прямо с кровати он позвонил Борщу.
– Вы охуели, – сказал Борщ.
– Я?! – возмутился Борис, – это я придумал угон?! Зачем угон? Какой угон?! Вся власть элите? Хорошо, но элита не умеет угонять!
– Научите! – приказал Борщ.
– Как, я же сам не умею!
Но в трубке уже раздавался храп.
Казалось, Борщ заснул, забыв ее повесить.
– Скотина! – произнес Сокол.
– Что вы сказали? – голос Борща был свеж и звонок.
– Это я жене, – признался Борис, – вся власть элите!..
Через несколько дней у комика Леви кончилась валюта. Он лежал на каменном полу большого заброшенного дома, среди ящиков и хлама, рядом с какой‑то черной накрашенной женщиной, которую он называл гурией.
– Я проститутка, – пыталась объяснить ему женщина, – я не гурия. Если ты мне не будешь платить – я позову полицию.
– Чем мне платить? – спросил Леви и вывернул пустые карманы. – И где моя группа?
– Группа, – усмехнулась проститутка. – Турка ты выгнал, а Омар в панике бежал.
– Причем тут Омар, дура? – спросил Леви. – Я – член творческой группы.
– Меня не интересует твоя бандитская группа.
– Ты права… Она действительно бандитская. Но я должен в нее вернуться.
Он встал и начал одеваться.
– Я с тобой, – сказала проститутка. – Возьмешь деньги у своих бандитов.
Леви повернулся к портрету Галеви.
– Иегуда, – спросил он, – что мне делать? Эта ненормальная хочет поехать со мной. Если они увидят меня с проституткой – они мне не простят. Ты же знаешь, что такое зависть… Они меня не воьмут с собой. Ты мне можешь ненадолго одолжить…
Он прервал беседу и обратился к гурии:
– Сколько тебе надо?
Гурия молчала, широко раскрыв рот.
– Говори быстрее, я не могу заставлять ждать великого поэта.
Проститутка начала лихорадочно одеваться и выскочила в окно.
– На каком мы этаже? – спросил Леви Иегуду.
Затем он снял Галеви со стены, упаковал в чемодан, попрощался с домом, поцеловал порог, который почему‑то пах кислым вином, и отправился в аэропорт.
Там он узнал, что его самолет улетел три дня назад, вместе с членом творческой группы Семеном Тимофеевичем…
Леви сел посреди летного поля и раскрыл чемодан. Со дна на него смотрел Галеви.
– Иегуда, скажи мне, что это – случайность или знамение?
– Сердце мое на Востоке, – произнес Иегуда со дна.
– Понял, – произнес Леви. – Значит, знамение. И я остаюсь, да? Что ж ты молчишь, учитель? Я остаюсь или улетаю?
– Ты остаешься, – ответил учитель…
Парижский театр Гуревича разочаровал. Казалось – всюду любители, причем ставящие свои первые спектакли. Многие пьесы были безобразны. Ему захотелось цензуры.
Он видел «Трех сестер». Режиссера надо было убить – все сестры ходили в мужицких сапогах, пили водку, а одна почему‑то все время напевала «Подмосковные вечера».
Он смотрел «Дядю Ваню» – режиссера надо было убить или переименовать пьесу в «Дядю Жан» – провинциальный русский герой прошлого века ходил в джинсах, курил «Мальборо» и носил под мышкой «Нувель Обсерватор».
Чехов в далекой России вертелся в гробу.
Оставшийся в туманном Ленинграде Олег Сергеевич казался Станиславским.
«На них бы приемочную комиссию», – мечтал Гуревич.
Но работать хотелось, руки чесались что‑нибудь поставить, показать этому непросвещенному обществу, на что он способен.
Он разослал сто «куррикулум вите», указав все свои заслуги и прочее. Откликнулся один режиссер, но великий. Он пригласил Гарика к себе, и Гуревич потащился в гору – великий жил на Монмартре, на самом верху. У великого все было белым – костюм, комнаты, слуга.
– Что будем пить? – спросил великий.
Перед Гариком высился белый стол, в углублении которого отдыхало по меньшей мере двести бутылок.
– «Цинандали», – попросил Гарик, чем поставил великого в неловкое положение.
В его коллекции «Цинандали» не было.
– Может, отведаете «Бордо», урожая 28–го? – спросил он.
– Давайте «Бордо», – согласился Гарик.
Они выпили, и великий рассказал Гарику всю свою жизнь, а потом сунул руку, и Гарик подумал, что он сейчас исчезнет в проруби, как светлой памяти Олег Сергеевич.
– Простите, – начал Гарик, – а работа?
– Какая? – удивился тот, – у нас сейчас 60 тысяч безработных актеров, мой дорогой.
– Я понимаю, но я хочу работать!
– Вы думаете, они не хотят?
– Но, простите, у меня талант, у меня слава, у меня…
– Проводите товарища, – сказал белый – великий белому слуге.
Гарик хотел задушить великого, но оказался уже на улице – белый слуга был чертовски силен.
И они втроем – Гуревич, его слава и его талант пошли напротив, в бистро, жевать поджаренный «крок мсье»…
Шустер был немцем, которого все принимали за еврея.
Если хотите, это была история с комиком Леви, только наоборот. Шустера обзывали жидовской мордой, убийцей Христа и жалели, что его не придушил Гитлер.
Вначале он объяснял людям, что он германец, потомок Гутенберга, который изобрел машину для печатания и в восемнадцатом веке перебрался в Россию.
Его не слушали, ему отвечали, что он типичный Хаим, и что, помимо всего, печатную машину изобрел не какой‑то там Гутенберг, – наверное, тоже еврей, – а чистый русский, товарищ Федоров,
Со временем Шустер перестал объяснять свою национальность.
«Еврей – так еврей, – думал он, – что поделать?»
Его бесконечно посылали в Израиль, называли прожженным сионистом, израильской военщиной.
Он молчал. И, наконец, решил уехать к себе на Родину. В Федеративную Республику Германию.
Предки его были из Кельна, кто‑то из них даже возводил собор, кто‑то участвовал в создании одеколона.
Ему вдруг ужасно захотелось на берега Рейна, к кельнской водичке, и он подал.
Это случилось после того, как он из Шустера внезапно превратился в Рабиновича.
Это длинная история.
И не смешная.
Зачем рассказывать длинные и несмешные истории?
Хотя… Если укоротить.
Так случилось, что Шустер когда‑то отдал свою премию на постройку детского лагеря. Долго что‑то там строили в лесу и, наконец, его пригласили на открытие. Он поехал с женой, на электричке, потому что у машины, которая всю зиму простояла под снегом, когда они его счистили – не оказалось двух колес. А при ближайшем рассмотрении – и мотора.
Вот они и поехали на электричке.
Неизвестно, случайно или нет, но детский лагерь находился как раз на станции Репино, бывшей Куоккола, где когда‑то вышел из моря гений Гуревич.
Жена его осталась в лесу, она не хотела идти, и Эрик пошел к детям сам. У ворот его встретила директриса в бежевом кримпленовом платье.
– Товарищ Рабинович! – раскинув руки, пошла она навстречу.
Шустер остолбенел.
– Моя фамилия Шустер, – представился он.
– Очень приятно, товарищ Рабинович, – ответила она, – а моя – Морозова. Проходите, раздевайтесь.
– Товарищ Морозова, меня зовут Шустер.
– А меня Галина Николаевна. Дайте мне ваше пальто, товарищ Рабинович.
Шустера закачало. Он раздел пальто, отдал его Галине Николаевне и начал думать, как бы ей втемяшить свою настоящую фамилию.
– Товарищ Морозова, – начал он, – тут какое‑то недоразумение, но моя настоящая фамилия…
Закончить она не дала.
– Это не имеет никакого значения, товарищ Рабинович, потому что мы ее все равно сейчас поменяем.
– Это в каком смысле?
– Да вы не волнуйтесь. Сейсас мы начинаем, и я бы хотела вас представить детям под псевдонимом.
– А – а, – засмеялся он, – так Рабинович – это мой псевдоним?
Теперь заржала она.
– Рабинович – псевдоним?! Вы издеваетесь? Я предлагаю вам настоящий псевдоним, продуманный. Кириллов! Вам нравится? Или Петухов.
– Не понимаю, – ответил Шустер, – а чем плохо Рабинович?
Он начинал путаться, – видимо, товарищ Морозова его запутала.
– Что вы, – всплеснула руками директиса, – Рабинович – замечательно! Но дети могут неправильно понять…
– В каком смысле?
– В религиозом.
– П – простите?..
– Рабинович – это что, это раввин, да?..
– Вроде, – растерялся Эрик.
– А раввин – это поп, так? Поп или нет, я вас спрашиваю?
– В каком‑то роде…
– Правильно! А у нас церковь отделена от государства. Тем более – от детей! Поэтому я и прошу вас удовлетворить мою маленькую просьбу.
«Рабинович» задумался.
– А радио? – вдруг спросил он.
– Что радио?
– Кто радио изобрел?
Антонина Тарасовна знала. Но забыла. Поэтому она сказала:
– Наш, русский изобрел! А в чем дело?
– Совершенно верно, – произнес новоиспеченный Рабинович, – Попов изобрел. Дети Попова знают?
– Еще как!
– А поп – это раввин, так?
Морозова растерялась.
– Вроде, – сказала она.
– Так в чем дело? – спросил Эрик. – К тому же моя фамилия Шустер.
Она долго и тупо смотрела перед собой.
– В общем, если вы хотите называться Поповым, – предложила она, – я представлю вас детям Поповым. Ладно?..
– Нет, – сказал Шустер, – не представляйте меня детям, товарищ Геббельс.
– Что, – не поняла она. – Моя фамилия Морозова.
– Всего хорошего, мадам Риббентроп, – попрощался Эрик. И ушел!
Наверное, это было последней каплей.
И он подал.
И вот третий год сидел в дерьме.
Или в отказе.
Что, впрочем, одно и то же.
Ему отказывали в визе на его историческую родину, в Германию, под предлогом, что он знает какую‑то тайну.
Но какую – не знал никто, даже сам Шустер.
Всю жизнь он был связан с физикой, но не открыл ничего.
Возможно, это и была тайна.
В дерьме сидел он вместе с женой, сидел и думал – чем еще можно заниматься в дерьме, и на четвертый год сидки что‑то открыл.
Это было неожиданно, и Эрик боялся признаться в этом даже себе.
Узнай об этом компетентные органы – его б уже не выпустили ни за что и никогда.
А так – оставалась надежда, его вечная спутница, которая вам машет крылом из высокой синевы и вам становится легче дышать.
Если можно легко дышать в семьдесят восемь.
Да, Шустеру исполнилось именно семьдесят восемь, и жена его пошла за тортом – они справляли вдвоем. А Шустер смотрел в окно на тоскливый пейзаж и ждал ее.
В дверь позвонили. Он открыл.
На пороге стоял Боря Сокол.
Когда Сокол увидел Шустера, он понял, что об угоне самолета не может быть и речи.
Дай Бог, чтоб Шустер поднялся по трапу.
Весь вечер Сокол рассказывал Эрику о тайном обществе «Набат», о его задачах и планах.
Старый физик ничего не понимал.
– Простите, – говорил он, – какая передача власти? Кому?
– Элите, – объяснял Борис, – вам.
– Зачем мне власть? На кой…
– Не хотите – не надо. Возьмем – потом отдадим. Членские взносы небольшие… Устав вам нравится?
– Как вам сказать…
– Это и не важно, можно заменить. А девиз? «Вся власть элите!» Каково?
– Вы можете уточнить?
– Ради Бога. Историкам, критикам, философам. Короче, всем тем, кто не делает ошибки в слове «интеллигент».
– Позвольте, – вдруг спросил Шустер, – а что, физиков в вашей элите нет?
Сокол точно не знал.
– Ничего страшного, – сказал он, – нет, так будут. Девиз меняется: «Вся власть элите и физикам!» А, каково?
Шустера качало, было поздно, ему было семьдесяь восемь.
– По – моему, неплохо, – выдавил он.
– По другим пунктам возражения есть?
– Н – нет…
– Поздравляю с принятием в тайное общество «Набат» – произнес Сокол, – гоните семь восемьдесят…
Испания в это время переживала эпоху Ренессанса – не раннего, не среднего – позднего. Всегда, когда подыхает диктатор – наступает Ренессанс. И лучше поздний, чем никакой. Расцвела литература, поэзия, моды, музыка, торговля – Испания переезжала из Средневековья в двадцатое столетие, и совершать такой переезд без евреев, которых изгнали пятьсот лет назад, чтобы они не мешали погружаться во тьму – было невозможно. Как известно, евреи очень помогают при таких переездах – они хорошо тянут воз. И Испания пригласила изгнанных евреев вернуться. Вернее, их потомков.
А Леви уже был здесь, его не надо было даже и приглашать… Когда он появился в полиции и заявил, что он потомок, причем просвещенный – ему тут же предложили впрячься в повозку Ренессанса…
И он отправился по театрам с конкретным и ясным предложением – воплотить на испанской сцене образ великого средневекового поэта…
Все режиссеры горячо поддержали комика Леви, хотя «великого» знали плохо, но они всецело доверяли вкусу и таланту бывшего члена творческой группы…
– Ради Бога, – говорили режиссеры, – приступайте.
– То есть, вы разрешаете? – не понимал коллега.
– Ну, конечно.
– И я могу ставить спектакль по пьесе, которую я написал?
– Можете.
– Но вы же ее не читали.
– Мы вам всецело доверяем.
– Тогда ее нужно срочно отправитть цензору, чтобы получить разрешение, – говорил обалдевший Леви.
– Родной мой, – напоминали ему, – Франко же нет.
Потрясенный Леви бросался обнимать режиссеров.
– Приступаю к постановке, – возбужденно кричал он.
– Хоть сегодня.
– Значит, так, – сообщил он, – в главной роли – я!
– Потрясающе!
– Режиссер – Гуревич!
– Очень хорошо.
Леви не верил своим ушам.
– Где бы я мог познакомиться с остальными участниками?
– На бирже… Они все там. И прекрасные…
Леви был на седьмом небе.
– Выбирайте лучших… и сколько надо.
– Вы не ограничиваете?
– Боже упаси.
– А – а… бюджет? Ваш бюджет выдержит?
– У нас нет никакого бюджета… Бюджет ваш. Театр наш – бюджет ваш. И приступайте…
– Но у меня нет ни одной пессеты, – и он выворачивал пустые карманы, как будто перед ним была гурия.
– Нет пессеты – нет Иегуды, – ответили ему на берегу Гвадалкивира…
Примерно то же самое говорили гению Гуревичу на берегах Сены, правда, с некоторыми незначительными изменениями.
– Нет франков – нет Отелло, – говорили ему…
Он слег. Он лежал в своей мансарде, луна била ему через чердачное окно прямо в глаза, и не было даже Сокола, чтобы заслонить ее….
«Подонки, – думал он, – что за херня получается… Нет свободы – есть деньги, есть свобода – нет денег…»
Перед его взором вдруг возник долговязый Анкл Майк.
«Гурвиц, – говорил он, – что такое свобода без мани? Насинг!.. На сиэтре, май дарлинг, мани не заработаешь.»
– Шат ап! – закричал гений Гуревич и хотел схватить «Анлкла» за горло. – С моим талантом?!
Но «Анкл» испарился…
Сокол прилетел в Тбилиси ранним утром и прямо из аэропорта позвонил Тенгизу Гурамишвили.
– Камарджоба, генацвале, – приветствовал тот, – встрэчаэмся нэ у мэня, у Грибоэдова.
– Это, простите, где?
– Могила. На Мтацминда.
– А как же я ее найду?
– Это самый красивый могил в мире, генацвале! Увидишь плачащий девушка – это Грибоедов.
Сокол потащился на Мтацминду. Была поздняя осень. В теплом тумане стояли полуголые деревья хурмы, текла Кура, висели портреты Сталина – одного, с сыном, с детьми. Нигде в России он не видел этих портретов, этот великий бандит висел только в Грузии.
Гора была не крутая, но Сокол устал.
Гурамишвили уже ждал его. На могиле. В слезах.
– Хомейни проклятый, – причитал он, – такого человека убили. Такой девушка без любимый оставил.
Гурамишвили часа полтора повествовал Соколу о великом Грибоедове, цитировал целые страницы из «Горе от ума», в подробностях показывал, как зарезали драматурга кровожадные персы.
Сокол ждал, ему было даже интересно, когда‑то он играл Чацкого. Гурамишвили знал все роли и тут же, на могиле, они исполнили сцену Софьи Павловны и Чацкого в доме Фамусова. Потом Тенгиз повел Сокола в чебуречную, и они съели по восемь чебурек, по три чанахи и по шесть шашлыков.
Выпито было семь бутылок «Макузани». Сокол переел, перепил, забыл совершенно, зачем прибыл, и писал, как пес, под каждым деревом, только чаще.
Гурамишвили рассказывал про маму, Грибоедова и Сталина.
Сталин в его рассказах был коварен, кровожаден и зол. Он убил его дядю, уничтожил грузинскую интеллигенцию, писал плохие стихи.
Но каждый монолог заканчивался тостом в честь мудрого вождя.
– Не потому, что он бандыт, – объяснял Тенгиз, – а потому, што вэлыкый!..
Больше всего Гурамишвили не уважал Сталина за зубы.
– Крэвыэ, – говорил он, – как у шакала.
И вновь поднимал тост.
Зубы играли большую роль в жизни Тенгиза Гурамишвили. Из‑за них, в общем‑то, он и стал диссидентом.
Тут надо сказать, что Гурамишвили был зубным врачом. И, наверное, хорошим, потому что в перерывах между бокалами он спрашивал:
– Ты знаешь, сколько я зарабатывал, генацвале?
Сокол не знал. А Гурамишвили не говорил. Может, он боялся напугать Сокола – неизвестно.
Известно только, что однажды, кажется, утром, когда быстрая Кура несла свои воды, уже не помню, в какое море, Тенгизу надоело копаться в зубах. Во всяком случае, в традиционной позе – стоя, склонившись над пациентом. Болели плечо, спина, шея.
И он придумал новое кресло. С ним должны были пройти все боли, поскольку кресло было гениальным – голова пациента с этим креслом находилась между ног зубного врача, причем зубной – сидел.
Он начал носиться с этим креслом, требовал патента, предлагал медицинской промышленности, частным врачам – все ворочали носом. Он возмутился и стал диссидентом.
После этой трагической истории Сокол несколько протрезвел и вспомнил, зачем он прибыл на гостеприимную землю.
Идея Гурамишвили понравилась. Тайное общество его влекло. И вообще – все тайное. Он загорелся, тем более, что и Грибоедов был членом тайного общества, и декабристы, с которыми он был близок.