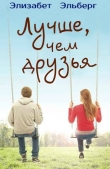Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Товарищ Борщ вас ждет на третьем этаже, – мягко произнес он, – вторая квартира слева от лифта.
– Мы можем идти одни, – удивилась Ирина, – без сопровождения?
– К сожалению, нам нельзя, – застеснялся Зубастик, – не приглашены.
Важных гостей майор любил встречать не в своем кабинете, в сером доме на Литейном проспекте, – а в своей шикарной квартире, которую Киров за выдающиеся заслуги предоставил его отцу. Одна из комнат квартиры была превращена в уникальный музей. Музей был ровесником революции. Первым его экспонатом было перо Гумилева, добытое еще дедом.
Перед принятием ответственных решений Борщ облачался в халат Пастернака и отправлялся в музей. Он усаживался на ветхий стул, на котором сиживал Бабель, опирался руками на стол, за которым в Воронеже работал Мандельштам, и закрывал глаза. Очевидно, незримое присутствие великих каким‑то странным образом влияло на майорский мозг.
Во всяком случае, минут через десять он выходил из кабинета, окрыленный, с готовым решением…
Борщ встречал гостей в дверях, в мундире, с цветами в руках.
– Спасибо, что пришли, – волнуясь произнес он, вручая Ирине огромный букет и галантно целуя руку.
Возбужденный Борис вошел в квартиру, словно Отелло в Синьорию после победы на Кипре. Ирина была бледна, будто двадцать минут назад ее действительно душили.
Они прошли в комнату, на стене которой висело огромное полотно.
Дзержинский задушевно беседовал с чекистами. Очевидно, решался вопрос – кого повесить, кого – расстрелять, а кого – просто засунуть в паровозную топку.
Боря вздрогнул и отвернулся.
– Кто вы, – обратился он к майору, – и что происходит?
– Я – Борщ, – улыбнулся Борщ, – майор. Но прежде всего я – ваш поклонник. И, заметьте – горячий. Я слежу за вами уже давно. С вашей первой роли. Как вы бесподобно играли Хлестакова! Я смеялся громче всех. Да вы, наверно, это заметили. Я гоготал в третьем ряду, на двадцать шестом месте. Помните? Уже тогда я говорил, что из вас выйдет замечательный артист. И, как видите, не ошибся.
– Вы не могли сказать мне этого в театре, за кулисами? – спросил Сокол.
– О чем вы говорите, – всплеснул руками Борщ, – к вам не пробиться! Я пытался несколько раз… Вы помните, как вы сыграли Иванова?
– Помню, – сознался Борис.
– Как вы тогда кричали: «Оставьте меня! Оставьте меня!» А потом застрелились. Это было восхитительно. Я рыдал, как ребенок. Да вы, наверно, это заметили. Я рыдал во втором ряду, на двенадцатом месте.
– Мне кажется, вы были бы не против, если бы я действительно застрелился, – заметил Борис.
– Ну и шуточки у вас, – сказал Борщ и рассмеялся. – Когда я узнал, что вам поручили роль Ленина – я две ночи не мог уснуть. Я был рад, что смогу увидеть, наконец, настоящего Владимира Ильича, – с большой, львиной головой, не картавящего, с мощными бицепсами, огромного – гораздо выше всех этих пигмеев, всех этих Каменевых, Зиновьевых, Троцких.
– Троцкий в жизни был выше Ленина, – заметила Ирина.
– И это говорит Дездемона! – вскрикнул Борщ. – Та самая Дездемона, которая заставила меня сегодня трепетать!
Майор грациозно, как венецианский дож, поднялся со стула и вновь чмокнул руку Ирины.
– Вы были на спектакле? – удивилась она.
«Венецианский дож» закрыл глаза.
Но не пролью я крови!
И этой кожи, что белее снега
И глаже алебастра всех гробниц,
Не тронет нож!…
– продекламировал он. – Как вы это сегодня произнесли!
Ирина побледнела. В исполнении Борща бессмертное произведение приобрело совершенно иной смысл. И было такое ощущение, что если ему будет нужно, он и кровь прольет и тронет ножом кожу…
– Вы плохой актер, – сказала она.
– Зато я хороший майор, – заметил майор и рассмеялся.
– Почему вы все столько смеетесь? Вы, ваши люди.
– Лучше бейте меня, но дайте мне посмеяться, – процитировал Борщ.
«Если бы это было в моих силах, – подумала Ирина, – ты бы у меня смеялся всю жизнь…»
– Я все‑таки предпочитаю второе, – заметил Борис.
Наступила тишина. Казалось, что даже Дзержинский с портрета прекратил беседу с чекистами и внимательно следил за беседой с Соколами.
– Ну, так чем мы обязаны такому визиту? – спросил Борис.
Веселый майор долго смотрел на черное лицо мавра, потом на бородатое лицо своего шефа с портрета, видимо, советуясь с ним.
– Я хочу вам предложить роль, – наконец, четко произнес он.
Соколы удивленно переглянулись.
– Вы собрались менять профессию, – догадался Борис, – переходите в режиссеры?
– Ну, что вы, – опять засмеялся майор. – Для этого надо иметь талант… Но я ваш коллега.
– Это в каком смысле? – поинтересовалась Ирина.
– А в том, уважаемая Ирина Александровна, что весь мир – театр, и все люди лицедействуют, а?
– То есть вы – лицедей? – уточнил Борис.
– Если хотите – драматург. И не смотрите так на мои погоны. Их носил, если не ошибаюсь, и Лермонтов?..
Откуда он это знал – неизвестно. Даже его деду не приходилось встречаться с великим русским поэтом…
– Итак, – продолжал майор, – как мне известно, вы мечтаете, и не раз заявляли об этом в прессе, сыграть роль нашего современника?
– И вы хотите написать для нас пьесу? – уточнил Борис.
– Я ее уже написал, – вновь улыбнулся Борщ.
«А почему бы ему не написать, – подумал Борис. – Сейчас все идиоты пишут. Чем он хуже их?»
– Комедию? – уточнила Ирина.
– Как вы отгадали? – обрадовался Борщ.
– Вы такой веселый, – объяснила она.
– В двух актах. Причем, главные роли исполняете вы. А? Как вам это нравится?
– Интересно, интересно, – пробурчал Борис, – я – майор госбезопасности, а она – мой верный друг и советник?..
Майор хитро взглянул на мавра.
– Я не пишу тривиальных вещей, – объяснил он. – Да, я знаю, что сейчас все идиоты пишут… – Борщ выразительно посмотрел на Бориса.
Мавр вздрогнул.
«В этой квартире надо как можно меньше думать, – подумал он. – Похоже, что этот майор читает мысли.» И вновь испугался: «Боже, что же это я такое думаю…»
– Если уж я сочиняю, – продолжал Борщ, – то обязательно что‑нибудь оригинальное. И поэтому для вас я написал роль диссидента.
– Для меня?! – веницианский мавр подпрыгнул.
– А для Ирины – жены диссидента!
Здесь подскочила и жена «мавра». И оба они застыли перед лукавым взглядом майора.
– Ну, как вам нравятся ваши роли?
Прежде, чем ответить, Борис хотел было подумать, но, памятуя о прозорливости Борща, испугался.
– Даже и не знаю, – сказал он, не думая, – я ведь всегда играл положительных героев – передовиков производства, крупных военачальников, секретарей парторганизаций. Вы понимаете?..
– А Клавдий? – хитро спросил майор. – Тоже положительный персонаж?
– Во всяком случае, он мне ближе, чем любой диссидент.
Борис воодушевленно порол чушь, твердо зная, что за Клавдия ему ничего не будет.
– Скажем, – продолжал он, – с крупным военачальником мой душевный строй, многие мои мысли совпадают… конечно, не считая тех, которые не совпадают… а с диссидентом…
– Многие ваши мысли не совпадают, не считая тех, которые совпадают? – смеясь, закончил Борщ.
– У меня с ними нет ничего общего! – закончил Борис, не пытаясь больше философствовать.
– Будет, – подмигнул майор, – будет, если постараетесь.
– Но он играл товарища Ленина, – напомнила Дездемона. – Не забывайте!
– Вот именно, – обрадовался Борис, – а теперь вы мне вдруг предлагаете сыграть Сахарова!
– Кто вам сказал?
– Или Солженицына. Как я могу играть такого человека?.. Помните сцену в «Архипелаге Гулаге», когда…
Борис запнулся.
«Боже, что я несу», – подумал он. Но было поздно.
– Нет, не помню, – ухмыльнулся майор. – Ну, и как вам понравился «Архипелаг»?
– Я его никогда не читал!
– Это бывает, – печально покачал головой Борщ. – Я ведь его, можно сказать, тоже не читал. А все помню… Тайны мироздания… Так какую сцену вы имели в виду?
– Как какую? Театральную… Я ж на сцене с девяти лет… Я ж мальчиком пришел в театр, из беспризорников, сразу после войны…
Сокол с опаской взглянул на прищуренные глаза Дзержинского и его подручных. Ему показалось, что именно в эту минуту «железный Феликс» отдает распоряжение о его ликвидации…
– Я играл «сына полка», юного разведчика, сирот, – понесло Бориса. – Спал прямо в зале. На полу. Почти не ел. Вы знаете, тогда был голод… Вернее, не голод, а просто нехватало продуктов. Немножко… Однажды так подвело живот, что во время спектакля я начал есть бутафорский батон. И поломал зубы. Не все… Некоторые… Вот, видите…
С перепуга «мавр» открыл рот и пошел на майора. – Я не дантист, – вежливо заметил майор, – и потом – вроде зубы все на месте.
– Выросли новые, – объяснил Борис, – я же тогда был еще мальчишкой…
– И к тому же, – продолжил Борщ, – я, как вы заметили, знаю всю вашу биографию… Если вы помните, я ваш поклонник.
Он ухмыльнулся.
– Если вы наш поклонник, – резонно спросила Ирина, – почему ж вы нас заставляете играть диссидентов – врагов народа? Почему бы нам не сыграть его друзей?
– Послушайте, – мягко произнес майор, – я обожаю театр, вы это уже, очевидно, заметили, но жизнь я люблю больше. Бумажным страстям я предпочитаю подлинные, и бутафорскому батону, о который мой любимый актер сломал свои молочные зубы, я предпочту горячий и хрустящий…
– Так их тогда не было, – в смятении вставил Борис.
– Я люблю, – продолжал «дож», – когда смеются не по указанию режиссера, а потому, что умирают от смеха, и мне нравится море, а не синие простыни, которые колышут два ассистента, и негры по рождению, и не намазанные ваксой, и чтоб волоы седели от страха, а не от перекиси водорода. Театру я предпочитаю жизнь. И роли ваши вы должны будете играть не на сцене, а в жизни!
Борис с некоторым ужасом смотрел на майора. Ирина уронила платочек.
– Это еще зачем? – спросила она.
– Милая моя, – взмолился Борщ, – неужто не ясно? Вы производите впечатление очень сообразительных людей… Чтобы посадить вас в тюрьму! Зачем же еще?…
Бориса качнуло. Он почему‑то явственно себе представил, как летят его зубы, и не от бутафорского батона, а от кулака надзирателя.
– Его в тюрьму?! – вскричала Ирина, указывая на Бориса.
– Не волнуйтесь, – успокоил Борщ, – вас тоже.
Он нагнулся, поднял платочек и галантно подал его Ирине.
– Разве вы об этом не догадались еще в машине? – удивился майор.
– Догадались, – призналась Ирина, – но мы бы хотели знать: за что? Хотя, – она печально улыбнулась, – вы можете посадить и просто так. У вас это прекрасно получается. Простите мой глупый вопрос.
Майор был искренне возмущен.
– Запомните, – строго произнес он, – эти времена канули в лету!
– Тогда за что же? – спросил несколько оправившийся Борис.
– Вы меня удивляете, – произнес Борщ. – От вас я этого не ожидал… Как это – за что?! Да за то, мои дорогие, что вы – диссиденты! Просто, как дважды два!
– Теперь все ясно, – «мавр» вытер пот со лба, – вы хотите из нас сделать диссидентов, чтобы посадить в тюрьму, а посадите в тюрьму за то, что мы – диссиденты.
– Что ж вы делали вид, что ничего не понимаете? – обрадовался майор.
– И сколько лет мы будем сидеть? – спросила Ирина. – Я надеюсь, что это уже известно?
«Все‑таки мы живем в замечательной стране, – подумал майор. – Никто не возмущается, не спорит, не дискутирует. В тюрьму – так в тюрьму, на каторгу – и туда все готовы. Каких удивительных людей мы сумели создать!»
Он с нежностью посмотрел на Бориса и Ирину.
– Не волнуйтесь, – мягко сказал он, – вы выйдете очень быстро… Ведь вам надо ехать на Запад. Вернее, мы вас туда вышлем…
Соколы окончательно одурели. Но кто знает, какие светлые перспективы могут неожиданно открыться перед простыми советскими людьми?..
– Зачем? – тихо спросил Борис.
– Что значит – зачем? – непонимающе проговорил майор. – За бомбочкой!
– Какой бомбочкой?!
И тут майор поднялся, бросил взгляд на «железного «Феликса, и Борису показалось, что тот одобрительно кивнул ему. Стало ясно, что «дож» будет произносить речь. И, действительно, голосом диктора, зачитывающего заявление ТАСС, он начал:
– Империалистические круги Франции и Израиля заняты разработкой новой, ужасной бомбы. Она падает – и все, что вы видите вокруг – заводы, фабрики, дома и даже театры – все остается…
– Так у нас уже, по – моему, такая есть, – сказала Ирина. – Нейтронная?..
– Если бы… – перебил Борщ. – Все люди тоже остаются…
Соколы переглянулись.
– Простите, – начал Борис, – я не понял… Вы что, хотели бы, чтобы всех людей уничтожили?.. Но, насколько я знаю, политика нашей любимой партии и правительства…
– Оставьте партию и правительство в покое, – попросил майор, – и не мешайте им бороться за мир во всем мире!
– Боже упаси! – сказал Борис. – Пусть борются… Мне просто кажется, что империалистические круги придумывают очень удобную бомбочку. Если все остается… Зачем им мешать? В чем тут дело?
– В голове! – сурово ответил майор, – в голове все меняется.
«Может, она уже упала, – испуганно подумал Борис, – и потрогал голову. – Последний час с ней происходит что‑то странное…»
– В зависимости от капсулы, – продолжал Борщ, – так сказать, начинки, меняется ваша идеология. Теперь вы представляете, что это за бомба?
– Идеологическая? – тихо спросила Ирина.
– Если хотите! Это идеологическое оружие, которое пострашнее бактереологического! Бомба разрывается – и вы вдруг становитесь социал – демократом, черным полковником, троцкистом, оппортунистом, христианским демократом или сионистом! Вы представляете – наш могучий Советский Союз становится сионистской державой, где заправляют пейсатые! Наш Верховный Совет превращается в крикливый Кнессет, красная звезда – в желтую звезду Давида, златоглавые церкви – в синагоги, и, наконец, мы все начинаем картавить!
Было бы некоторым преувеличением сказать, что возможные последствия взрыва бомбы заставили Бориса и Ирину дрожать от внезапно охватившего их ужаса. Не то, чтобы они захотели стать ни с того, ни с сего евреями, нет, но им вдруг показалось, что в этом есть что‑то заманчивое. Окружавшие их евреи были людьми интеллигентными, яркими, своеобразными. И кто знал – может, бомбочка была именно тем путем, по которому следовало идти?… Но вот то, что они начнут картавить – было ужасно. Это их пугало.
– Нет, так дело не пойдет – картавить! – сказал Борис. – Как же это так?.. Мы ж играть должны. У нас положительный герой не картавит. Нам с Ириной только и остается, что Ленина играть. На сей раз картавого. Нет, нет, мы ж на сцену не сможем выйти…
– Вот именно, – поддержал Борщ, – даже играть не сможете! Поэтому я вам и предлагаю стать диссидентами и отправиться в тюрьму. А потом выехать за бомбочкой. Теперь все ясно?
– Кроме одного, – сказал Борис. – Какова связь между диссидентами и бомбочкой?
– Прямая, – объяснил майор. – Только диссидент и никто больше может ее выкрасть. Кого еще они там обожают? За кого так борются и горланят? Кого встречают с распростертыми объятиями?! Они будут молить о вас – и они вас получат!
Майор расхохотался.
– И вы выкрадете бомбочку, и мы зарядим ее, чем надо, и тогда уже будет не Эрэц Исраэль, а Израильская Советсая Социалистическая Республика, и не будет Сенатов, а только Советы.
Соколы сидели, потрясенные. Возможно, им было жаль Израиль, которому была уготована участь стать шестнадцатой республикой…
– Вам выпали гениальные роли, – продолжал Борщ, – вы войдете не только в историю театра, но и в мировую историю… Скоро, скоро Запад начнет молить о вас!
Глаза майора мечтательно горели. Борис был растерян. Его совершенно не тянуло входить в мировую историю. Он никогда не мечтал о славе Александра Македонского, Наполеона, или, на крайний случай, генералиссимуса Суворова.
– Скажите, – робко спросил он, – а нельзя ли, чтобы Запад молил о ком‑нибудь другом?
– Кого вы имеете в виду?
– Ну, я не знаю… Кого‑нибудь из ваших людей… Профессионалов. Например, этих двух, которые нас доставили к вам…
– Исключено, – развел руками Борщ, – они не справятся с такой ролью.
– Как, они же могут сыграть и Дездемону, и платочек, – напомнила Ирина.
– Но не диссидента.
– Диссидента сыграть труднее, чем платочек? – поинтересовался Борис.
– Увы, – произнес майор. – Наших узнают по лицам со спины. А теперь взгляните на себя.
Борщ повел их к зеркалу, и Борис с Ириной долго разглядывали свои покрытые гримом, растерянные лица.
– Ну, чувствуете разницу? – спросил майор.
– Вы хотите сказать, что у нас лица диссидентов? – осторожно спросила Ирина.
– К сожалению, – вздохнул «мавр». – У них время от времени встречаются очень симпатичные морды…
– Спасибо, – поблагодарил Борис. – Ну, допустим, вам удастся из нас сделать диссидентов… Но какие из нас шпионы?
– Великолепные!
– Вы ошибаетесь, – произнес Борис, – я вас уверяю! Мы совершенно не подходим! Мы не умеем следить, наблюдать, подслушивать, если уж вам обязательно нужны артисты – то даже в нашем театре есть люди, которые подошли бы для этой роли гораздо лучше. Понимаете, у нас совершенно иное амплуа… Смешно сказать, мы даже не знаем, кто с кем живет.
– Я знаю, что вы не знаете, – улыбнулся майор. – И поэтому мы вас выбрали. Вы чисты, как Отелло, а вы – как Дездемона.
– Простите, – спросила Ирина, – о чем идет речь: о чистоте или о шпионаже?
– М – да, – произнес Борщ, – у вас какое‑то превратное впечатление об этом. Если хотите знать, для меня шпион – это прежде всего личность благородная, как вы говорите – положительный герой. Вас сам Бог, которого нет, создал шпионами!
«О, Боже, – подумал Борис, – кажется, ты меня заставляешь вынести все, что я способен вынести. Но зачем?!»
– Если угодно, – пояснил свою мысль майор, – пример благородного шпиона – это Прометей, укравший у богов огонь, чтобы отдать его нам!
– Ну, знаете, – развела руками Ирина, – это уж слишком! Я даже не знаю, что сказать…
– Если нечего сказать, ничего и не говорите, – оборвал ее Борщ. – Первые люди, если хотите, были и первыми шпионами.
Борис, раскрыв рот, настороженно смотрел на теоретика шпионажа.
– За что, по – вашему, изгнали из рая Адама и Еву, – продолжал развивать свою мысль теоретик, – не за грехопадение же, в самом деле!
– Очевидно, за шпионаж, – сострил Борис.
– Да, именно за него, – убежденно произнес Борщ. – Адам узнал государственный секрет Евы, а Ева – Адама! И Богу, которого нет, ничего не оставалось, как выслать их из рая, которого, впрочем, тоже нет… С тех пор шпионаж поселился на нашей грешной земле!
Борис покачал головой.
– Оригинальная концепция нашего мира, – сказал он.
– Спасибо за оценку! – поблагодарил Борщ.
Он приблизился к ним, обнял за плечи и подвел к «железному» Феликсу. Очевидно, для благословения.
– Ну, что ж, – подытожил майор, – роли распределены, можно приступать к репетициям. С завтрашнего дня начинайте понемногу вживаться.
– Что вы имеете в виду? – уточнила Ирина.
Входите в образ. Поругивайте власть, рассказывайте анекдоты, посмеивайтесь над нами – в общем, как полагается, – улыбнулся Борщ.
«Да, – подумал Борис, – если дела не идут к лучшему, то они обязательно пойдут к худшему».
– А если эти роли нам не понравятся? – осторожно поинтересовалась Ирина.
Улыбка не сошла с майорского лица.
– Жизнь, мои дорогие, многое заставляет делать добровольно, – мягко произнес он.
Утром в костюме полковника – Котлевич был военным и в описываемый момент испытывал в Средней Азии новые баллистические ракеты – Леви покинул квартиру Анны Иоановны.
Тело ломило и, казалось, оно было деформировано – его мускулистая грудь вдруг оказалась впалой, ребра были вдавлены, как пружины матраца. Кто держал на себе мадам Котлевич – тот поймет…
Проходя мимо своей двери, Леви злобно пнул ее ногой – и она вдруг растворилась.
Он обалдел.
– Ты все‑таки услышал меня, Иегуда, – произнес Леви, – но объясни мне – почему только к утру? Почему к свету обязательно идти через страдания? Я знаю, что ты был гуляка, но, прости меня, я сомневаюсь, что на тебе когда‑нибудь лежало нечто похожее на донну Котлевич.
Галеви хитро улыбался с портрета.
– Не может быть! – воскликнул Леви. – Впрочем, кто знает твои сексуальные возможности… Послушай, Иегуда, я должен тебе сказать нечто очень важное. Но не могу. Язык не слушается меня, веки опускаются и ноги не держат. Сон одолевает меня.
И в форме полковника артиллерии он рухнул, как неразорвавшийся снаряд, и уснул.
Спал он плохо, во сне вскрикивал, вскакивал, выкрикивал проклятия театру, Оресту Орестычу, системе Станиславского, призывал народ сжечь министра культуры.
Галеви с портрета спокойно смотрел на него.
Проснулся он от ожога. Что‑то жгло его. Леви вскочил, недоуменно оглянулся – рядом с ним лежала пачка денег. Это была премия, которую Орест Орестыч вручил ему за роль Яго. Премия прожгла полковничий мундир, обожгла его бедро, и, не проснись он еще минуту – другую – и мадам Котлевич никогда больше не попросила бы у него соль. Просто она была бы уже ни к чему…
Да, эти деньги жгли его, словно костер, на котором когда‑то, в средние века, жгли его братьев.
Во всяком случае, ему так казалось.
Он приблизился к портрету и показал Галеви пачку купюр.
– Иегуда, – сказал он, – посоветуй: куда мне их деть? Что мне делать с этой заразой, заработанной на роли, о которой мне не хотелось бы вспоминать? Я мог бы их истратить на гурий, но ты знаешь, сколько мне лет, я тебе говорил. Я мог бы, конечно, пить вино. Но сколько кубков может поглотить моя язва? Что мне делать, учитель, они жгут мою душу, как песок пустыни ноги паломника.
И Иегуда вдруг ответил.
– Сердце мое на Востоке, – четко произнес он.
– Не понял, – сказал Леви, – ты мог бы говорить яснее?
– Сердце мое на Востоке, – повторил учитель.
Возвратившись домой, Борис, не снимая грима, обложился энциклопедиями и словарями, и углубился в них. Ему хотелось хоть что‑то узнать об этих самых диссидентах. Но нигде о них не упоминалось, как будто их и нету. Было только неясно, за кого борется Запад. Наконец, в «Словаре русского языка» Борис прочитал, что диссидент – это лицо, отколовшееся от господствующего вероисповедания, короче, вероотступник.
– Скажи мне, Ирина, – спросил он, – откуда у нас могут быть диссиденты, когда нет никакой веры? Объясни мне, как можно отколоться от того, чего нет?
– Чем меньше веры – тем больше диссидентов, – ответила Ирина. – Диалектика.
– Теперь понятно, – произнес Борис и захлопнул энциклопедию. – Объясни: как я могу играть диссидента, да еще не на сцене, а в жизни, когда даже толком не знаю, чего они хотят?
– Это я тебе объясню, – сказала Ирина. – Свободы – вот чего они хотят.
– По – твоему – я тоже диссидент, – улыбнулся Борис. – Я тоже ее хочу.
– Ты хочешь, – усмехнулась Ирина. – Ты хочешь, но не борешься, а они хотят – и борются. В этом вся разница!
– То есть ты мне предлагаешь начать бороться?
– Чего не можешь избежать – принимай с радостью.
– Да, но как? И с кем?
– С режимом, властью, правительством!
Борис резко повернулся к Ирине и закрыл ей ладонью рот.
– Мы не на сцене, – напомнила Ирина. – Или ты меня решил действительно задушить?
– Что ты такое говоришь? Ты что, с ума спятила? С каким режимом?
– Спокойно, сейчас нам разрешено все!
– Что значит – все?! Я, конечно, раз уж это разрешено, начну возмущаться Орест Орестычем, который ни черта не смыслит в театре, плохой работой почты и даже тем, что в магазинах пропала безголовая селедка! Но не властью же!
– Именно ей! И прошу тебя – успокойся. Если нет выхода – будь хотя бы храбрым!
– Понятно, – констатировал Борис. – Ты хочешь угодить в тюрягу. А я – нет! Я хочу гулять по весеннему Ленинргаду, играть Отелло, любить тебя.
– Ты, кажется, знаешь пьесу, – напомнила Ирина. – Тюрягу нам, так или иначе, не миновать.
– Да, но надо время, чтобы свыкнуться с этим. Я всего – навсего – человек, а иногда, мне кажется, и того меньше… Это же идиотизм. Я сам должен предпринимать какие‑то действия, не зная какие, чтобы меня посадили в тюрьму! Ты когда‑нибудь слышала о чем‑нибудь подобном?
– Что ж, – сказала Ирина, – будем радоваться, что мы первые.
– Когда я играл военачальников – я встречался с генералами, когда передовиков производства – с директорами заводов, рабочими, наконец, с доярками…
– Теперь ты хочешь встретиться с диссидентами?
– Я хочу?!.. Что это за постановка вопроса?! Я не хочу! Но я должен. Хотя я их и боюсь. Нас сразу же занесут в «черные списки».
Всю жизнь Сокол боялся этих «черных списков». И когда ему рассказывали о ком‑то, кто туда уже угодил, его сердце сжималось от страха и жалости к этому человеку. И вот сейчас у него появились шансы попасть туда самому.
– Ты уже в списке, – успокоила Ирина. – Я не знаю, какого он цвета – черного, коричневого или красного, но нам из него просто так не выбраться. Поэтому можешь смело встречаться с любым инакомыслящим.
Но я никого не знаю! До черта знакомых – и ни одного диссидента…
– Может, у тебя кто есть?
– У меня? У меня даже любовника нет, не то, что диссидента.
Борис нервно заходил по комнате, меряя ее своими огромными шагами.
– Надо найти, я должен видеть его, говорить с ним, наблюдать за ним… Как ты думаешь, Сергей Павлович не диссидент?
– Ты сдурел! Секретарь парторганизации?
– А почему бы и нет? Академик может себе это позволить, а секретарь – нет?
– Боря, инакомыслящий секретарь – это уже из пьесы абсурда. Это уже Беккет.
– Тогда я знаю, кто, – твердо сказал Борис, – наши соседи. Они рассказывают анекдоты, ненавидят Ярузельского и слушают «Голос Америки».
– В таком случае, – мы – дважды диссиденты, – сказала Ирина. – Мы вдобавок слушаем «Би – би – си».
Вообще‑то, по теории Сокола, получалось, что вся страна состоит из одних диссидентов, если, конечно, не считать тех, кто находился в психиатрических больницах. И то только потому, что там не давали слушать «Голос Америки».
– Единственный, кто б тебе действительно мог что‑либо посоветовать – это Леви.
Борис удивился.
– Ты считаешь его диссидентом? Человека, который в «Отелло» кричит «азохун вей»?!
– Да, но как он это кричит! Это крик отчаяния, крик ненависти!.. И потом, не забывай – он из испанских евреев…
– Ну и что, – спросил Борис, – а я из варягов.
– Что ты сравниваешь! Испанские евреи были горды, свободолюбивы – они не могли бы примириться с тем, что происходит вокруг. К тому же он – из просвещенных. И обожает Иегуду Галеви. Ты думаешь – можно одновременно любить Иегуду и Борща?
– Может, ты и права, – согласился Борис, – но в таком случае Гуревич еще больший диссидент. Ты посмотри, как он ставит спектакли. Даже Софокл у него получается антисоветским. Даже Еврипид. Я уже не говорю о том, что он сделал из меня, вернее, из Отелло. Затравленного ленинградского еврея!
– Тогда все ясно, – подытожила Ирина, – изучай их, беседуй с ними, влезай в их диссидентские души!.. А сейчас пошли спать!
– Легко сказать, – вздохнул он, – а как спят диссиденты?
– Так же, как шпионы, – улыбнулась Ирина, – на левом боку…
Всю ночь «диссиденты» ворочались в кровати.
Пару раз «черно – белый» вскакивал, почему‑то кричал «азохун вей», читал стихи Иегуды, произносил монологи затравленного Отелло, порывался поехать то к Леви, то к Гуревичу. И все время хотел позвонить Борщу, чтобы отказаться. Но майорского телефона почему‑то в телефонной книге не оказалось…
Наконец, забрезжил рассвет.
После бессоной ночи Борис поехал в театр, даже не поев. И даже не разгримировавшись.
Он трясся в набитом автобусе, держась за поручень, думая о предстоящем начале подрывной деятельности и не замечая многочисленных взглядов, устремленных на него.
– Головешка, – сказал лысый пассажир, – смотри, как вымахал. Поди, метра два!
– Так не дерьмо же жрет, как мы, – бросил плюгавый человечек и осторожно потрогал его мускулы.
– Наверное, баскетболист, – догадался лысый.
– Навряд. Стар больно, – заметил горбатый пассажир.
– У черных не поймешь – стар – нестар. Все темно, – объяснил плюгавый.
– А что шимпанзе – так видно, – хихикнул горбатый и скорчил харю, изображая шимпанзе. Хотя ему это было делать совсем не обязательно…
– Ага, прямо с пальмы в наш автобус, – пискнул лысый.
– Не скажи – уши так навострил, будто понимает, – заметил плюгавый. – Дипломат, может. Иди Амин какой…
– Тогда поосторожней! А то откусит кое‑что, так жена домой не пустит, – захихикал горбатый и прикрыл рукой ширинку.
– У такого, наверно, жен пять, – предположил лысый.
– Ну уж скажете – пять! Три еще куда ни шло. Я и одну прокормить не могу, – заметил плюгавый.
– Так ты ж не дипломат, – парировал горбатый.
– Смотри, как глазищи вылупил! – удивился лысый. – Чистый шпион.
– А вот сейчас мы его спросим, – засмеялся плюгавый. – Эй, головешка, ты кто – шпион?
Плюгавый, горбатый и лысый нахально улыбались прямо в лицо Борису.
– Идите вы к ебаной матери! – на чистом русском языке ответила «головешка» и вышла из автобуса…
Леви и Сокол столкнулись у входа в театр и чуть не сбили друг друга с ног. У обоих былы мятые, небритые лица, всклокоченные волосы, воспаленные от бессонницы глаза. Они уставились друг на друга.
– У тебя такой вид, – сказал Борис, – будто тебе тоже предложили…
– Что, – не понял Леня, – что мне должны были еще предложить? Тебе мало того, что уже есть?
– Пойдем‑ка сначала выпьем, – сказал Сокол.
В вестибюле Леви вдруг остановился.
– Подожди, – произнес он, – куда мы идем?
– В буфет! Куда же еще!Ў
– Тебе же нельзя.
– Это еще почему? – возмутился Борис.
– У тебя же язва. Ты больше трех дней не протянешь.
– У меня? – удивился Сокол. – У меня даже геморроя нет!
– Значит, у меня, – сказал Леви, – я уже точно не помню, у кого. Но кто‑то из нас больше трех дней не протянет.
Борис удивленно взглянул на Леню.
– Что‑то ты стал площе, – сказал он, – будто тебя переехал бульдозер.
– Не переехал, – поправил Леня, – а находился на мне. Всю ночь. Бульдозер Котлевич. Сто килограмм свинины.
– Ты начал есть свинину? – ничего не понял Борис.
– Скорее, свинина ела меня.
Сокол задумчиво почесал затылок.
– Тут без ста грамм не разберешься, – подытожил он, и они поднялись в буфет.
Борис взял бутылку водки и разлил по стаканам.
– Азохун вей! – произнес он вместо тоста и опрокинул стакан. – Так что ты там говорил про свинину?
– О ней потом, – остановил его Леня, – она третьесортная. И вообще, ты все путаешь. Азохун вей должен говорить я, а ты должен меня хватать за горло.
– Ты собрался играть Дездемону?
– Я – пес – обрезанец. Скажи мне, почему я согласился на эту роль, я, потомок испанских евреев, взращенный…
– Это я уже знаю, – перебил его Сокол, – и хочу с тобой посоветоваться.
– Как с потомком или как с Ягером?
– Как со шпионом.
Леви застучал зубами о стакан.
– Что ты несешь?!
– Извини, – произнес Борис, – совсем зарапортовался, каким к черту шпионом! Как с сионистом… в смысле… как с диссидентом.
Стакан выпал из рук Леви.
– Боря, – заикаясь, произнес он, – то, что ты играешь негра – еще не означает, что у тебя получается черный юмор.