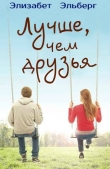Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
– Почему ты не хочешь быть со мной откровенным, – опечалился Сокол, – я же знаю, ты их всех ненавидишь. Кастро. Орест Орестыча. Тебя рвет от Хо – Ши – Мина, великий Ленин в твоих руках горит синим пламенем, даже не оставляя золы.
– Ленин? – пролепетал Леви. – Я его никогда не держал в руках.
– Ну, пьеса о нем. Какое это имеет значение?.. Тебя волнует только Иегуда. Человек, ставящий Иегуду выше Ленина, может быть или сионистом, или диссидентом. Кто ты?
– Боря, честно?
– Ну, конечно. Мы же друзья.
– Я сам не знаю, кто я. Я козел из стада, я баран, я выкинул капитана, я вынес на себе груз мадам Котлевич… Что ты хочешь? Хочешь одолжить – держи! У меня масса денег. На!.. Почему ты так сложно к этому идешь? А? Сколько тебе нужно? Двадцать? Сто?.. Не стесняйся…
– Сейчас мне нужны диссиденты.
– Диссидентов у меня нету, – развел руками Леви, – извини…
Когда Леви зашел к Главному, тот сидел за столом, одновременно читая пять или шесть местных газет, восславлявших его постановку.
– Ленечка, родимый, – он вскочил, – вы только взгляните, что о вас пишут!
Голос его был сладким, как малиновый сироп.
Он схватил первую попавшуюся газету:
– Вот… слушайте: «Актер Леви с удивительной убедительностью сумел показать коварные планы сионизма, разоблачить роль империализма и реакции…»
Главный схватил другую газету:
«Актер Леви с удивительной убедительностью сумел показать…»
– А – а. Это я уже читал.
Олег Сергеевич взял третью.
– Пожалуйста: «Актер Леви…»
– …с удивительной убедительностью сумел показать коварные планы сионизма… – продолжил Леви.
– Вы их уже читали?
– Я их читаю пятьдесят лет и знаю, что они пишут. Они все похожи, как члены Политбюро…
Главный привстал.
– Чем вы недовольны? За один вечер вы стали героем!
– С вашей помощью, Олег Сергеевич, я стал посмешищем, который может появиться на улице только в костюме Хо – Ши – Мина…
И он положил на стол листок бумаги.
– Что вы там написали?
– То, что вы не прочтете в газетах.
Главный развернул листок.
– Вы хотите уйти из театра? Вы… Вы сошли с ума!
– Я не хочу подливать масла в антисемитский огонь. Да еще от имени Шекспира.
– Азохун вей… – протянул Главный.
– Что вы все причитаете, – спросил Леви, – вы что, перешли в иудейство?
– Азохун вей, – повторил Главный, – сегодня вторая премьера, все билеты проданы, будут люди из ЦК, из Министерства культуры…
– Вы перечисляете всех тех, кто меня будет бить?
– Неправда! Евреи тоже будут, я их специально пригласил. Придет сам председатель антисионистского комитета генерал Рахунский.
– Вы хотите, чтобы он зарубил меня саблей?
– Вход с оружием в зал запрещен! Я отдал распоряжение проверять у всех мужчин яйца…
– З – зачем?..
– Чтобы вас не закидали… В крайнем случае у меня есть костюм лошади. Вы будете передними ногами, я – задними. Или наоборот – как захотите. Я вам обещаю – в случае чего, мы ускачем. Кто будет бить лошадь?..
– Я не буду играть больше Яго с «азохун – веем», он больше не будет евреем! Если хотите, я могу его сделать украинцем, узбеком, грузином. У меня замечательный грузинский акцент. Я играл Сталина. Я буду бегать по сцене и орать «Генецвале! Камарджоба!» Хотите?..
– Удивил. Не будет никакого успеха. И потом учтите – грузины горячие, они вас зарежут. Даже если вы будете передними ногами лошади… Поймите, вы должны играть только еврея – они интеллигентные, мягкие, с высшим образованием… Только в этом случае вам гарантирована жизнь…
– Я не буду играть Яго – еврея, – вновь повторил Леви.
– Понятно, – печально произнес Главный. – Вы хотите меня убить, вы хотите развалить театр, который я с таким трудом создавал… Иногда мне кажется, что вы хуже Гуревича…
Леви развернулся и спокойно, чуть вразвалку, направился к двери.
Следует заметить, что гениальные мысли вспыхивали в голове Главного в последний момент, когда корабль тонул…
– Иегуда! – крикнул он.
Леви застыл.
– Галеви!..
Леви повернулся.
– Держите! – главный достал из стола конверт и протянул его Леониду Львовичу.
– Что это? – спросил Леви. – Опять премия?..
– Севилья, Гренада, Кордова… Пятнадцать дней… Солнце, апельсины, инжир… Ешьте, загорайте и вдыхайте воздух предков… Вернетесь – сыграете Иегуду. Не сойти мне с этого места…
Леви не верил своим ушам, хотя они у него были большие, оттопыренные и улавливали звуки не хуже радаров.
– А сегодня и завтра Яго, – напомнил Главный, – с «азохун вей».
– Без, – слабо сопротивлялся Леви.
– Без «азохун вея» еврея в Испанию не пустят…
С путевкой наперевес Леви ворвался к себе в квартиру.
– Читай, Иегуда, – орал он и совал путевку прямо под нос Галеви, – Испания, пятнадцать дней, апельсины… Сердце мое уже рядом с твоим, на Востоке… И не только сердце… Я буду в Кордове, Иегуда, я буду в твоем доме. Я буду ступать по тем же полам, что и ты, смотреть из окон на бурлящий Гвадалкивир, как это делал ты… Я только не знаю твоего адреса. Ты не мог бы мне его сказать?
– Сердце мое на Востоке, – произнес Иегуда.
– Это я понимаю… Но Восток – понятие растяжимое. Ты не мог бы сказать немного точнее?
Галеви молчал.
– Ты, наверное, его забыл, учитель, – сказал Леви. – Ничего удивительного. Я забыл адрес своего детства. А у тебя уже прошло четыреста лет… Но ты не расстраивайся, я его найду…
Ночью Леви приснился освещенный красными огнями дом в мавританской Кордове. Звучала музыка, сновали юные невольницы, терпко пахло миррой, и посреди гурий с серебряным кубком в руке возвышался Иегуда Галеви. Нагие гурии гладили его сутулые плечи, он выкрикивал строфы, и слуга – турок тут же записывал их в свою огромную книгу.
Строки были волшебны, они волновали кровь, и Леви захотел поблагодарить великого поэта.
Сквозь гурий он пробрался вплотную к нему и вдруг увидел, что Галеви – ни кто иной, как он сам, Леня Леви, ленинградский комик, потомок испанских евреев.
Он проснулся в лихорадке, снял со стены портрет Галеви и осторожно свернул его.
– Поедем к тебе, – произнес Леви, – я возьму тебя с собой, – в театральную группу. Мы поедем с этими сволочами – других за границу не пускают. Но ты не волнуйся. Тебе не придется с ними знакомиться. Ты будешь в чемодане…
Гуревича в театре не было, Леви предложил вместо диссидентов деньги, то есть, можно сказать, хотел купить его, как Америка евреев за пшеницу – и Сокол решил посоветоваться с секретарем партийной организации. В самые ответственные минуты жизни он обращался к нему за советом – когда не получалась какая‑нибудь роль, когда он не мог достать путевку на Кавказ, и даже перед тем, как жениться на Ирине. И мудрый совет секретаря всегда помогал ему.
Борис постучал в его уборную.
– Антре! – почти без акцента бросил секретарь.
Он обожал играть коронованных особ и сейчас сидел перед зеркалом в костюме Людовика Четырнадцатого, примеряя парик и мурлыча под нос своего любимого Лалло.
– Сергей Павлович, – начал Борис, – разрешите? У меня к вам дело.
– Король к вашим услугам, – расплылся секретарь, – чем вам может быть полезно мое величество?
– Как всегда – советом!
– Мы слушаем вас! – Людовик надел парик. И вновь начал насвистывать Лалло.
Сокол собрался с силами.
– Как вы думаете, – выпалил он, – кто в нашем театре диссидент?
Король не расслышал – ведь он мурлыкал Лалло.
– О, у нас их много, – ответил он. – Да вы всех знаете!
Борис растерялся.
Он вновь перебрал в уме всю труппу – никто, кроме Гуревича, под это определение не подходил. А Гуревича уволили.
– Например? – уточнил Сокол.
– Например, режиссир – ассистент.
– Вы ошибаетесь, – заметил Борис, – режиссер – не диссидент…
«А, в общем, кто его знает – может, сделать из Яго еврея – тоже диссидентский акт?»
– А какой же вас ассистент интересует, – опять не расслышал Людовик, – ассистент художника?
– Что значит диссидент художника? – в свою очередь не понял Борис.
Даже если бы король не мурлыкал Лалло, он все равно не расслышал бы этого слова, он бы никогда не поверил, что Борис Николаевич ищет в театре диссидентов. И поэтому, как и подобает секретарю, он терпеливо объяснил.
– Не понимаю, что вас удивляет. Их у нас несколько. Вы что, не знаете? Например, Федотов. И Пельман. И Зильбербранд!
Бориса будто оглушили.
Федотов был старым членом партии и вообще давно уже выжил из ума, Пельман на всех собраниях громил сионизм, а Зильбербранд был депутатом районного совета!
– Что вы говорите, – опупел Борис, – вот уж на кого бы не подумал!
Ведь они настоящие советские люди.
Людовик Четырнадцатый привстал на своем троне.
– Помилуйте, Борис Николаевич, – пропищал он, – почему ж ассистент не может быть простым советским человеком?
Король явно чего‑то недопонимал.
– Почему ж нет? – удивился Борис. – Ассистент – пожалуйста! Но чтобы диссидент был советским…
Королевские уши, наконец, прочистились. Людовик раскрыл свой широкий партийный рот.
– Кто вам сказал, что они диссиденты?! – гневно произнес он.
– Вы, – простодушно ответил Борис. – Поэтому я и удивился.
– Когда?!
– Да только что.
Людовик Четырнадцатый побагровел, будто ему сообщили о дворцовом перевороте, и сразу стал похожим на Петра Первого.
– Вы чокнулись! – завопил он. – Федотов старый член партии, Пельман повсюду громит сионизм, а Зильбербранд – депутат районного совета!.. Я вам сказал – ассистенты! Ассистенты! Вы слышите?!
– А – а… – разочарованно произнес Борис, – понятно. А кто же тогда диссиденты?
Королевский парик слетел с головы секретаря парторганизации театра.
– Диссиденты?! – вскричал Людовик. – Сахаров и Солженицын!
– Это я знаю, – сказал Борис, – но Сахаров в Горьком, а Солженицын – в Америке. Не лететь же мне к ним… Кто в нашем театре?
– В нашем театре, – взяв себя в руки, сурово произнес Король – Солнце, – диссидентов нет и не будет!
– Очень жаль! – печально вздохнул Борис…
В коридоре его ждала Ирина.
– Ты окончательно спятил! – сказала она. – Зачем ты ходил к секретарю?
– Хотел вступить в партию! – зло произнес Борис и добавил: – Дай мне две копейки.
– Не дам, – ответила Ирина. – Нечего звонить этому Борщу. Он может вновь продекламировать монолог Отелло.
– Я отодвину трубку, – пообещал Борис. – Может быть, он познакомит нас хоть с одним диссидентом. Кому это, в конце концов, надо – нам или ему?!
– Ты думаешь, у него есть свободные диссиденты? – спросила она. – Они или в тюрьме или за границей!
– Тогда я ему скажу все, что я о нем думаю!
– Дорогой мой, – напомнила Ирина, – если бы люди знали, что о них думают другие – они бы перебили друг друга! Но он перебьет нас быстрее, чем мы его!..
– Но я не могу вживаться в то, чего я совершенно не знаю!
– Боря, – сказала она, – почему ты не хочешь положиться на свой талант, на свое актерское чутье? Ты играл всех Генрихов – разве до этого ты встречался с английскими королями? Или ты скупал мертвые души до того, как сыграть Чичикова? Может, ты задушил не одну женщину, до того, как задушить меня?… Почему ты не доверяешь себе, своим чувствам? Возьми и заяви, что ты считаешь нужным!
– Но в этом‑то все дело. Что я могу заявить?
– Что‑нибудь антисоветское!
– Легко сказать, – пробурчал он. – А кому?
– Кому? Да хоть, для начала, нашему гардеробщику.
– Петровичу? – удивился он.
– А почему бы и нет?.. Ведь, как сказал Станиславский, театр начинается с вешалки… Заявление ты сделаешь на вешалке, то есть в гардеробе – а через десять минут о нем будет знать весь театр!..
В гардеробе Борис очень волновался.
Петрович принес ему пальто, шарф и шляпу, он машинально надел их, потом снова снял и протянул гардеробщику.
Петрович несколько странно взглянул на Сокола, отнес вещи и вернулся с номерком.
– Держите, Борис Николаевич!
– Спасибо! – поблагодарил Борис, спрятал номерок и уставился на гардеробщика.
Петрович забеспокоился.
– В чем дело? – спросил он. – Вы что‑нибудь забыли?
– Да, да, – ответил Борис и начал снимать пиджак. – В – вот. Повесьте, пожалуйста!
Недоумевающий гардеробщик подозрительно взял пиджак и понес его вешать. Когда он вернулся, Сокол еще был там. Он развязывал галстук.
Петрович испугался.
Борис принялся было снимать рубаху.
– Зачем? – испуганно спросил Петрович.
– А затем, – Борис одернул рубаху, – а затем, Петрович, – он оглянулся, – что я тебе сейчас скажу такое, что у тебя глаза на лоб полезут!
Петрович вытер вспотевший лоб и на всякий случай отступил от барьера.
– Ты знаешь, – глаза Бориса вдруг загорелись яростью, – ты знаешь, что…
– Что, что? – шептал, отступая, Петрович.
– Ты знаешь, что… – орал, оглядываясь по сторонам, Борис.
– Ну, что? – умоляюще спрашивал гардеробщик.
– Ты знаешь, что..?! – ревел Сокол.
Это был почти призыв к революции.
– Ну, скажите уже, – молил Петрович, – не мучьте! Христом Богом прошу! Что – оо??
В гардеробе появился Орест Орестыч.
– …что театр начинается с вешалки! – выпалил Борис и, махнув рукой, подал Петровичу номерок…
У людей без комического начала обычно трагический конец. Впрочем, и с комическим тот же.
Во все века сатирикам жилось лучше всего там, где их не было. Их там не сжигали, не громили, не насиловали, не сажали на цепь и не превращали в шашлык или отбивную, – в зависимости от страны. В России, например, из них делали котлету.
Даже скромные серые кошки не любят, когда их гладят против шерсти, не то, что цари, падишахи или секретари райкомов.
Поэтому возмущение Гуревича было необоснованным. Он постоянно тянул дьявола за его длинный хвост – а ему ничего не оторвали, не изнасиловали и даже не изжарили.
Грех жаловаться.
Его тихо выгнали из театра и не принимали ни на какую другую работу. Можно сказать, что Гуревич был свободен.
Он лежал в своей отдельной комнате на Невском, пил и думал, как устроить скандал, чтобы на нем уехать.
О программированнии не могло быть и речи. С детства с точными науками у Гарика были проблемы.
Когда в школе учитель задавал задачу про двух человек, один из которых вышел из пункта А, а другой из пункта Б, Гуревич всегда спрашивал, с какой целью человек идет в пункт А, как он одет, как его зовут – Гуревич в голове ставил задачу по своей системе. Один человек, у него всегда была женщина, по пути к пунктам эти люди влюблялись, кипели страсти, иногда дело заканчивалось убийством из ревности.
Никто и никогда во всех случаях не доходил ни до пункта А, ни до пункта Б.
И за такое решение учитель ставил гению Гуревичу жирную двойку, иногда вызывая в школу маму.
Но ничего не помогало – Гарик решал задачи своим методом.
Так что речь могла идти только о скандале.
Он думал – о каком. И решил после долгих поисков разбить стекла в Управлении культуры, чьи окна выходили на Невсий, в пятидесяти метрах от него.
По обычаю, он приступил к постановке скандала. Мизансцена была довольно проста – он появлялся со двора, со стороны Армянской церкви, поворачивал налево, за угол, доставал камень, который покоился за пазухой, и, размахнувшись – кидал.
Он отрепетировал это несколько раз, провел генеральную репетицию, перебив все окна в своей комнате. Премьера была назначена на пятницу.
Все развивалось хорошо – он двигался плавно и пластично от церкви, он завернул, резко достал камень, размахнулся… и тут окно в Управлении распахнулось и из него высунулась морда той самй дамы, из комиссии.
Менять мизансцену было поздно – камень уже летел. И прямо в лоб даме! Гарик похолодел – он понял, что этот скандал будет чересчур, что он на нем поедет, но в тюрьму.
Камень попал в центр могучего лба и разлетелся надвое. Дама улыбнулась, с презрением глядя на гения.
– Я не Дездемона, – ехидно заметила она, – со мной не так– то легко справится.
И презрительно сплюнула на гения.
У Гарика от этого плевка дня три болела голова, к тому же его посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.
Вышел он похудевший, побритый наголо, с пониманием, что на скандал не способен, примерно так же, как на программирование.
А уезжать как‑то было надо.
Он встретился с Анклом Майком, в Летнем саду, под статуей «Ночь».
– Гуд, – произнес Майк, – ай андестен, на это вы не способны… Гуд, есть третий путь.
– Какой? – поинтересовался Гуревич.
– Как вы относитесь к Франс?
– Обожаю. Там же Жан – Луи Барро, там же Жуве, там…
– То эсть, вы не пройтив жить ин Френс?
– Ничуть…
– Гуд, мы вас, Гурвиц, женим на Клотильд.
– Это еще зачем?
– Вай вы не спрашиваете, кто она?
– Мне все равно, я не хочу жениться.
– Но вы хотите во Франс. На скандале ви уехать не мойжете, вы уедете на Клотильд. Красотой она не блещет, умом, предупреждаю, тоже, вообще она, напоминаю, не блещет ничем, но она френч герл, живет наискосок от Нотр – Дама и в восхищении от вас.
– Разве мы знакомы?
– Заочно, она не пропускала ваших премьер. Она вас обожает. Если ви не против – можно считать, что вы уже женаты.
– Дайте сначала хоть взглянуть глазком! – завопил Гуревич.
– Ша! Тейк ит изи, – напомнил Анкл Майк.
Гарик вернулся к себе в комнату и повалился на кушетку. Настроение было отвратительным – никто его не навещал, не звонил, прошел слух, что он уезжает, и контакты с ним на всякий случай прекратили.
Поэтому, когда в дверях появился Леви, Гарик несколько удивился.
– Вы?
– Не удивляйтесь, друг мой, – ответил Леви, – вы уезжаете, я уезжаю, – почему бы нам не поговорить?
– Вы тоже?! – обалдел Гарик.
– Да, но я в Испанию, и на две недели. А вы?
– Я навсегда.
– Не в Израиль?
– Послушайте, Леви, не провоцируйте меня. Я люблю Израиль, но мне нужна страна с театром, с великим театром, мне нужен Шекспир и Мольер, мне нужна публика, мне нужны овация и свобода. Как вы думаете, Франция, к примеру, мне подарит это?
– Гарик, – произнес Леви, – дальше Риги я не уезжал, я не знаю, что вам может дать Франция, или там Япония с Сингапуром, но что вы едете – это гениально. Довольно быть козлом отпущения. Кем бы мы ни были здесь – актерами, режиссерами, врачами, адвокатами, прежде всего, Гарик, вне зависимости от основной профессии, мы верой и правдой служим козлами отпущения.
Нигде в мире нет такого многочисленного стада козлов этой редкой породы.
– Так почему же вы не сматываетесь, Леня?
– Потому что я не просто козел, я еще и баран… – он печально улыбнулся, – я вам не рассказывал историю про то, как я выкинул в сорок шестом году, сразу после войны, из поезда Ленинград – Одесса капитана советской армии?
– Из скорого? – поинтересовался Гарик.
Надо сказать, что эту историю Леви уже рассказывал несколько раз. Гарик ее знал наизусть, но Леви рассказывал ее и рассказывал.
– Да, именно из скорого, а как вы догадались?..
Это была любимая история Леви, и в основе ее лежала его непохожесть на свой народ.
Русские признавали в Леви новгородца, украинцы неизменно называли Тарасом, грузины видели потомка Витязя в тигровой шкуре и даже единственный негр, проживавший в Ленинграде до войны, как‑то остановил Леви на углу улицы Рубинштейна и Невского и спросил:
– Простите, а вы, случайно, не негр?
– Нет, нет, – ответил Леви, – я просто смуглый.
Короче, Леви походил на представителей всех народов мира, кроме избранного.
Хохлы делились с ним мечтами о самостийной, грузины поднимали тосты за «Нашего Сталина» и назначали тамадой, а латыши вместе с ним вспоминали, какие были когда‑то в Риге сметана и масло и пели народную песню «Гайлитман».
И все вместе повествовали о своей любви к евреям.
Поэтому бедный Леви знал о своем народе несколько больше, чем остальные евреи.
Он, можно сказать, владел всей правдой…
Эта непохожесть на свой народ стоила Леви массу треволнений – его тянули в «лесные братья», в попы, а однажды чуть было не повесили. И кто? Свои, евреи!..
Сразу после войны они почему‑то опознали в нем старосту Остапа Голобородько, зверствовавшего во время оккупации.
И Леви, в последний момент, не вынимая головы из петли, с трудом удалось показать, что он еврей…
Леви походил на свой народ, но к сожалению – не лицом…
И вот однажды его непохожесть закончилась почти трагически.
Правда, не для Леви… Выкинуть советского капитана из поезда – это вам не шутки. Тем более, если учесть, что Леви был всего лейтенант, причем запаса, а капитан в форме, в погонах – тихий ужас!..
До этого Леви никого из поездов не выкидывал. Даже окурки. Обычно он там пил чай и смотрел в окно, покуривая папироску. И вдруг офицер, в капитанских погонах…
Это было особенно прискорбно, потому что капитана вот – вот должны были произвести в майоры.
Он Леви сам в этом признался, до выброса.
Возможно, майора Леонид Львович не выкинул бы, неизвестно. Чего гадать – так и до генерала дойти можно.
Факт тот, что одним офицером стало меньше, причем гладко выбритым, пахнущим духами «Шипр».
– Черт его знает, – всегда заключал Леви эту печальную историю, – может, не надо было этого делать? Но я его выкинул из «скорого»…
Следует заметить, что Леви впервые рассказал Гуревичу историю про выброс почти сразу же, как Главный пригласил гения в театр, при постановке «Трех сестер».
Причем Гуревич – видимо, он был всецело поглощен спектаклем – задавал какие‑то странные вопросы.
– У него была красивая форма? – спросил Гуревич.
– Невероятно, – ответил Леви. – Погоны блестели, пуговицы сияли. Сапоги были так начищены, что в них отражалось мое лицо.
– Вы смотрелись в его сапоги?
– Нет, но когда он уже летел, я заметил свое отражение. Когда он позвякивал медалями.
– И у него было много медалей? – непонятно, почему это интересовало Гарика.
– До самого пупа, – гордо ответил Леви.
– И ордена Ленина?
– Четыре. Они тряслись и стукались друг о друга лбами.
– И как же вы его выкинули, Леонид Львович? – поинтересовался тогда Гуревич.
– Очень просто. Я открыл дверь, приподнял его и выбросил. Вот так!..
Леви очень красочно показал, как он это сделал.
– А сколько весил капитан? – Гуревича интересовало невесть что.
– Пудов семь, – Леви раздумывал, – конечно, в форме. Я его, видите ли, вышвырнул в форме.
Гуревич удивленно посмотрел на Леви – он явно не был богатырем. Он даже с трудом поднимал декоративную калитку от ограды сада в «Трех сестрах»… – В гневе человек сильнее, – объяснил Леви, – я был в гневе… Одной рукой открыл дверь, другой поднял капитана и… прощайте, родимые хаты…
– Где это произошло? – уточнил Гарик.
– Я разве еще не сказал? В родных местах, на Украине, в степи.
– И кто‑нибудь видел?
– Конечно! Коровы… Они дико мычали. Меня это могло выдать.
Леви показал как мычали коровы в степи.
– Я представляю, как он кричал, – произнес Гуревич.
Он не успел. К счастью. Только выхватил пистолет.
– Какой? – поинтересовался Гарик.
– Маузер, – ответил Леви, – какой же еще? И выстрелил в меня.
– И попал?
Леви молча встал, подошел к шкафу и достал оттуда простреленную фуражку.
– Еще несколько миллиметров, – признес он, – и… я надеюсь, вы меня понимаете?..
И тут Гуревич задал главный вопрос.
– Леня, – спросил он, затягиваясь сигаретой, – а за что вы его выкинули?
– За то, за что надо выкидывать, – ответил Леви и задумался. – Хотя, может, и не стоило этого делать…
Второй раз Леви рассказывал Гуревичу эту историю в самый разгар борьбы с сионизмом, вечером, за чаем.
– Вы знаете, Гуревич, – спросил он – что я выбросил из поезда капитана? Из скорого… Мы сидели в купе, говорили о том, о сем, о псевдонимах, потом я одной рукой раскрыл окно, а другой выпихнул его.
– И он пролез? – удивился Гарик.
– Он был гораздо худее меня. Выпорхнул, как дрозд! В нем было всего пуда три…
Гуревич поперхнулся.
– Леня, а где это случилось?
– В Азербайджане. Недалеко от Баку. Мы ехали в скором поезде Ленинград – Баку.
– И он стрелял в вас?
– Сразу из двух пистолетов, – ответил Леви. – Браунинга и маузера. Пока море не поглотило его…
– Какое море?
– Каспийское, – ответил Леви, – какое еще?..
– Но он в вас не попал?
Леви молча встал, подошел к шкафу и достал оттуда простреленную гимнастерку. С дыркой слева.
– Еще несколько миллиметров, – произнес он, – и… я надеюсь, вы меня понимаете?..
– А за что вы его вытолкнули? – спросил Гуревич, затягиваясь сигаретой.
– За то, за что надо… Хотя, может, и не стоило этого делать…
…И вот сейчас Леви удобно устроился на кушетке и начал…
– Мы ехали в поезде Ленинград – Тбилиси, сидели в вагоне – ресторане, ели шашлык по – карски, болтали о том, о сем, затем я приподнял капитана и выбросил.
– Куда, – полюбопытствовал Гуревич, – в окно или в дверь?
Леви задумался.
– В ущелье, – ответил он.
– Он стрелял?
– Нет. Метнул гранату и исчез. В ущелье.
– И он в вас попал?
Леви молча встал, подошел к своему портфелю и достал оттуда разорванное галифе. Без левой штанины.
– Еще несколько миллиметров, – произнес он, – и… я надеюсь, вы меня понимаете… Когда он рухнул – было ужасное эхо…
– Почему?
– Десять пудов чистого веса, – объяснил Леви, – плюс медали…
– Ну, а за что же вы его выкинули? – вновь попытался уточнить Гуревич, затягиваясь сигаретой.
– За что надо, – опять ответил Леви. – Хотя, может, и не надо было этого делать…
Он задумался.
– Когда‑нибудь я вам расскажу все, Гуревич, – пообещал Леви, – может быть, когда вернусь из Испании.
– Когда вы вернетесь из Испании – я, возможно, буду уже во Франции…
– Так вы едете во Францию! – обалдел Леви. – Как вы туда попадете?
– Еще точно не знаю. Может быть, на Клотильде…
Леви ушел, когда упали сумерки, а когда взошла луна – вдруг появился Сокол… В ее свете он был синим и глаза его мерцали, как Млечный Путь…
– Кого я вижу, – произнес Гуревич, – великий артист Борис Сокол в гостях у всеми презираемого диссидента!.. Не боишься со мной общаться?
– Гарик, – сказал Борис, – что ты несешь хреновину? Я именно поэтому и пришел.
– Why? – не понял Гуревич.
– Потому что ты – диссидент.
– Я! Кто тебе сказал?
– Да ты. Только что…
– На тебя плохо действует луна, Борис. Ты не страдал в детстве лунатизмом?
– Я голодал, – ответил Борис. – Я ел бутафорские батоны.
– Так… тебе нужны деньги, – догадался Гарик и полез в карман. – Сколько?
– Что вы все мне деньги суете?!.. Мне нужен диссидент, настоящий, традиционнный, с которого я мог бы лепить…
– Прости, Борис, их у меня не водится.
– А ты?.. Ты же инакомыслящий. – Из Шекспира ты делаешь Шолом – Алейхема, из чеховских «Трех сестер» – трех контрреволюционерок, запускаешь камнем в лоб управленческой даме. Разве ты сам не видишь, что мыслишь иначе? Мы же все не бросаем в ее лоб камни. Даже в мыслях!
– Почему это я мыслю иначе? Может, это вы мыслите иначе?..
– То есть, ты хочешь сказать, это я – диссидент?
– Конечно. Ты меня правильно понял, Борис. По отношению к истине – вы все диссиденты. Орест, Олег, вся ваша комиссия. И ты тоже… Так что иди и бери с себя пример.
Борис угрюмо молчал.
– Ну, чего ты стоишь, диссидент? Ты не вышел из моря, ты не мечтаешь сыграть Галеви и ты заслоняешь мне луну…
Гуревич и Клотильда встретились в кафе «Север». Кто сиживал в нем – тот, конечно, помнит, что оно напоминает большой вокзал, с которого третий день не отходит ни один поезд…
Когда Гуревич вошел в зал, он сразу же заметил за столиком у стены Анкла Майка и француженку.
Гарика качнуло – при виде ее ему показалось, что динозавры не вымерли… В голове мгновенно созрел режиссерский план – бежать, петляя между столиками, спуститься, перепрыгивая через три ступеньки, по мраморной лестнице, завернуть налево в гардероб, вбежать в туалет и запереться. Причем, в женском. Так как его будут искать в мужском… Гарик рванул…
– Гурвиц, – позвал его долговязый Анкл, – мы здесь.
План был сорван. Гуревич остановился, изобразил на лице какую‑то гримасу, которая должна была показать, какая радость овладела им, и медленно двинулся к их столику. По мере приближения вымученная улыбка сползала с его лица, и ему все меньше хотелось во Францию. От страны, в которой водились такие женщины, можно было ожидать все, что угодно…
Когда Гарик подошел к столику, он понял, что Клотильда похожа на труппу их театра, сразу на всю – она косила, шепелявила, слегка заикалась, была туга на ухо и путала цвета.
– Какие у вас огромные, голубые глаза! – восторженно произнесла она, хотя глаза у Гарика были карие…
Анкл Майк поднялся из‑за стола и расцеловал Гуревича.
– Я вас поздравляю, май дарлинг, – торжественно произнес он. – Я ей все рассказал – и она согласна. It’s true, Клотильда?
– Ето правда, – она вся сияла, – нас уже ждут.
– Why? – спросил Гарик. От волнения он заговорил по – английски.
– В ЗАГСе, – пояснила она.
Гарик вскочил и побежал, ополоумев, причем без всякого режиссерского плана.
– Гурвиц, – крикнул Анкл Майк, – не торопитесь. Запись в пять часов. Я – свидетель у Клотильды. Кто у вас?
Гуревич подрагивал.
– У – у-у… меня, – начал, заикаясь, Гарик, – тяшело скашать.
Он вдруг зашепелявил, закосил, появился легкий тик. Он с ужасом заметил, что начал путать цвета, потому что рыжая Клотильда неожиданно превратилась в зеленую. Короче, Гуревич тоже стал напоминать сразу всю труппу покинутого им театра.
– Мой швидетель, – выдавил он, – мой швидетель – Иегуда…
– Горько, – истошно завопил Анкл Майк, – горько!..
– Уже?! – испугался Гуревич.
Но зеленый динозавр стремительно впился в него своими красными губами…
Страх перед неизведанным хуже неизведанного.
Борис сидел в кресле, у себя в гостиной, абсолютно выжатый, вытянув длинные ноги и нервно куря сигарету.
– Ты молчишь лучше, чем говоришь, – улыбнулась Ирина, – хотя именно теперь ты можешь говорить все, что хочешь. Ведь нам разрешено все!
– Это я знаю! – с ударением на «а» произнес Борис. – А печенка моя не знает! И кишки не знают. И это серое вещество! Ни черта они там внутри не знают!
– А ты им расскажи, – посоветовала Ирина.
– Я пробовал! Но они не хотят слушать. Они не привыкли. Сознание слушается, а подсознание – нет!
– Начхать тебе на подсознание! Ты такой умный, такой смелый, такой..
– Тебе легко говорить, – произнес он, – это я должен стать диссидентом. А ты уже становишься автоматически, как жена.
Борис обнял Ирину.
– Мне так не хочется всем этим заниматся! Ты представить не можешь!
Это была явная недооценка духовных качеств жены. И Ирина достойно ответила на этот выпад.
– Могу, – просто сказала она.
– Я так хочу быть тем, кем я есть – артистом, – продолжил Борис. – Я люблю запах кулис, бесконечные репетиции, горластых режиссеров, банкеты, одежды королей и нищих. И предпочитаю, чтобы волосы седели от перекиси, а не от страха… И я бы поехал в Париж, но через Гавр, а не через тюрьму. И к Жан – Луи Барро, а не за бомбочкой!.. Скажи мне, как я ее украду? Я могу что‑то украсть?
Ирина задумалась, очевидно, вспоминая. Но за все совместно прожитые годы Борис не стащил в магазине ни одного глазированного сырка и никогда не запускал руку в карман соседа по автобусу. И все‑таки она ответила ему утвердительно.
– Почему нет, – ответила она, – ты украл мое сердце.
– И то только потому, что ты украла мое.
– Ну, вот видишь, – успокоила Ирина, – если мы способны украсть сердца, то какую‑то там бомбочку и подавно!