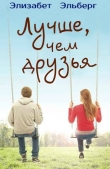Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Она вынула из его пальцев сигарету.
– Это уже двадцатая, – заметила она, – а сердце одно..
– Но я не могу играть шпиона, Ирина, не могу! – твердо сказал он.
Он все время повторял одно и то же – и Ирине это начало надоедать.
Надо было что‑то срочно придумать. Она затянулась его сигаретой, выпустила дым и спокойно спросила:
– А идиота играть можешь?
– Достоевского? – не понял он.
– Нет, советского, – объяснила она, – нашего простого советского идиота, который гложет мороженую брюкву, ненавидит эту власть и на каждом перекрестке хвалит ее?
В глазах Бориса зажглись идиотские огоньки. Было похоже, что с ролью идиота он справится.
– Давай, Боря, давай, – обрадовалась она. – Это не диссиденты. Их искать не надо – полно на каждом шагу. И таких двух идиотов такой умный майор никуда не пошлет. Ни в тюрьму, ни в Париж. И к тому же – в наши дни лучше быть женой идиота, чем диссидента…
Борис долго прыгал от охватившей его радости, потом схватил Ирину на руки и стал кружить по комнате. А потом они решили отметить эту гениальную идею в ресторане…
Ресторан был шикарным. Сияли хрустальные люстры и набриолиненные официанты.
Меню было толстым, как роман. Борис и Ирина изучали его с явным интересом. Подошел официант. На нем был красный пиджак и белые брюки. Для французского флага нехватало только синей рубахи.
– Что будем кушать? – спросил он и достал блокнотик и карандаш.
Соколы спокойно отложили «роман», и Борис, глядя прямо в ясные глаза официанта и даже слегка подмигнув ему, размеренно произнес:
– Долой советскую власть!
И дернул головой. И официант тоже дернул.
– Простите? – уточнил он.
– Если можно – два раза, – попросил Борис, – и, пожалуйста, поскорее!
– Через пять минут будет сделано! – вдруг согласился официант, и что‑то пометил у себя в блокноте.
– Успеете? – деловито осведомился Борис.
– А как же! – ответил официант. – Что будем брать на второе?
– Долой электрификацию всей страны! – заказала Ирина.
– Сколько раз? – уточнил официант.
– Тоже два, – попросила Ирина, – и поторопитесь!
– Б – будет – с с – сделано, – чуть заикаясь, ответил он. – На з‑за – закуску ч‑что – н‑нибудь в – возьмете?
– Дайти‑ка мне Латвию, – попросил Борис, – только не поливайте сиропом.
Официанта окончательно перекосило.
– Вы что, не любите Латвию? – поинтересовалась Ирина.
– Отчего же? – испугался тот, – очень даже люблю. Особенно летом, в жару.
– Тогда подайте ее вместе с Эстонией, – уточнила она. – А на сладкое, пожалуйста, Афганистан или Польшу. По вашему выбору.
Лицо официанта стало цвета пиджака.
– Съели, – извиняясь, пробормотал он. – То и другое!
– Как, – вскричал Борис, – уже?!
– Д – да, – ответил официант, – и давно!
– А что же осталось?
– Пиво! – по – военному отчеканил тот, – чешское!
– С Дубчеком? – поинтересовалась Ирина.
– Никак нет, – отрапортовал тот. – С Гусаком!
По глазам официанта Борис понял, что тот начинает медленно, но верно сходить с ума. Это никак не входило в их задачу. Надо было заканчивать заказ.
– Ладно, – согласился он, – с Дубчеком – так с Дубчеком! Только чтоб не с жирным!
– Служу Советскому Союзу, – прокричал на весь ресторан официант и строевым шагом отправился на кухню…
Начало «диссидентской» деятельности было положено, и после ресторана довольные Соколы отправились домой. Они еле влезли в переполненный автобус. Борис был без грима, и поэтому никто не обратил на него внимания. Многие спали, кто‑то читал газету, некоторые поругивались. Борис растолкал рядом стоящих и выбросил вперед правую руку.
– Мудила, – бросил ему мужчина в шляпе, – мог бы и поосторожней!
– Сейчас, одну минуточку, – пообещал Сокол и прочистил горло.
– Граждане, – громовым голосом произнес он, – революция, о которой столь долго и упорно болтали большевики, провалилась!
Он опустил руку и вытер пот со лба. Автобус начал быстро просыпаться.
– Уступите‑ка место товарищу Солженицыну, – предложил Борис.
Несмотря на то, что автобус продолжал двигаться, в дверях образовалась давка. Первой, перелезая через головы, выскочила «шляпа». Водитель выпрыгивал в окно.
– Эй, – крикнул ему вслед Борис, – уходя, останавливай автобус!
– Садись, – улыбнулась Ирина, – теперь, когда революция провалилась, можно и отдохнуть…
Следующим диссидентским актом, предпринятым «идиотами» Соколами, была публичная демонстрация.
Загриммировавшись под пейсатого еврея, Борис стоял на Дворцовой площади, через которую когда‑то с криками и знаменами неслись рабочие и крестьяне брать Зимний. На его богатырской груди красовалась огромная звезда Давида. Из кармана торчал большущий кусок мацы. В руках он держал плакат, на котором синим по белому было выведено: «Отпусти народ мой!»
Ирина, накинув на плечи талэс, будто оренбургский платок, зычно исполняла национальный гимн Израиля «Атикву».
Вокруг Соколов собралась небольшая толпа, с интересом смотревшая на «евреев».
– Эй, еврей, – бросил мужчина в кепочке, – почему только твой народ надо отпускать? А мой? Мой что, хуже? Ишь вы – избранные!..
Он незаметно отломил кусок мацы и жадно начал жевать.
– А я, блядь, – сказал усатый мужчина с портфелем, – совершенно не понимаю наших идиотов. Ну чего они этих пейсатых держат? Жизни от них нету! Да будь моя воля – я бы их в их Израилишко по одиночке на собственных руках перенес!
И тоже украдкой отломил кусочек мацы.
– Вы их неправильно понимаете, – объяснила старушка с кошелкой, – они не отсюда просются, а сюда. Они хочют, чтобы израильские жиды их отпустили, а те не пущают. В тюрьмы своих еврейчиков сажают, в психушки,
– Вот именно, – поддержал ее подоспевший косой, – и, к тому же, там у них с голода мрут. Я сам читал. Пять миллионов в год дохнут!
Он нагнулся прямо к карману Бориса и вцепился зубами в мацу.
– Это в Эфиопии, мудила, – объяснила «кепочка», отталкивая косого от кармана. – В Израиле их всего меньше четырех миллионов.
– А ты, старая дура, чего несешь, – повернулся он к старушке, – они же уже здесь! Чего ж их израильские жиды отпускать – то должны?!
– Они‑то тута, – пояснила старушка, – а остальные в тамошних застенках томятся. Они за них и просют. Сам знаешь – все жиды больно родственные.
Но ее никто не слышал. Мужчины дрались за мацу. Каждый стремился отхватить кусок побольше. Победил косой. Посадив фингал «кепочке» и опрокинув наземь усатого, он с набитым ртом обратился к Борису:
– Послушай, жид, – сказал он, – ты за каких жидков просишь то: за нашенских или израильских? А то из твоего плаката ни хрена не понять!
– А ты мне сейчас сам объяснишь, – произнес Борис, и, взяв плакат в одну руку, поднял другой косого высоко над землей. – Теперь понял, за каких?
– Теперь понял, – ответил косой, – можно поставить меня на место.
Оказавшись на земле, он, очевидно с перепугу, попросил подержать плакат.
– Я подержу, – пояснил он, – а вы пока займитесь вон теми.
И кивнул в сторону усатого и «кепочки».
Через мгновение вокруг Соколов никого, кроме старушки, не было…
Она долго рылась в кошелке и, наконец, достала оттуда пятак.
– У – у, жиды! – погрозила она кому‑то сморщенным кулачком и бросила «несчастным евреям» монету…
Гуревич ждал Леви в ресторане «Европейский».
Он любил этот ресторан – за судак – орли, за московский борщ и даже за микрофоны, покоящиеся на дне китайских ваз, располагавшихся посредине столов и заполненых цветами… Не мог же он говорить просто так, в пустоту – в «Европейском» же его всегда слушали. И внимательно.
Сейчас Гарик устроился за единственным столом без микрофона. Вернее, микрофон, конечно, там был, но ему удавалось его затыкать киевским тортом…
Леви появился возбужденный, в развевающемся шарфе, размахивая руками.
– В чем дело? Почему такая срочность? Пожар?.. Мы что, не могли встретиться вечером?
– Могли. В Париже… Вы можете подлететь часам к десяти на Елисейские поля?
– Гуревич, объясните мне, почему всегда уезжают порядочные люди?
– Дерьмо уезжает тоже. Просто его много. Его хватает на все.
– Когда ваш самолет?
– Через три часа… Я еще должен угостить вас судаком – орли и армянским коньячком.
– Договорились, – сказал Леви, – мы будем пить и есть. Но угощаю я. У меня масса денег. За Ягера. И я их должен немедленно истратить. Они мне жгут карманы.
– Положите их в несгораемый шкаф. Сегодня мы кутим… Я молодожен, Леви, можете меня поздравить. Взгляните, какая у меня счастливая харя. – Он криво улыбнулся. – Вы завидуете? А? Вам тоже хочется? Признайтесь…
Леви печально смотрел на Гуревича.
– Я первый в мире мужчина, который женился на крокодиле, – продолжал Гарик. – Вы знали, что в Париже водятся крокодилы?
Леви покачал головой.
– Странная страна, – произнес он, – не правда ли? В Париж можно вылететь только на крокодиле, в Испанию – на Ягере…
– Значит, вас пустили за Ягера?
– Да, – сказал Леви, – за «азохун вей»… Вы все еще хотите меня угостить?
– Хочу, – ответил Гуревич.
Принесли московский борщ.
– Вам его будет нехватать, – сказал Леви.
– Херня, – бросил Гуревич. – Мне будет нехватать только трех вещей: моря, Невского и вас, Леви.
– Спасибо, – произнес Леви, – вы меня ставите вровень с морем и Невским. Спасибо… Море вы там найдете…
– Не то… Я из этого вышел…
– А в то вы войдете… Не печальтесь… Сегодня вечером вы будете на Сэн – Жермэн. Зайдите там в Де – Маго. Это мое любимое кафе…
– Вы что – там сиживали?
– Никогда… Посидите там за меня. Выпейте за то, что одним козлом в этой стране стало меньше. А потом… Поставьте в Париже что‑нибудь стоящее, из‑за чего стоит жить…
– Вы хотите Галеви, Леви?
– Вы догадались, мальчик.
– А кто у меня будет в главной роли?
– Вам придется трудновато. Такого Иегуду, как я, вам не найти.
– Ну, так бросайте стадо… Сыграйте Галеви…
– Гуревич, – печально произнес Леви, – мы никогда больше не увидимся. Вы знаете это?
– Я так многого не знаю. Зачем мне знать это?.. И потом – даже параллельные прямые пересекаются… Где‑то там, далеко, может быть – в Париже…
Превращение Соколов в «идиотов» шло полным ходом. И они были уверены, что не сегодня – завтра Борщ назовет их кретинами и оставит в покое. И все можно будет забыть, как дурной сон.
Они пили в своей гостиной коньяк, закусывали эклерами, и были веселы, как раньше, до знакомства с «дожем».
– Я совершенно уверен, что товарищ майор уже подыскивает новые кандидатуры, – сказал Борис и поставил рюмку на столик.
– Или сумасшедший дом, – прибавила Ирина.
– Подожди, не торопись, с этим еще рановато…
Он налил себе коньяка, потер руки и задумался, видимо, решая, что бы еще такое предпринять.
– Как ты смотришь на то, если завтра мы потребуем отдать татарам Крым, немцам – Поволжье, а евреям – Урал?
– Евреям – Урал? – удивилась Ирина.
– А почему бы и нет? Тебе жалко?
– Но они там никогда не жили.
– Почему бы им не осваивать новые пространства? В Биробиджане они тоже никогда не жили, пока их туда не послали, – парировал Борис. – Но ты только прислушайся, как звучит: «Урал – евреям»!
– Полный идиотизм! – заметила Ирина.
– Это и прекрасно, – согласился он, – или мы не идиоты?
– Идиоты, идиоты! – успокоила Ирина.
– Затем, – продолжал Борис, – я потребую немедленного восстановления монархии, свободы слова и секса и, – он задумался, – и… роспуска Учредительного собрания!
– Которое распустили в семнадцатом? – уточнила Ирина.
– Именно его. Пусть распускают еще раз!.. И, что самое главное – краковской колбасы в магазинах!
– Это уж чересчур! – заметила Ирина.
– Но ты же знаешь, как я ее люблю, – объяснил Борис.
– Наверно, почти так же, как и я, – улыбнулся майор.
Откуда он появился – неизвестно. Может быть, из мелодии Вивальди, парившей над комнатой. Ведь он был почти венецианский дож, а Вивальди – венецианский музыкант… Они, так сказать, были «земляками».
Речь покинула Соколов. Говорил только «дож».
– У нас с вами одинаковые вкусы, – говорил он, – краковская колбаса с чесночком и горбушкой.
Борщ облизнулся.
Дар речи первым вернулся к Борису.
– Вы, собственно, откуда? – спросил он.
– Прямо с работы, – охотно ответил тот, – забежал в гастроном – и к вам.
Он раскрыл портфель– оттуда густо запахло краковской.
– Угощайтесь!
Он выложил на стол несколько кругов.
– Берите, берите, и не нарезая, а вот так, с куска.
И майор откусил чуть ли не пол – палки.
– Так гораздо вкуснее, попробуйте.
Несколько минут все трое смачно и сосредоточенно жевали колбасу.
– Не пересолено? – нарушил молчание Борщ.
– Вроде, нет, – ответил Борис.
– Не жирновата?
– Нет, в самый раз.
– Что ж вы тогда дурака валяете? – ласково спросил майор. – Пиво с Гусаком, понимаете ли, Урал – евреям, видите ли, революция, о которой говорили большевики…
– …совершилась! – закончил Борис. – Я тогда волновался и ошибся.
– Что вы ересь несете?
– А разве не совершилась? – удивилсь Ирина.
– Послушайте, – Борщ по – отечески улыбнулся, – вы кого из себя разыгрываете, дети мои?
– А что? – спросил Борис, – мы ж договорились – диссидентов!
– Но ведь не идиотов? Неправильной дорогой идете, товарищи! В сумасшедший дом идете. А вам надо в тюрьму! И на Запад! Какой путь вам больше нравится?
– На Запад, – подумав, сказал Борис, – куда ж еще?
– Так и ступайте туда нормальным путем!
– Как?! – взмолился Борис, – я ведь ни черта не знаю! Не видел ни одного живого диссидента! Не нюхал не только практики, но даже теории!
– Изучайте, – спокойно возразил Борщ, – читайте!
– Где? – спросила Ирина, – в библиотеке?
Она иронично смотрела на майора.
– Зачем далеко ходить, – ответил он, – я вам дам почитать.
Он раскрыл портфель и вместо колбасы на этот раз достал оттуда три толстых тома.
– Полное собрание сочинений, – пропел он.
– К – кого? – поинтересовался Борис.
– Солженицына, – скромно ответил Борщ.
Борис с ужасом смотрел на полное собрание.
– Вы знаете, что мне предлагаете?! – сурово спросил он у майора.
– Знаю, – сознался тот.
– И сколько за это можно получить– тоже знаете?
– Бывший их владелец получил восемь, – сказал Борщ, – но можно дать и больше.
– Так зачем же вы нам это предлагаете? – спросила Ирина.
– Мы, кажется, договорились, что вы прекращаете играть идиотов. Не для этого я вас приглашал! У нас достаточно сотрудников, которые их с успехом сыграют, с блеском! Диссидент, дорогие мои, это прежде всего не дурак!
– Поэтому их у нас так мало? – поинтересовалась Ирина.
– И не остряк! – оборвал Борщ. – У него нет времени на иронию. И на скепсис! Он борется, он рвет и мечет, он зажигает и убеждает. Это маленький Герцен, который бъет в свой колокол!
Глаза майора запылали:
– Звоните! – призывал он. – Бейте в набат! Зовите народ к топору! Бросайте в него идеи, которые возгорятся, которые…
– Где их взять? – спросил Борис, – где?
– У Александра Исаевича! – убежденно сказал Борщ, – что ни фраза – алмаз!
Он схватил томик, раскрыл его и проникновенно начал читать.
«Никому не перегородить путей правды, – страстно декламировал он, – и за движение правды я готов принять смерть!»
– Секундочку, – остнановил его Борис, – о смерти речи не было, мы договаривались о другом…
Майор не слышал. Он вошел в роль. И довольно глубоко.
«Многие уроки, – взор его сиял, – научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни.»
Он перевел дыхание.
– А?! Как сказано?!
– Вы им будто восхищаетесь, – сказала Ирина.
– Вы считаете, что нельзя восхищаться врагом?
– Ради Бога, – успокоил Борис.
– Вы думаете, не бывает злых гениев?
– Гений и злодейство – две вещи несовместные, – напомнила Ирина.
– Очень даже совместные, – ответил Борщ, – и если б на нашей стороне было побольше таких людей – мы б давно построили коммунизм! Вы только вдумайтесь в его мысли.
Он снова встал в позу актера.
«Не участвовать во лжи, – качаловским басом произносил он, – не поддерживать ложных действий. Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, но не через меня! Писателям же и художникам доступно большее – победить ложь.»
Все смешалось – майор КГБ чувствовал себя актером, а актеры, – нет, они не чувствовали себя майорами, они стали поклонниками, и, раскрыв рты, восторженно слушали концерт из произведений Солженицына.
«Уж в борьбе– то с ложью, – гремел Борщ, ставший Качаловым, – искусство всегда побеждало!
Ирина зааплодировала. Майор остановил ее рукой.
«Всегда побеждает! – продолжил он, – зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, но только не против искусства!»
Сейчас уже зааплодировал и Борис. Они с Ириной били в ладоши и что‑то кричали. Потом аплодисменты перешли в овацию.
Раскрасневшийся Борщ кланялся.
– Спасибо, – повторял он, – спасибо! – и посылал куда‑то воздушные поцелуи.
– Браво! – орали Соколы. – Бис!!!
Майор прекратил кланяться, отошел чуть назад, выбросил вдруг вперед руку и начал исполнять на бис.
«Ах, не шейте вы ливреи, евреи!
Не ходить вам в камергерах, евреи…»
Вторая овация была похлеще первой. Борщ долго еще читал на бис.
Долго кланялся. Долго слал поцелуи. Наконец, он сел.
– Чьи это были стихи? – спросил Борис.
Майор обалдел.
– Вы не знаете?! Это ж Галич! Галича то уж надо бы знать.
– Почему? – спросила Ирина.
– Потому что это наш враг номер два, – ответил Борщ.
– Мне сдается, что вы восхищаетесь всеми вашими врагами, – заметила Ирина.
– Почти, – ответил майор, – а кто не сдается – того мы уничтожаем.
Он легонько хохотнул:
– Ну, теперь ясно, в кого надо вживаться?
– Да, – протянул Борис, – но нам так никогда не сказать!
– А на что репетиции? – парировал Борщ.
Он скинул китель и сразу стал режиссером.
– Страница 368, обзац четвертый! Читайте!
Борис надел очки, Ирина подвинулась ближе, и они начали:
«Не участвовать во лжи, – в унисон произносили они, – не поддерживать ложных действий…»
– Стоп, стоп, – остановил майор, – в чем дело? Это не репетиция церковного хора. Давайте по одному. Прошу вас, Борис Николаевич!
«Не участвовать во лжи, – дрожащим голосом начал Боря, – не… это, не…»
– Увереннее!
– Не, н – не…
– Что вы бекаете?! У меня ощущение, что вы не верите в то, что говорите.
– Как это не верю? – спросил Борис.
– А что, действительно, верите? – улыбнулся Борщ.
– С чего вы взяли? – отчеканил Борис.
– Так да или нет? – майор смотрел испытующе.
– Как вам будет угодно, – брякнул Борис, – вы как хотите?
Борщ колебался.
– Я хочу, что б в вашем голосе был металл, – наконец, сказал он.
– «Не участвовать во лжи!» – заорал он, и люстра чуть не рухнула. – Вот так. Вы чувствуете железо?
– Чувствую, – сознался Борис.
– Повторяйте!
– Не участвовать в… в… во л – жи…
– Не верю, – бросил майор.
– Не участвовать во…
– Ерунда! Сопли! Железа нет!
– У него нехватка его в организме, – пояснила Ирина.
– «Не участвовать во лжи!» – собрав все силы, выдохнул Борис.
– Лучше, – отметил Борщ, – начинаю верить. Еще!
Борис поднатужился и завопил что было мочи, отдавая последнюю энергию и железо:
– «Не участвовать во лжи!!!»
– Браво, – вопил майор, – Верю! Верю!
И тут растворились двери, и в гостиную ворвались два милиционера и соседка Соколов.
– Вот оне! – голосила соседка, – антисоветчиной занимаются, спать не дают, советскую власть поливают плюс электрификацию.
– Конкретно, – сказал лейтенант, – кто чем занимается?
– Вот ети, – соседка указала на Ирину с Борисом, – поливают, а етот – хрен с портфелем, – она показала на Борща, – им колбасу носит, и то верит, то не верит.
Лейтенант повернулся к «хрену» и вдруг вытянулся по струнке.
– Простите, товарищ майор, – он отдал честь, – вот дура шум подняла, – он кивнул в сторону соседки, – прикажете арестовать?
Соседка ответить не дала.
– Неужто за бдительность?! – завопила она. – С каких ето пор за бдительность сажают, а?..
Борщ пригладил поднявшиеся в творческом порыве волосы и, обращаясь к ворвавшимся, сказал:
– Немедленно освободите сцену!
Затем он повернулся к Соколам и добавил:
– Репетиция продолжается…
Гуревич улетел из России на «Каравелле», причем, де Гуревичем. Динозавр оказался потомственным дворянином с приставкой «де», как Д’Эстен, и «Де» динозавра, как Гарик ни сопротивлялся, перешло к нему.
– Де Гуревич, Дмитриевич, – повторял он.
Явно попахивало Югославией.
Все предъотъездные дни были сплошным кошмаром – динозавр безостановочно целовал Гарика, хотя никто не кричал «горько», и время от времени затаскивал его в постель. А что Гуревич мог сделать – она была законной женой, со свидетелями…
Он принимал успокоительные таблетки, часами просиживал в туалете, на закрытом унитазе, и ждал отлета…
Провожать он себя запретил – такую жену никто бы ему не простил. Не мог же он ее запаковать в чемодан.
И, тем не менее, на баллюстраде для провожающих рухнуло два тела – это были Сокол и Леви. Они пришли без разрешения.
Клотильда целовала его во время таможенного досмотра, на трапе, в дверях, в салоне.
Самолет взлетел. Многих тошнило, другие читали, спали, некоторые рвали. Она целовала.
Наконец, стюардесса объявила, что самолет пересек государственную границу.
Гарик отодвинулся от Клотильды.
– В чем дело? – не поняла она и вновь потянулась губами к его лицу.
– Извините, – вдруг перешел он на «вы», – спектакль окончен, мадам.
– Какой спектакль?
– Зрители могут расходиться.
– Что это значит?
– Ну, идти в буфет, в туалет, домой. Куда хотят. Извините.
И Гуревич пересел в другой ряд. И Клотильда тоже.
– Оставьте меня в покое, мадам… К сожалению, пьеса оказалась ужасной, играли мы в ней отвратительно. Наша уважаемая комиссия зарубила бы ее на корню… И давайте забудем об этом.
– Как вы можете?
– Видите ли, мадам, – попытался объяснить Гарик, – мы на свободе. Вот уже целых пять минут. А, значит, свободен я и свободны вы. Не правда ли? И потом – зачем я вам нужен? Взгляните на меня внимательно. У вас просто не было времени разглядеть меня – вы целовались. Я уже немолод, сзади намечается лысина – видите? – я не создан для семьи. Признаться честно – я развратник и пьяница. В голове, кроме женщин и театра, у меня ничего нет.
– И прекрасно! Анкл Майк сказал, что вы собираетесь поставить «Ромео и Джульетту» со мной в главной роли.
Гуревич поперхнулся.
– Он пошутил, ваш Анкл Майк. Он большой шутник… И потом, учтите, я вам буду изменять. Это моя натура.
– Ради Бога, – всплеснула руками Клотильда, – кто мешает! Вы настоящий русский мужик, я понимаю.
– Я – еврей.
– Тем более. Настоящий еврейский мужик!
– Зачем вы продолжаете играть в этой ужасной пьесе? – спросил Гарик. – И пересядьте, пожалуйста, на свой ряд… Я вышел из моря… А откуда вы – я не знаю…
– Я из старинного дворянского рода, – напомнила Клотильда.
– Ну вот, видите – я вам не пара. Зачем вам этот мезальянс? И заберите ваше «Де». Пересядьте с вашим «Де». Взгляните на меня – оно мне не к лицу.
Ее глаза загорелись яростью.
– Вы свинья, – крикнула она, – настоящая русская свинья.
– Я – еврей, – напомнил Гарик.
Клотильда с горя хотела выброситься в иллюминатор, но он был задраен.
Она попросила у стюардессы отравы. Ее не оказалось.
Она начала вопить. Де Гуревич скрылся в туалете.
Из самолета он вновь вышел Гуревичем.
Давно известно, что книги – источник знания. Особенно те, из которых можно что‑то узнать…
Все последующие дни Соколы пили, ели, готовили, принимали ванну, черпая из этого источника. Звонил телефон, стучали в дверь – они черпали, не реагируя. Ложась в постель, они осторожно интересовались.
– Ты с кем сегодня спишь? – спрашивал Борис.
– С Буковским, – радостно отвечала Ирина, – а ты?
– С Алексеевой, – гордо отвечал он.
И они охотно прощали друг другу эти измены…
В этот вечер Борис, удобно расположившись в кресле, читал вслух. Ирина возлежала на тахте. В углу надрывался телефон.
– «Живите не по лжи!» – горячо читал Борис.
– Чуть больше пафоса, – посоветовала Ирина.
Борис добавил.
– «Живите не по лжи!» – молил он.
– Больше страсти, – сказала она.
Он добавил страсти.
Телефон в углу был готов разорваться.
– «Живите не по лжи!» – страстно выкрикнул Борис и схватил трубку.
– Алло, алло, черт подери!
– Борис, – спокойно сказала трубка голосом Главного, – почему вы не являетесь на репетиции?
– Потому что мы не хотим жить по лжи! – в раздражении объяснил Борис.
– Что? – не поняла трубка.
– «Пусть ложь приходит в мир, но не через меня! – пояснил Борис. – Против многого в мире может выстоять ложь, но только не против искусства!»
Он шпарил по памяти.
Трубка довольно долго молчала.
– Послушайте, Борис Николаевич, – наконец, проговорила она, – даже древние греки знали, что есть мера в вещах!.. В пятницу мы читаем новую пьесу, и если вы хотите в ней роль – извольте придти на читку!
«Ах, не шейте вы ливреи, евреи! Не ходить вам в камергерах, евреи!» – с пафосом продекламировал Борис.
– Послушайте, – спросила трубка, – что вы там бормочете? Какие ливреи и причем тут евреи?
– Вам этого не понять, – ответил Борис. – Хорошо, мы придем на читку. Хотя новые роли у нас уже есть…
Париж поразил гения Гуревича – его там никто не знал.
Это было непривычно. В Ленинграде на улицах его узнавали, останавливали, заговаривали, просили автограф, иногда денег.
Часто местные алкоголики наливали ему бесплатно стакан «Московской» и пили за театр и за Гуревича.
Пожать ему руку было честью. Ее потом долго не мыли. Часто он слышал шепот:
– Вон Гуревич, да вон, вы что, не видите?..
Где‑то в глубине ему было приятно.
Тут о нем никто не слышал, не бросал в его сторону пылающих взглядов. Даже проститутки, даже полицейские.
Было как‑то непривычно ходить среди людей абсолютно незнакомых, равнодушных к его такой известной особе, не с кем было перекинуться словом, хлопнуть по плечу, расцеловаться.
И вообще, если б и было с кем – целоваться было как‑то неприлично – принимали за пидера.
Ему так и разъяснили. Но все равно – пидер – не пидер – а целовать было некого…
Первую ночь он провел в отеле, где‑то на Монпарнасе – его тянуло к тем художникам начала века.
Открыл ему заспанный вьетнамец, взял деньги и протянул ключ.
– Комнаса сесть, – сказал он.
Первым делом в «комнасе сесть» Гуревич начал искать туалет. По всей видимости, его не было. В коридоре тоже. Уже в панике он обнаружил его внизу, во дворике. Дверь была дощатой, скрипела, и упитанный человек вряд ли б мог туда войти.
Гуревич втиснулся – он был тощий, как Мейерхольд. Но там не было света. Начались новые поиски – широко раскрыв дверь, Гуревич искал выключатель.
При луне было как‑то неудобно, а внутреннего света не было. Казалось, что электричество еще не изобрели.
Силы кончались, больше терпеть он не мог, со злостью захлопнув дверь, взгромоздился на унитаз… и свет зажегся.
Это его поразило. Он слез с унитаза – все погузилось во мрак.
– Да, это город света, – произнес он.
Затем он вернулся в «номер сесть» и начал искать подушку, потому что на кровати были какие‑то валики. Он искал ее в пахучем шкафу, под кроватью, стулом – подушки не было.
Без подушки он спать не мог, он привык к ней – не было куда уткнуться, куда зарыться, куда плакать.
Он находил все – хлебные крошки, пауков, помаду – подушки не было.
Он разбудил вьетнамца.
– Подушка, – сказал он по слогам, – по – ду – шка!
– Не полосено, – ответил вьетнамец, – три свезды – есть подюска, нет свезды – нет подюска.
И пошел спать.
Гуревич покрутился по номеру, полюбовался на крышу общественного туалета под окном и лег спать на валик.
– Может, усну?..
Но сомкнуть глаз ему не дали – со всех сторон занимались любовью.
С юга сопели, с севера стонали, с востока вскрикивали, а с запада с посвистом долетела фраза «Анкор, шери, анкор!».
Гуревич встал и пошел к вьетнамцу.
– Это гостиница или публичный дом? – поинтересовался он.
Вьетнамец с трудом протер глаза.
– Три свезды – есть госсиница, – сказал он, – нет свезды – публисьный дом.
И вновь уснул.
Гуревич хлопнул дверью и вышел в ночной Париж.
На читку Соколы ехали в метро, никого и ничего не замечая и продолжая жадно читать. По ним можно было сразу понять, что советский народ – самый читающий в мире.
Пожилой человек в пенсне незаметно читал через плечо Бориса.
– Простите, – обратился он к Соколам, – вы когда выходите?
– На станции «Невский проспект», – раздраженно ответил Борис, – не мешайте! – И вновь углубился в чтение.
– Извините, – сказал пожилой, вы не могли бы читать несколько быстрее?
– Почему? – не поняла Ирина.
– Видите ли, – объяснил пожилой, – больно интересная книга… А вы скоро выходите. И я ничего не успею просмотреть… Вы не могли бы мне хотя бы сказать, кто ее автор? И где ее купить?
Соколы хотели что‑то ответить, но вдруг взгляд старичка задержался на одной строчке. Он несколько раз пробежал ее глазами, потом побледнел, вскрикнул и начал медленно оседать.
Толпа бросилась к нему.
– В чем дело, – взволнованно спрашивали люди, – сердце?
Ирина раскрыла сумочку и стала искать лекарство.
Старичок раскрыл глаза.
– Са – сахар – ов, – едва выдавил он, – с – сахар…
– Ясно, – констатировала полная дама, – диабетик…
В гардеробе им приветливо улыбался Петрович.
– Ну, что, – подмигнул он, – сегодня снова до пояса раздеваться будем или до трусов?
«Сейчас я тебе скажу все, – подумал Борис, – подожди…»
– А знаете ли вы, Михаил Петрович, – с пафосом начал он, – что…
– Знаю, знаю, – прервал тот, – театр начинается с вешалки. Вы мне это уже говорили.
– Да подождите, – сказал Борис, – не это… Знаете ли вы, что коммунизм – это…
– …молодость мира и его возводить молодым?!
– Ты дашь сказать, – вскипел Борис, – или нет?!
– Ради Христа, – обиженно протянул Петрович, – говорите.
Борис глубоко втянул воздух.
– Так вот, Михаил Петрович, чтобы вы знали и запомнили навсегда: коммунизм – это опиум!
Борис ждал взрыва. Падения потолка. Глубокого обморока у Михаила Петровича. Ничего не последовало.
Петрович только улыбался.
– Ошибаетесь, Борис Николаевич, – сказал он, – перепутали малость! Это религия – опиум для народа, а коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны!
– Чепуха, – возразил Борис, – тебе просто мозги запудрили. Запомни хорошенько: коммунизм – это религия для народа…
– Что? – удивился Петрович.
– …плюс опиум для всей страны, – заикаясь, закончил Борис.
– Это как прикажете понимать?
Борис ненадолго задумался.
– Постой, – сказал он, – я немного сбился. Слушай внимательно. Коммунизм – это опиум плюс электрификация всего народа! Теперь понял?
– Всего народа?! – остолбенел гардеробщик.
– Не путай, – сказал Борис, – сейчас объясню. Это, если хочешь, электрификация опиума. Вот!
– В каком смысле? – глаза у Петровича начали выходить из орбит.
Борис беспомощно оглянулся на Ирину.
– В общем, так, – спокойно сказала она, – дерьмо ваша советская власть!
– А плюс электрификация? – недоумевающе спросил гардеробщик…
Каким образом некоторым пьесам, попадавшим в руки Главного, удавалось миновать его камин – было загадкой. Одну из них маленький суетливый драматург зачитывал сегодня в переполненном репетиционном зале. Несмотря на кульминационный момент, почти весь зал находился на грани засыпания. Борис и Ирина зашли именно в этот момент – в пьесе трагически гибли бараны. Целое стадо. Никакого интереса на лицах актеров не было – может быть, потому, что никто не мечтал играть баранов, да еще гибнущих, а других ролей в пьесе было кот наплакал.