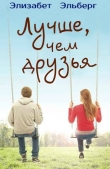Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Александр и Лев Шаргородские
Собрание сочинений в четырех томах
БАЛ ШУТОВ
Роман – фарс
ТОМ 3
ЛАРИСЕ И ЛИНЕ
Славой города был театр.
В него ломились. Выносили двери и окна. Сносили конную милицию. Валили бюст основателя.
Основатель стоял без носа.
Там поражали воображение, опрокидывали представления, заставляли трепетать.
Там пылали страсти и даже дрались.
В городе говорили только о театре.
– Вы вчера были? Потрясающе! Эклеры с семгой и муссом из дичи! Такого еще не бывало!
– Ну, как же, как же, у Мейерхольда. У меня до сих пор вкус той семги.
– Что вы говорите?! Во – первых, семга бывала у Таирова и, во – вторых, – без мусса!
Заядлыми театралами был весь город.
– Вы идете? Мы идем!
– А что дают?
– Что‑то новенькое! Вроде, севрюга в слойке…
Театр преуспевал…
Там иногда выкидывали такое, чего не помнили и у Станиславского. Например, рулет из поросенка с черносливом. Или волжский балык – им удивляли при Чехове. Там давали сливки, взбитые с брусникой и шоколадом. Фромаж из дичи в апельсине, креветки и судак в кляре.
Оперный театр со своей «Богемой» собирал какую‑то сотню, а тут на миноги притащилось около полутора тысяч. Правда, миноги случай был особый. Его помнили долго. Повалили стойку буфета, и троих театралов увезли в хирургическую клинику с переломами черепа. Да, славой города был, безусловно, театр, но славой театра был, без сомнения, буфет.
Шли прямо туда, минуя зал, с кошелками.
Чтобы загнать зрителей в зал, на помощь билетершам часто приходила вся труппа, иногда пожарники.
Когда в буфете бывала кайса с курагой и цыплята в кокоте – помогал только брандсбойт.
В зале хотели ввести пристегнутые ремни, как в самолете, не отстегивающиеся до конца акта.
Что бы ни показывали на сцене – перед глазами театралов плавал молодой поросенок, летали жареные куропатки, пролетал помидор, фаршированный крабами.
Окончание акта приветствовалось бурей аплодисментов – можно было нестись в буфет.
По дороге падали, ползли по телам, некоторые кричали «Банзай!»
И на следующий день опять разговоры.
– Вчера было что‑то особенное. Незабываемое!
И облизывались.
Как театру удавалось иметь такой буфет – не знал никто.
Поговаривали, что директор театра, Орест Орестович, в свое время был ответственным за компоты в Кремле и поэтому имел в этой отрасли неслыханные связи…
Кроме буфета, в театре была еще и труппа, которую возглавлял главный режиссер Олег Сергеевич Ястремский – обладатель совершенно необычайного таланта, о котором поговорим особо…
Театр назывался «Театром Абсурда», и это таки был сплошной абсурд – кто‑то из актеров косил, другой прихрамывал, третий – шепелявил, художник был дальтоником, композитор – туг на ухо, заведующий литературной частью не умел читать, а Главный – ставить…
И все вместе обожали авторов.
Их встречал швейцар, в ливрее, с бородой.
– Ивана Грозного, – объяснял он, – из «Великого Государя».
Швейцар лично, по мраморной лестнице, вел смущенного автора в кабинет Главного.
– Вот, – говорил швейцар, – по вашу душу.
При виде авторов Главный всегда вскакивал, долго целовал драматурга, прижимал к груди его, пьесу и всегда спрашивал:
– Почему одна?
– А сколько? – интересовался растерянный автор.
– Две! Четыре! Вы не представляете, как вас любит наш театр!
Завтра же занесите. Театр – это ваш дом, это очаг, это ваше убежище. Театр – это…
Главный говорил много.
Автор краснел, смущался, заикался, с благодарностью жал руку и тут замечал, что это рука не Главного, а швейцара, причем жесткая, кирпичного цвета, из папье – маше.
Автор вздрагивал.
– Не бойтесь, – успокаивал швейцар, – ладошка государя. Душила царевча, «Царь Федор Иоанович».
Автор несколько успокаивался.
– А – а где же Главный? – спрашивал автор.
– В проруби, – отвечал швейцар, – вернее, в морозильнике. Они очень любят там сидеть. Они морж. Они философ. Им решения спектаклей в нем являются.
Это была правда. Главный любил зимние купанья. Они спасли его от белой горячки и слабоумия.
Однажды, вдрызг пьяный, он провалился под лед, на Неве, градусов в сорок, и протрезвел.
С тех пор, раза два в день, он бежал к проруби. Зимой.
Летом было сложнее. Он достал себе американский холодильник «Вестинг хауз» и с трудом влезал в него, в трусах, на босу ногу. Морозильник вполне заменял ему прорубь.
Кроме того, театр был известен своим репертуаром. Никому в стране не разрешали таких смелых пьес, сатирических комедий, драм зарубежных авторов, как ему.
Тут было две причины.
Во – первых, необычайный талант главного режиссера – сатирической комедии он выбивал зубы, трагедию превращал в фарс, зарубежных драматургов – в советских, критику – в аллилуйю, и вообще своими постановками с невероятной легкостью доказывал, что Чехов графоман, а Теннеси Уильямс на грани слабоумия.
Его ценили и все разрешали.
Во – вторых, как вы уже догадались – буфет.
Руководители знали: что бы Главный ни поставил, все равно зритель увидит бутерброд, ожидающий его в антракте.
Так текла пасторальная театральная жизнь, пока вдруг Главному, – какая муха его укусила? – захотелось в театр помимо хорошего бутерброда – талантливого режиссера.
И он пригласил Гуревича.
Эта была одна из основных жизненных ошибок Главного.
Гуревич был вне систем. Откровенно гениален. И повсюду тянул за собой скандал – каждый второй его спектакль запрещался, вызывал толки, опрокидывал Станиславского и прочих.
С приходом его в Театр Абсурда все изменилось.
Во – первых, он затмил буфет. Не то, чтобы полностью, но все же. Ему удалось расколоть публику.
Часть продолжала ходить в буфет, но часть – на Гуревича.
Его постановки будоражили и, в отличие от Главного, у которого даже через революционные сцены видели буфетный бутерброд, у Гуревича в любом бутерброде проглядывала контрреволюция.
Это в тайне тешило сердце Главного – помимо всего, ему еще хотелось, чтобы его театр был фрондерским.
И потом, Главный догадывался, что, в отличие от него, Гуревич может из любого графомана сделать Чехова.
Он лелеял Гуревича, защищал его от директора, который угрожал Главному, что все они полетят, несмотря на буфет, и даже выделил Гуревичу отдельную комнату в коммунальной квартире на Невском.
Театр из продовольственного постепенно превращался в интеллектуально левый, сюрреалистический и авангардистский.
О нем написала «Монд», его посетил посол Ее королевского величества, и в модных салонах по обе стороны океана споры начинались с него. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не «Отелло», который все это придушил, причем руками гениального Гуревича.
Гуревич решил поставить бессмертную трагедию совершенно по – новому. После долгих размышлений он превратил венецианского мавра в ленинградского еврея.
Он увидел в драме Отелло – драму чужого, непризнанного страной, людьми, и вечно ожидающего подвоха.
Отелло играл Боря Сокол. Он не картавил, был без пейс, говорил текст Шекспира, но было ясно, что это затравленный еврей.
Репетиции шли спокойно, шились костюмы, возводились декорации.
Скандал разразился на приемке.
Гуревич переоценил свой гений – он думал, что никто из комиссии не поймет его решения, но нашелся один член, который увидел все и чуть не отдал концы…
Приемка шла ночью – Гуревич еле успевал.
Приемочная комиссия была небольшой – дама из Управления культуры, дама из комитета партии, рабочий с «Электросилы» – глас народа, гегемон, офицер флота – Отелло как‑никак был генерал, директор театра Орест Буяновский, юная комсомолка с текстильной фабрики – видимо, специалистка по Дездемоне, товарищ из Демократической Республики Мавритании – земляк Отелло и еврей Юра Дорин – чтоб не думали, что в стране свирепствует антисемитизм.
Всех их сплачивала ненависть к театру и любовь к антрактам.
Ах, если б спектакли состояли из одних антрактов!
Ах, если б пьесы были в пяти антрактах с буфетом!
Ах!
А тут пять актов, длинных, бесконечных, где терялась иногда надежда дотянуть до антракта.
Главный прилетел прямо из морозильника, прямо к началу.
Он расцеловал всех членов и сел сзади – скромно, ненавязчиво.
Гуревич дал сигнал – и спектакль начался.
Из всей комиссии пьесы не читал никто. Во всяком случае, до конца. Все члены жевали бутерброды, принесенные Орестом Орестовичем. Даму из райкома он кормил лично, с руки. Когда раскрыли занавес – Орест Орестович был возмущен.
– В чем дело, Маргарита Степановна еще не поела!
– Ничего, ничего, – давясь икрой, бормотала Маргарита Степановна, – начинайте.
Она кивнула головой Брабанцио.
– Говорите, что там у вас.
Спектакль начался.
За время всего спектакля никто из членов комиссии не проронил ни слова.
В антрактах дамы ходили в туалет, важно, торжественно, словно суд, удаляющийся на совещание.
Офицер флота в туалет трусил быстро, ловко, так что Орест Орестыч еле успевал перед ним раскрыть двери кабинки.
– Не надо, я сам, – благодарил офицер.
Неизвестно, что он имел ввиду…
Рабочий – гегемон начиная со второй цены спал. Очевидно, он пришел после смены. Храп его пугал Дездемону и даже Яго.
Представитель Демократической Республики Мавритании беспрестанно улыбался. Особенно в сцене удушения.
Было несколько жутковато.
Директор не сводил глаз с Маргариты Степановны. Если та по ходу пьесы хмурилась – директор мрачнел, если та зевала – директор зевал громче, шире, более вызывающе, если она слегка улыбалась – директор выпадал от смеха из кресла.
На гениального Гуревича никто не обращал внимания.
Главный дрожал, что не случалось с ним даже в проруби. Уже в первом акте он понял, что приготовил гениальный Гуревич. И тогда он похолодел. Это было чересчур.
В третьем акте к нему обернулась дама из Управления.
– Перестаньте стучать зубами, – приказала она, и Главный понял, что дама обо всем догадывается.
Он начал бороться с зубами, ничего не помогало. Он сбегал в буфет, сунул между мостами кусок булки, и стук прекратился.
То, что благородного еврея комиссия не простит – это Олег Сергеевич знал наверняка.
Он стал оглядывать членов комиссии – кто понял еще? Рабочий храпел, но и это не отменяло понимания. Товарищ из Демократической Республики Мавритании не понимал ни слова по – русски, но он мог догадаться по движениям и другим признакам. Морской офицер вел отчаянную войну со сном и время от времени побеждал.
Судя по харям, о случившемся догадывалась только Анфиса Фирсовна, дама из Управления. Из всех членов к пятому акту не спала только она. Актеры играли перед спящей комиссией. Если б не храп «гласа народа» – можно было бы сказать, что им повезло.
Наконец, занавес рухнул. Гуревич встал. Надо было начинать обсуждение. Комиссия дремала и никто не решался будить ее.
Главный нашел глазами Гуревича и в нависшей тишине показал ему кулак.
– Что вы наделали, гений?!!
– Вы этого хотели, – ответил гений, – вы для этого меня пригласили! И давайте‑ка приступим к обсуждению. Они выспались, а я нет.
Главный возразить не успел.
– Свистать всех наверх! – крикнул Гуревич и не ошибся.
Офицер флота вскочил, как по тревоге, выхватил неизвестно откуда оказавшийся у него боцманский свисток и вовсю начал свистеть. Комиссия проснулась. Кроме рабочего. Теперь начали ждать его. «Глас народа» спал тяжело – ворочался в кресле, сопел, пускал слюну, бормотал. Товарищ из Демократической Республики Мавритании улыбался. Наконец, рабочий поднял свинцовые веки.
– Херня какая‑то, – сказал он, – мне черный приснился. А вам?
Дамы улыбались.
– Просыпайтесь, Семен Тимофеевич, начнем обсуждение.
– Я сейчас, – пообещал Семен Тимофеевич, быстро сбегал в туалет и вернулся, забыв застегнуть ширинку.
Начались выступления.
Выступали все, кроме дамы из Управления. В глазах у нее гуляли молнии. В основном, мнения были положительные.
Рабочий с «Электросилы» только заметил, что, возможно, не стоило бы душить девушку. Может быть, избить – чтоб знала… а, в общем, смешно. Офицер флота с ним согласился, подтвердив, что генералу так себя вести неприлично, во всяком случае советский генерал так бы себя не вел. А, в общем, тоже неплохо. Товарищ из Мавритании все время кивал головой – это было его выступление. Комсомолка с ткацкой фабрики стеснялаь и говорила о девичьей чести и о плане на ситец. Видимо, волновалась. Дама из райкома говорила, что пьеса не очень партийна, но что товарищ Гуревич, видимо, в этом не виноват, учитывая эпоху написания. Поднялся еврей Дорин – и вот тут‑то разразился гром. Анфиса Фирсовна властно остановила его, встала и, широко раскрыв глаза, уставилась на Гуревича.
– Вы кого поставили? – спросила она у гения, – Шекспира или Шолом – Алейхема?
Она повернулась к директору.
– Орест Орестыч, вы заведуете театром или синагогой?!
И затем обратилась к Отелло.
– А вы, товарищ Сокол, как же вы позволили сделать из себя сиониста?
Сокол был еще в гриме.
– Побойтесь Бога, Анфиса Фирсовна, – пробасил он, – где ж вы видели черных сионистов?
Анфиса Фирсовна не ответила. Она только развернулась в сторону.
– А вот нам сейчас товарищ из Демократической Республики Мавритании скажет.
Товарищ заулыбался и закивал.
– Бивает, бивает, – просюсюкал он, – осень бивает…
– Вы видите, что говорит специалист?
И тут, как по команде, все начали поносить постановку.
И первым – еврей Дорин.
– В то время, как израильская военщина бомбит мирные села террористов., – заявил он.
– Что вы там несете, Дорин? – остановила дама из райкома.
– Простите, в то время, когда мирные села братьев арабов бомбят израильскую военщину…
У него забрали слово.
Все остальные клеймили Гуревича, как полагается. Семен Тимофеевич даже хотел его ударить, но ему сказали, что в театре не положено.
– Вам виднее, а то я могу, – предложил гегемон.
Было обнаружено по ходу, что Яго как две капли воды напоминает секретаря парторганизации. Дама из Управления стучала ножкой, и время от времени бегала в туалет. Все были возмущены.
Это был скандал. Орест Орестыч лежал в полуобмороке, Главный жрал что‑то сердечное и оправдывался.
Только Гуревич был спокоен. Он их всех ненавидел – кажется, это ему придавало силы.
Он охотно признал свои ошибки, особенно в распределении ролей.
– Я должен был себе взять Отелло, а вам, Анфиса Фирсовна, поручить роль Дездемоны.
– Это еще почему?! – взвизгнула та.
– Вы не представляете, как естественно я б вас удушил.
Дама из Управления откинула назад голову.
– Еще неизвестно, кто кого! – сказала она.
И была права.
Спектакль закрыли. Гуревича отстранили от работы. Боре Соколу влепили выговор за потерю бдительности, но с роли не сняли. Когда‑то он играл Ленина, и его чуть побаивались. К тому же, это был самый высокий в стране Ленин – в Боре было что‑то около двух. Видеть Ленина с раздутыми бицепсами и бычьей шеей доставляло огромное удовольствие руководству. Все помнили сцену, как Боря пронес на вытянутых руках через всю сцену проститутку Троцкого и швырнул его глубоко в оркестровую яму. Когда ему поручали Отелло, боялись, чтобы зрители не увидели в нем Ленина.
– Учтите, товарищ Гуревич, – предупреждали его, – чтобы у вас не получилось, что Дездемону душит Владимир Ильич.
А вот получилось еще хуже.
Главный валялся в ногах, умолял простить, умолял поручить спектакль ему.
И они поручили.
Гуревич вышел из театра один и пошел по Невскому. Было раннее утро, дворники мели, машины поливали, и на разных домах висели афиши его спектакля, который никогда не родится.
Гарик уже не возмущался. Когда возмущаешься часто – это становится обыденным и возмущение гаснет, как костер.
Он брел и думал про глупость. Про ее силу, ловкость, талант и про то, что у нее всюду огромное количество родственников.
Бороться с глупостью Гарик не умел. И человечество тоже. Куда там глупость, когда они не могли побороть простой насморк. Вечная глупость и вечный насморк – две вещи, мучавшие постоянно гения Гуревича.
И ни от одной из них не было средства.
Он запахнулся в теплый вязаный шарф, огромный, желтый, который связала ему мама, и вдруг вспомнил хари членов комиссии. Его забило в ознобе.
– Ослы о лире! – зло выплюнул он. «Впрочем, – подумал Гарик, – почему бы ослам не говорить о лире, когда лира воспевает ослов?..»
Сколько его знакомых поэтов, писателей, режиссеров занимались этим. Он вдруг почувствовал, что ему все осточертело – комиссии, запреты, театр, афиши, выговоры, хари на портретах, на телевидении, и ему захотелось все бросить, сжечь мосты, раствориться или переехать в другую галактику, где тепло, нет насморка и не запрещают пьес.
Гуревич зашел в забегаловку на Исаакиевской площади, опрокинул стакан армянского коньяка и поехал в Репино, к морю.
Только море могло помочь ему в этой стране…
Он вышел из электрички, прошел через сосновый лес и оказался на берегу.
Ветер обнял его, по родному, по – братски, и волна подмигнула.
Здесь он чувствовал себя дома. Ему становилось хорошо… Дышалось привольно, открывались неизведанные дали, и мир виделся в иных цветах. Потому что, и это вполне возможно, кто‑то и произошел от обезьяны, но лично он, Гуревич, – он был в этом уверен, – вышел из моря. Причем, из Балтийского.
Он даже знал, где – на станции Репино, бывшей Куоккала…
Было июльское утро, песок еще хранил ночную свежесть, пляжники загорали, играли в мяч, в преферанс, дети ловили казераг, пускали змей – и вдруг одна волна вынесла его на берег…
Так Гарик представлял свое рождение. Хотя мама его, пианистка, изестная всему Ленинграду, а, может быть, и за его пределами, утверждала, что он родился в каком‑то родильном доме и даже показывала его ему. Какая скука! Мама, наверно, все перепутала, она была стара и уже с трудом исполняла полонезы Шопена. Так, для себя, потому что Шопен уже вышел из моды, он был какой‑то нешумный, а все требовали криков и грохота…
Наверное, Гуревич был прав – во всем его облике было что‑то от дельфина – радостное, озорное, и так же, как и они, он был добродушен. Гарик был уверен, что у дельфинов не морда, а лицо, к тому же лучше многих человеческих, какое‑то интеллигентное. Морда была у Ореста Орестыча, который произошел от шакала. Гуревич был в этом уверен. Такая уж была у него теория – человек произошел не от одного какого‑то животного, а от разных. Каждый от своего. Кто‑то от ехидны, кто‑то – от барана, а вот Орест – от шакала. А Главный, безусловно, от моржа…
Когда‑то они с мамой жили недалеко от моря, и когда оно осенью разливалось, то волны ласкали порог их дома и слушали мамины полонезы.
Гарик не играл ни на чем. У него все играли. И как! Театр поглощал все его время, он им дышал, им жил. А в свободное время он любил гулять вдоль своего моря. Такое у него было хобби…
Прогуливался он один, жены у него не было. Когда‑то в юности он любил одну, с глазами вечерней волны, ее звали Ария, она тоже вышла из моря, но, видимо, из другого, не из Балтийского. И ничего у Гуревича с ней не получилось… А потом у него было много других красавиц, но он почему‑то всегда вспоминал ту, Арию…
И не унывал. Он знал язык ветра, он понимал, что пела ему волна, о чем думали сосны, и ему было хорошо с ними. Он многое мог им рассказать, и, надо отметить, что это были прекрасные собеседники. Они слушали его внимательно и никогда не перебивали. И он их не перебивал, когда они повествовали ему о своей жизни. Можно смело сказать, что они уважали друг друга.
Хорошо, когда у тебя в друзьях море. Оно может взбурлиться, может окатить тебя, но никогда оно тебе не изменит…
«Однажды, – думал Гарик, – оно заберет меня, так же, как вынесло однажды».
И ему было легко – уйти в море было для него совсем нестрашно.
…Гуревич присел на остывший песок и стал смотреть вдаль. Он видел волны, боевые корабли и горизонт – чистый от кораблей, от купающихся, от всего. Чистый и воздушный.
Ему бы хотелось жить в том месте, где море встречается с небом, или где красное солнце уходит в лазурное море.
Он был мечтатель, гений Гуревич, вышедший из моря на станции Репино, бывшей Куоккала…
Он сидел и глядел. И вдруг где‑то там, куда только что село солнце, он заметил волну. Высокую, бурную, пенящуюся, и наверху, на этой пене, восседала девушка, удивительно на кого‑то похожая, с длинными волосами, скользящими по воде.
Бег волны нарастал, девушка приближалась, и Гарик даже привстал.
Откуда‑то из моря шел солнечный свет, сияние, свежесть.
Волна ударила о берег и бросила незнакомку прямо в его объятия. Глаза забрызгало соленой пеной, песком, илом, и когда он их раскрыл – на руках у него сидела мокрая красавица и улыбалась.
– Кто вы? – обалдел он.
– Гуревич, – пропела она, – вы меня не узнаете?
– Постойте, – он протер глаза, – нет, не совсем.
– Я – из пены морской, – напомнила девушка, – кто вышел из пены, Гуревич?
Он прекрасно знал, кто вышел, и она была похожа на нее, как две капли воды… Но Гарик молчал.
– Я – Афродита, Гуревич, – пропела девушка.
Он онемел. И в этом не было ничего удивительного. Впервые в жизни он держал в объятиях Афродиту
От удивления Гарик опустил руки – и Афродита упала на сырой песок.
– Ой, – тихо вскрикнула она, – какая твердая земля! Когда вас опускают в море и вы падаете – совсем не больно.
И она приподняла Гуревича и бросила в вечернее море.
Он долго барахтался, отфыркивался, и, наконец, вылез на берег.
– Правда, не больно? – спросила она.
– Совсем, – ответил он, – ничуть. Как приятно падать в море.
– Хотите еще?
– Потом. Пусть сначала просохнет костюм.
– А зачем он вам? – удивилась Афродита, – я вот обхожусь без…
– Вы считаете… – начал Гарик.
– Ну, конечно! – одним движением руки она сбросила с него хороший, недавно купленный костюм, и он остался в том, в чем вышел когда‑то на балтийский берег.
– Вам что, неловко? – спросила она.
– Да не… Вот только прохожие…
– Бог с ними, – ответила она, – что они понимают в море…
– Откуда вы меня знаете? – спросил Гарик.
– По театру, – сказала Афродита. – Я видела все ваши спектакли. Даже запрещенные. И они мне нравились… Вы рады, что я приплыла, Гуревич? Давайте побежим, быстро, как волны.
– Давайте, – ответил он и рванул.
– Не здесь, – попросила она. – По суше больно.
– А где же?
– По морю, Гуревич.
Он растерялся.
– Я никогда не бегал по морю, – ответил он. – Я не умею.
– Умеете, – улыбнулась она. – Вы попробуйте– и увидите.
– Да нет, я утону. Точно!
– Не бойтесь, – она легко подталкивала его к краю. – Ну, побежали!
Большая толпа одетых людей наблюдала за ними. Гарику даже явстенно показалось, что он различил в ней морды членов комиссии.
– Перепили, видимо, – это, без сомнения, была дама из Управления, – надо вызвать милицию!
Гуревич робко оглядывался и явственно видел, как гегемон грозил ему кулаком, а офицер – кортиком! Как смотрели на него зверские рожи в вечерней толпе. Ему не хотелось тонуть – но еще меньше он хотел быть рядом с ними…
Афродита подтолкнула его, взяла за руку и они… пошли по воде, по морю, туда, за горизонт.
– Ну, вот видите, Гуревич, – говорила Афродита, – это легко.
– Кто бы мог подумать, – произнес он.
Гарик шел весело, подпрыгивая, волна счастливо щекотала пятки, ветер гладил голову.
– Как хорошо! – произнес он. – Почему я всю жизнь ходил по суше?
– Потому, что вы думали, что не умеете по морю. А вы умеете все… Куда мы пойдем, Гуревич? Хотите туда, где встречаются море с солнцем?
– А это возможно? – он не верил ее словам.
– Конечно. Это совсем недалеко. Дайте руку.
Ладонь ее была теплая, нежная, как вода в июле.
И они отправились туда, где небо встречалось с морем…
Пел ветер, брызги остужали возбужденную голову, и русые волосы Афродиты неслись сзади, как хвост кометы…
– Уже недалеко, – сказала она, – уже рядом.
– Вы там живете? – спросил он.
– Да, там мой дом, на волне…
– Это, наверно, не очень удобно, на волне? – спросил Гарик.
Она звонко рассмеялась.
– Хотите попробовать?
– Как, разве у меня получится?
– Вы такой смешной, Гуревич. Что может быть проще, чем жить на волне?
И она подсадила его в первую набежавшую.
– Мне хорошо, – сказал он, – я хочу жить на волне.
– Живите, – ответила она, волн много.
Она села на ту же волну, свесила ноги – и они катались и визжали, и звуки Шопена носились над ними…
…Взяли их скоро, на милицейском катере.
Гуревич все время выскальзывал из рук милиционеров, те чертыхались, а Афродита звонко хохотала.
– Ни бабу не взять, ни мужика, – ругался сержант голосом гегемона, – прямо рыбы!
Гарик извинялся, что он голый и что выскальзывает.
– Гуревич, – предложила Афродита, – если вы устали выскальзывать – сядем на волну – и ну их, а?
– А это возможно?
– Опять вы за старое!
Она приподняла его, посадила на волну, сделала ручкой милиционерам – и они покатили.
И катер, сколько те ни давали газа, не мог их догнать.
А потом скрылся из глаз.
Она весело болтала ногами, поднимая искрящиеся брызги.
– Будет море, – говорила она, – и небо. И место, где они встречаются.
– А комиссия, – спрашивал он, время от времени сваливаясь с волны, – а насморк?
– Там нет комиссии, – смеялась Афродита, – и нет насморка. Только море, небо и я… Вы останетесь со мной, Гуревич?
В смеющихся глазах ее катил девятый вал – и накрыл его.
– Да, – ответил Гарик. – Я хочу уехать от себя. Я хочу жить с вами. И на волне…
И Афродита поцеловала его своими влажными, солеными губами.
Зачем она это сделала?..
Может, если б она не коснулась его губ, он бы не свалился с волны и не проснулся.
Кто знает?..
Гуревич раскрыл глаза. Был вечер. Солнце уже село. Звуки Шопена доносились до него – это играла мама, тогда, давно, оттуда…
Море и небо были черны, и не было видно того места, где они встречались.
Волны катили в темноте. Они были пусты…
Пляж был гол…
По берегу катил милицейский мотоцикл. На нем сидел сержант, как две капли воды похожий на гегемона, и подозрительно смотрел на Гуревича.
Он явно происходил от обезьяны…
Гарик вдруг почувствовал неопределенную легкость и ясность.
И он решил уехать.
Не от себя – это было невозможно.
От них…
Главный не знал, что предпринять.
Он просидел в морозильнике больше часа, обледенел, но ни к какому решению не пришел. Гениальная мысль не озарила его остуженный мозг.
Он выскочил, схватил «Отелло» и начал его детально изучать. Тут надо заметить, что обычно Олег Сергеевич читал пьесы следующим образом.
Он раздевался донага, опрокидывал бутылку коньяку, разжигал в камине огонь, брал пьесу и ловко швырял ее в огонь.
Жег он страстно, под Вагнера, помогая кочергой и дуя во все щеки.
И чем больше ему приносили пьес – тем выше был огонь.
Он плясал вокруг, как дикарь, зычно вопя и горланя.
Пьесы горели по – разному. Возможно, это зависело от жанра.
Одни вспыхивали сразу, другие тлели, третьи странно потрескивали.
Комедии обычно сгорали легко, весело, быстро.
Драмы дымили, превращались в головешки.
Если пьеса горела хорошо, Главный хвалил ее взволнованному автору.
– По – моему, неплохо! С огоньком. Ярко. Пламенно!
Если пьеса горела так себе, он сообщал с кислой миной.
– Сыровата. Ваши герои не горят, а тлеют, в то время, как жизнь – горение.
В обоих случаях пьесы не принимались.
Какие пьесы и как проходили и ставились – было тайной.
Часто к Главному вызывали пожарную команду, предупреждали, что нельзя одновременно жечь более десяти – двенадцати пьес – ничего не помогало. Он швырял их десятками.
– Гори, гори, моя звезда, – зычно пел он.
И сейчас он перечитывал «Отелло» вблизи камина, – мысль не являлась.
Он огляделся – вокруг были пьесы. Он стал яростно швырять их в огонь. Они сгорали, ярость его проходила, но что делать со спектаклем, он так и не знал.
И вдруг, одна из пьес не зажглась.
Он кинул ее еще – то же самое.
Он швырнул в третий раз – она не влетела в камин. Никакими силами он не мог ее туда засунуть. Она летела в другую сторону.
Главному пришлось обхватить ее обеими руками, самому залезть в камин и зажечь в собственных руках. Он еле выскочил с легким ожогом на левой ляжке.
Сгорели дрова, истлели головешки – у проклятой пьесы не обуглился даже заглавный лист.
С обоженной ногой Олег Сергеевич спустился в гараж, притащил канистру и вылил на пьесу литра три бензина.
Сгорела тахта, портрет Станиславского вместе с его системой, – пьеса весело шелестела всеми своими страницами.
Главного охватил ужас – пьеса была несгораемой, как шкаф.
Он ринулся в морозильник.
В нем он уснул, видимо, от пережитого.
Ему приснились герои сожженных пьес.
Зло и жестоко они тащили его прямо из морозильника в камин. Он орал, отбивался, заехал в пах знатному агроному, укусил ткачиху, порвал ухо американскому империалисту и плюнул в Дзержинского.
Камин неминуемо приближался. Огонь в нем разводил знатный сталевар.
И если б лед не сжал Главного, как ледоход в Антарктиде, если б ребра не затрещали – он бы сгорел не хуже иной комедии.
Головой разбив лед, Олег Сергеевич выбрался наружу.
Он влетел в спальню – пьеса ждала его у подушки, раскрытая на первой странице.
Отступать было некуда.
Действующие лица, – прочел Главный, – Владимир Ленин, 47 лет…
Если весь мир сцена, а люди актеры, то евреи в этой огромной лицедействующей труппе, безусловно, комики.
Они играют в комедии с печальным концом…
Но что нам до конца, когда можно посмеяться вначале.
Мечтой Лени Леви было сыграть Иегуду Галеви, великого еврейскрого поэта, мыслителя и жизнелюба, а он вечно играл каких‑то революционеров, борцов за народное дело, вождей народно – освободительных движений, в лучшем случае Хо – Ши – Мина.
Серпом и молотом прокладывал Леви народам мира путь к светлому будущему, вел их к сияющим высотам, свергал царей, поднимал восстания, освобождал Восток, отдавал власть советам на Севере и Юге.
Ночами, после казней, аутодафе и посадок на кол, он садился возле портрета Иегуды Галеви, висевшего в его квартире, и беседовал с ним.
– Иегуда, – каждый раз говорил он, – я распутник, я поэт, я актер, и тридцать лет, как я хочу сыграть тебя, но эти сволочи, этот Орест Орестыч со своим кретином из проруби вновь гонят меня на штурм Зимнего, на взятие Бастилии, на захват Кубы… Да, вчера мне предложили сыграть Фиделя Кастро. У меня уже нет сил бежать. Скажи, Галеви, это не смешно? Ну какой я Фидель – я хрупкий, я не трибун, я не креол.
Галеви молчал.
– Ты не знаешь Фиделя Кастро? – удивлялся Леви. – Это кубинский мишуге, который может произносить девятичасовые речи. И никто ему не заткнет рот, потому что он диктатор. Но если я не сыграю этого островного Демосфена, меня выгонят из театра, я останусь без работы, без денег, без буфета. Почему ты не реагируешь, учитель? Ты не знаешь нашего буфета! Там есть фромаж из дичи, там бывает судак в кляре…
И учитель, этот великий ум Востока, что бы ему ни рассказывал ночами комик Леви, в конце, уже где‑то к утру, каждый раз повторял одну и ту же фразу:
– Цель далека, а день короток, – произносил Галеви.