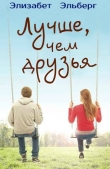Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Разговор с шефом его несколько задел.
«Да, я не христианин, – думал он, – а кто же? Разве я еврей? Зачем я сюда приехал? Что я тут делаю?»
Он стал вспоминать, и вдруг имя Иегуды Галеви прожгло его мозг.
– Боже! Я ведь совсем забыл о нем!
Его это поразило. Он достал чемодан и вынул оттуда портрет Иегуды. Галеви несколько постарел, осунулся, казалось, что и ему здесь скучно и неуютно.
– Конити ва, – поздоровался Леви, – это нейтральная страна, учитель, ты знаешь?..
Иегуда молчал.
– Если хочешь знать, здесь проводились первые сионистские конгрессы.
Лицо Галеви оставалось кислым.
– И здесь, к твоему сведению, не трогают евреев. Тут их почти любят!
Галеви молчал, сколько бы времени Леви ни проводил у портрета и сколько бы ему ни рассказывал о местных прелестях.
– Ты, наверное, в обиде, что я не сыграл тебя, Учитель? – спросил он.
И тут Галеви произнес:
– Сердце мое на Востоке, – сказал он под серым небом веселого района Паки.
– Ты мне это уже говорил, – ответил Леви.
– В каждой фразе много смыслов, Леви.
– Не понимаю, я устал, я одинок. Говори яснее. Мысли мои облетели, как листья с дерева. Я гол, Учитель.
– Сердце мое на Востоке, – опять повторил он.
– Боже, моя голова дурна, я стал идиотом. Объясни мне, Учитель, смысл слов твоих. Ты перевернул мою жизнь. Ты вырвал меня из моего сада и не указал пути. Укажи мне путь, Иегуда, куда мне идти.
– Повторяю в последний раз, – произнес учитель, – сердце мое на Востоке.
И тут мозг комика Леви озарило. Сердце его открылось. Душа ожила.
– Я понял тебя, Учитель, – произнес он…
Бориса посадили где‑то около десяти, а уже около одиннадцати по ночному Парижу двигалось факельное шествие.
Пламя озаряло транспаранты в руках борцов:
– «Горбачев – отпусти Бориса!» – требовали они, – «Свободу семье Соколов!», «Руки прочь от Бориса!» и почему‑то «Свободу советским евреям!» Впереди шествия, освещенная факелами, словно древнегреческая жрица, шествовала неутомимый борец за свободу мадам Шварц.
– Свободу Борису Соколу! – басом произносила мадам Шварц.
– Свободу Борису Соколу! – различными голосами вторили ей участники манифестации. Свет от факелов поднимался высоко, морды химер на Нотр – Даме багровели и, казалось, тоже требовали:
– Свободу Борису Соколу!
В Ленинграде демонстраций не было.
Борщ купил шампанского, фруктов, пористого шоколада и поехал к Ирине.
– Все нормально, – успокаивал он ее, – Борис уже в тюрьме.
Несмотря на это, она была бледна и взволнована.
– А что делать мне, – спрашивала она, – из театра меня выгнали, мужа арестовали…
– Поднимайте голос протеста, – посоветовал Борщ, – звоните во все колокола, звоните западным корреспондентам!
Он протянул ей лист.
– Вот список их имен и телефонов. Кстати, сегодня вечером будьте дома. Будут звонить из «Фигаро», – он заглянул в блокнот, – в семь часов. А в восемь – из «Ассошиэйтед Пресс».
– Что мне им сказать? – спросила Ирина.
– Правду. Мужа бьют, свиданий нет, у него открылась язва.
– Не, не, я такое не скажу. Что‑нибудь полегче. Насморк можно?
– Вы смеетесь? Не хотите язву, давайте сердце.
– Еще хуже!
– Что вы боитесь – это ж для прессы. Говорите пострашнее. Можете всплакнуть. Можете кричать. И вообще, будьте независимее, ведите себя более дерзко!
– Что вы имеете ввиду?
– Шумите, стучите кулаками по столу, плюньте, наконец, в мою рожу.
Борщ ухмыльнулся, а Ирина, не задумываясь, плюнула.
Майор несколько опешил.
– Ну сейчас– то зачем? – укоризненно сказал он, вытираясь. – Подождите корреспондентов.
– Ладно, – пообещала Ирина, – при корреспондентах повторю…
Борщ прямо от нее набрал какой‑то номер.
– Ну, как там в Париже? – поинтересовался он.
– По Парижу вновь шествия, – сообщили ему. – Плакаты и надписи на них те же. И та же мадам Шварц впереди. Изменился только ее наряд – вместо длинного, похожего на тунику, платья, она вышагивает в голубом, и огромная синяя шляпа колышется на ее голове.
– Свободу Борису Соколу! – зычно возглашает она…
– Продолжайте! – приказал майор, сердечно обнял Ирину и поехал снова в тюрьму…
– Ну, как нам в заключении? – улыбаясь, поинтересовался он.
– Спасибо, – довольно сухо ответил Борис.
– Не печальтесь, – заметил Борщ, – долго вам здесь быть не придется. За вас борется мировая общественность, мадам Шварц и Ирина.
И майор протянул Соколу листок бумаги.
– Перепишите, пожалуйста, вашим почерком, – попросил он.
Борис развернул лист и начал читать.
– Я, Борис Сокол, – читал Борис, – из своей затхлой камеры обращаюсь ко всем главам государств и правительств…, – он оторвал глаза от текста. – Что это такое?!
– Ваше воззвание ко всем людям доброй воли.
– Мое?! – обалдел Борис.
– Ваше, – спокойно ответил Борщ, – и вы должны будете тайком передать его на волю.
– Через кого я передам?
– Разумеется, через меня, – как всегда по – отечески объяснил Борщ. – Только умоляю, Борис Николаевич, поторопитесь, в десять часов оно должно быть передано по Би – Би – Си.
Он мягко взял из рук очумевшего Бориса воззвание, спрятал его в нагрудном кармане и пошел к дверям.
– Не волнуйтесь, товарищ Сокол, время освобождения грядет! Оковы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа!..
Он заржал, и тяжелые кованые двери с оглушительным шумом захлопнулись за ним…
Свободного времени у Гуревича оставалось все больше и больше. Жизнь продолжалась.
Ему было уже просто интересно – что будет дальше?
Он шатался. Под солнцем. Под дождем.
Особенно под дождем – он любил лужи, с детства. Как и тогда, он не пропускал ни одной.
– Опять ты промочил ноги, мой мальчик, – говорила ему всегда мама, – а ну, быстро снимай ботинки, я поставлю чайник.
Теперь он мог мочить ноги, сколько угодно, и никто на свете не опечалился бы из‑за этого.
И никто бы не сказал «Мой мальчик…»
В тот день был ливень. Он вернулся промокший до нитки.
У дверей его стояла девушка – в кожаном жакете, с челкой, промокшая.
С нее текло, как с русалки.
И какой‑то далекий, знакомый запах поразил его.
Пахло морем.
– Вы промочили ноги, – сказала она, – а ну, открывайте, я согрею вам чаю…
Гуревич остолбенел. Это была Афродита, та самая, с той волны. С того самого моря.
Он понял, почему этот запах.
– Афродита, – произнес он и дотронулся до ее челки.
– Меня зовут Аннук, – сказала она, – открывайте, вы простудитесь.
Он повиновался. Она влетела, прошла на кухню и быстро поставила чайник.
– Вы с волны? – спросил он.
– С какой? – не поняла она.
– Морской. Вы не помните, мы с вами катались, там, на море, на станции Репино, бывшей Куоккала…
Она рассмеялась.
– У вас уже жар, а ну, сбрасывайте ботинки!
Он сидел недвижим. С ее русой челки падали капли дождя.
Она сняла с него мокрые туфли, дала чай.
– Пейте, сумасшедший!
– Я вышел из моря, – сказал он.
– Я вижу, – улыбнулась она.
– И вы. Как вы нашли меня?
– По объявлению, – ответила она. – Я пришла изучать русский. Вы преподаете русский?
И тут Гуревич понял тайный смысл «я читаю, ты читаешь, он читает…»
– Je vous aime, – сказал он по – французски.
Раскрыв большие глаза, она смотрела на него.
– Вы понимаете?
– Конечно, это же по – французски. А я явилась за русским.
– Тогда… тогда – я вас люблю, – повторил он по – русски.
– Что? Я вас не понимаю.
– Это неважно. Повторите: «Я вас люблю».
– Я вас люблю, – повторила она…
В то утро майор Борщ был выбрит особенно тщательно.
Когда он вошел в камеру Бориса, он сиял, и от него несло смесью «Живанши» и тройного одеколона.
Он был любитель странных сочетаний.
– Выше голову, Борис Николаевич, – как всегда с оптимизмом произнес он, – цель близка!
– Вы мне это уже говорите сколько времени? – спросил Борис.
– Не будем считать. Но сегодня весь мир поднят на дыбы. Вся планета. Колонны демонстрантов запрудили Париж. Они скандируют ваше имя. Они жгут факелы.
– Осторожно с пожаром, – предупредил Борис.
– Уберите иронию, – Борщ шмякнул его по плечу, – гоните скепсис. Скоро вы увидите Сену. Сорбонну. Пантеон. Вы будете пить кофе со сливками французского общества. Произнесете речь на Трокадеро. Возможно, чмокните Катрин Денев. Поднимайтесь, пошли!
– Куда, – спросил Борис, – к Денев?
– Нет, сначала в суд.
– Суд? – Сокол присел.
– Да, будем вас судить. Осудим – и в добрый, так сказать, путь. А до суда отдать вас не можем, вы же сами понимаете.
– Не совсем, – признался Борис, – если вы мне припаяете пять – семь лет, куда ж вы меня отпустите?
Борщ ржал, как молодая лошадь.
– Семь! – его прямо трясло. – Больше, мой дорогой. Будем вас судить по всей строгости наших законов. Двенадцать, как минимум!
Он потрепал онемевшего Бориса по плечу.
– Ну, пошли, неудобно заставлять суд ждать…
Здание суда окружали милиционеры, западные журналисты и фоторепортеры. Несмотря на обилие входов и выходов в этом мрачном четырехэтажном доме, процесс шел при закрытых дверях.
– Господа, – горланили в мегафоны милиционеры, – просьба разойтись. Процесс будет вестить при закрытых дверях.
Толпа шумела.
Несмотря на общее недовольство, двери открылись только перед крупнейшим диссидентом.
Он вышел из машины в наручниках.
Сзади шел Борщ.
– Поднимите руки в приветствии, – шепотом произнес он, – и сделайте из пальцев знак победы, как Валенса.
Сокол взметнул над головой «знак победы».
Защелкали камеры, раздались крики приветствия.
– Прекратить безобразие! – сурово сказал Борщ и приказал наглухо закрыть двери…
Они прошли какими‑то тускло освещенными коридорами, а потом оказались в огромном пустом строгом помещении…
Втроем сидели они в огромном зале судебных заседаний – Борщ, Борис без наручников и судья.
– Немного коньячку? – поинтересовался судья.
– Нет, нет, – отрезал Борщ, – вначале давай приговор!
– Приговор, так приговор, – согласился судья и начал рыться в карманах. Затем достал бумажку и надел очки.
– Прошу встать для зачтения приговора! – сухо произнес он.
– Ладно, – сказал Борщ, – сидя будем!
Судья поежился и начал читать.
– Именем Российской Советской Социалистической…
– Ну, занудил, – остановил майор, – давай к делу!
– … приговаривается к пяти годам тюрьмы и четырем годам ссылки! – переходя к делу, закончил судья.
Лицо Борща перекосилось.
– Вы что, – недовольны? – поинтересовался судья.
– Маловато, – протянул майор, – ей Богу, маловато. Как вы считаете, Борис?
– Мне, в общем, достаточно, – ответил тот.
– А мне вот нет!
– Но вы же сами предложили эти сроки! – возмутился судья.
– Для такого крупного диссидента – ерунда! – объяснил Борщ. – И потом, для закрытых дверей – это не срок! Давайте‑ка прикинем годик тюрьмы и пару лет ссылки. Вы не против, Борис Николаевич?
– Я – за, – ответил Борис.
– Вот и отлично!
– Ради Бога, – ответил судья, – именем Советской Социалистической…
– Короче! – рявкнул Борщ.
– … к шести годам тюрьмы и семи ссылки.
– Шести, – поправил Борщ.
– В чем дело?! – возмутился судья. – От себя я могу год прибавить?! Судья я в конце концов или нет?!
– Судья, судья, – успокоил майор. – Ну, что же, давайте обмоем приговор. Ты что‑то там о коньяке говорил.
Судья достал бутылку армянского коньяка и разлил по рюмкам.
– За нашего заклятого врага, – рассмеялся Борщ, и суд выпил за здоровье Бориса…
Потом по второй, по третьей.
– Хватит, – сказал Борщ, – а то свалимся перед иностранными жуками…
Сокола вывели в наручниках и втолкнули в машину.
– Сколько, сколько? – неслось отовсюду.
– Скажи им, – шепнул Борщ, – только отчаянно.
– Шесть тюрьмы, семь ссылки, – выкрикнул Борис и хотел было добавить: «До встречи в Париже», но, как всегда во – время, его с силой втолкнули в машину, она рванула, и он даже не видел возмущенных корреспондентов, фоторепортеров, без конца повторявших: «Шесть тюрьмы! Семь ссылки!..»
То же самое повторял и весь цивилизованный мир. И возмущался возле своих телевизоров, в своих бассейнах и на своих лошадях. Демонстрации шли и днем, и ночью. Мадам Шварц почти не спала.
Она заметно похудела.
И, тем не менее, голос ее был все еще крепок.
– Свободу Соколу! – продолжала изо дня в день требовать она.
– Свободу Соколу! – изо дня в день требовали «Комитеты в защиту Ирины и Бориса».
И даже самим Ирине и Борису уже хотелось взглянуть – какая она из себя, Свобода…
Но путь к ней, видимо, всегда длинен.
Борщ тянул.
– Не дают жить, – жаловался он Борису, – письма протеста, звонки, заявления лидеров – вы знаете, сколько их там?
– Так выпускайте, – посоветовал Борис, – сколько мне здесь еще торчать?!
– Вы уже почти на свободе, – ухмыльнулся Борщ, – осталось только немного поголодать – и все!
– Что?! – обалдел Борис.
– Голодовка протеста, – охотно объяснил майор.
– Вам мало, что я в тюрьме? Что весь мир протестует? Вам мало ссылки и тюрьмы?!!
– Голодовка! – убежденно повторил Борщ, – им надо ее подкинуть. Тогда не только вы станете настоящим героем! Но и они. Они вырвут вас из лап голодной смерти!
– Нет! – завопил Борис, – голодать я не буду! Вы лишили меня театра, ролей, друзей! А теперь хотите забрать последнее удовольствие? Никогда!
– Милый мой, – Борщ мог всегда успокоить, – да кушайте вы на здоровье! Вы только объявите голодовку, а мы вам за это будем давать особо усиленное питание. Вы какую икру любите – черную или красную?
– Баклажанную, – ответил Борис…
Ирина сидела одна у себя в комнате и тупо смотрела на стеклянное серое небо. Работал приемник.
– По сообщениям наших корреспондентов, – донеслось вдруг оттуда, – известный борец за права человека актер Борис Сокол объявил голодовку протеста. Учитывая его состояние здоровья, это может привести к катастрофическим последствиям.
Она вскочила и бросилась к телефону.
– Это вы, – кричала она в трубку, – что вы еще придумали?! Почему вы заставляете его голодать?! Он этого не перенесет.
– Ирина Константиновна, – голос Борща, как всегда, был мягок и ровен, – вы все время отрываете меня от срочных дел. Ваш муж сейчас получает обильнейшее питание.
– Это для прессы? – ничего уже не понимая, спросила Ирина.
– Для вас, – начиная раздражаться, бросил майор.
В камере горел торшер.
Борис сидел на диване и лениво впихивал в себя большой серебряной ложкой икру, которую он брал из золотого бочонка. Из другого бочонка, полного льда, время от времени он неохотно доставал бутылку шампанского, наливал в венецианский бокал и, корча гримасы, неохотно пил.
Рядом сидела Ирина.
Поодаль верещал японский транзистор:
«Пошел восемнадцатый день голодовки протеста, – печально сообщал транзистор, – выдающегося русского актера и диссидента Бориса Сокола…»
Сокол швырнул транзистор в дальний угол и тот заткнулся.
– Я больше не могу, – завопил Борис, – дайте хлеба! Селедки. Дайте воды! Я больше не могу видеть все эти шампанские и икры… Хлеба и селедки! Я, в конце концов, в тюрьме или нет?!!
Ирина не двигалась. Она смотрела в ночь, на появившуюся звезду.
– Знаешь, – сказала она, – я на многое начала смотреть по – иному. У меня в голове как – бы кое‑что поменялось.
Сокол прекратил орать и нежно посмотрел на нее.
– Может, они уже скинули бомбу? – сказал он.
Комик Леви звонил в чердачную студию гения Гуревича.
Долго никто не открывал, и Леви уже подумал, что Гарик переехал в какой‑либо более фешенебельный район, как вдруг за дверью послышались шаги и голос гения спросил:
– Кто там?
– Это я, – ответил Леви.
Гуревич открыл. Он был почти гол. На босу ногу.
– Что, настолько плохи дела? – поинтересовался Леви.
Гарик обнял его и прижал к своей груди.
– Вы вернулись в Париж, Леви? – спросил он.
– Ненадолго, – ответил тот, – я только хотел у вас спросить, какой падеж идет после творительного?
Они улыбались друг другу.
– Предложный, – ответил Гуревич.
– Вы‑таки гений, – сказал Леви, – и вы знаете, что я понял, Гуревич?..
– Не совсем, – признался тот.
– Две вещи. Во – первых, что западные дураки не умнее восточных. Они просто западнее. И второе – Галеви надо играть под другим небом. Вы меня понимаете?
– Не совсем.
– Под небом, которое слышало пророков. Вы едете со мной, Гуревич?
– В таком виде?
– Тогда прощайте. Вы молоды, Гуревич, у вас есть время острить. А комик Леви стар. Он едет в Марсель, в старый порт, и садится там на корабль. Пожелайте ему, чтобы он доплыл до своей земли.
– Я вам желаю… Я, быть может, поплыл бы с вами… Но я влюбился, Леви.
– Разрешите узнать, в кого?
– В Афродиту. С волны!
– Волны вашего моря?
– Моего, – ответил Гарик.
– Приплывайте с Афродитой, Гуревич, а?
– Я вам обещаю, Учитель, – ответил Гарик.
И они распрощались, на старом парижском чердаке, ленинградские гений и комик.
– Пусть любовь ваша, Гуревич, будет долгой, как еврейское изгнание, – сказал Леви.
Он отплывал ранним ясным утром из Марсельского порта. День обещал быть жарким, на холме проплыл Нотр Дам де ля Гард, остался позади старый порт с его продавцами рыбы, жареными орешками и раскачивающимися баркасами.
Впереди было море, жгуче синее, почти до черноты.
Леви плыл в Палестину.
Путь был далек, и много бед подстерегало его на этом пути, и три шторма хотели выкинуть его за борт.
Но он привык к бедам и штормам, старый комик.
Каждый раз, когда валили валы, когда море ревело хуже зверя, и казалось, что пришел конец миру, он начинал шептать стихи:
Открытый обезумевшей воде
Скажу я сердцу, стынувшему в страхе, —
Не бойся, Бог не бросит нас в беде,
Он, сотворивший море и людей,
Поможет нам найти пути во мраке.
Ты только верь в него!
Ты только верь!..
Он шептал и шептал слова Иегуды, и море успокаивалось.
Может, оно тоже неравнодушно к стихам, как и Бог?..
Оно успокаивалось, и он знал, Леня Леви, что доплывет до заветного берега, как доплыл до него древний поэт, развратник и мыслитель.
Он опасался одного – чтоб уже там, на суше, он не встретил сарацинского всадника…
Леви вышел на берег и пешком пошел в Иерусалим, к той Стене.
Ноги сами вели его.
Горячей щекой он прижался к жарким камням ее, и жгучие слезы полились из его глаз.
Он знал, почему…
Сокола разбудил дикий шум. Вся тюрьма сотрясалась. Грохотали сапоги. Звенели медали. По их звукам Борис догадался, что это бежит Борщ.
Он не ошибся. Двери камеры раскрылись, в них стоял, блестя лбом и орденами, сияющий майор.
– Победа! – кричал он. – Поздравляю!
Борщ напоминал Нику Самофракийскую – с крыльями, без головы.
Он обнимал Бориса, чмокал в губы, радостно плевал слюной.
– Вот! – он торжествующе протянул Соколу лист.
– Что это? – не понял Борис.
Он еще не пришел в себя от грохота, от сна, от сияния лба и медалей.
– Указ Президиума Верховного Совета, – чуть не подпрыгнул от радости Борщ, – мы вас высылаем!
– Спасибо, – произнес Борис. – Наконец‑то…
– И лишаем гражданства, – майор выхватил откуда‑то второй лист.
– А это зачем? – поинтересовался Борис, – об этом разговора не было. Нет, гражданство, будьте добры, оставьте, гражданство, понимаете ли, это…
– Перестаньте торговаться, – перебил его Борщ, – высылка идет всегда вместе с лишением, они неразлучны, как Орест и Пиллад, и не крутите мне яйца.
– Это вы не крутите, высылайте как гражданина или… вы с ума сошли! Лишить меня гражданства!
Борщ подошел, и, как всегда по – отцовски, крепко обнял Бориса.
– Это ж временно, дорогой вы мой, – ласково произнес он. – Потерпите немного. А потом вы вновь станете гражданином. Великим гражданином!
В глазах Борща горел дьявольский синий огонек…
Через час Сокол уже был в аэропорту. Ему наложили грим – несколько синяков, два – три кровоподтека, а то рожа после «голодовки» была уж слишком жирна и гладка.
Брюки ему дали драные, в лохмотьях, на грязной бечевке.
Они все время спадали, и из них появлялись старые довоенные трусы.
На голове был картуз, видимо, из чеховской пьесы.
Ирина была одета примерно так же.
Аэропорт был погружен во тьму. Мерцали огни, звезды, бешеный глаз Борща.
Он все время целовался.
То с Борисом, то с Ириной, то с какими‑то подходившими товарищами.
Товарищи тоже молча целовали Соколов.
Целование шло час, два. Потом их повели в самолет.
– Не волнуйтесь, – произнес Борщ, – все будет хорошо. Сначала поживите в свое удовольствие – рестораны, «Фоли – Бержер», Лазурный Берег… Вам во всем помогут. Наши товарищи, французские. Ну, смелее, – он подсадил их на трап, – выше голову, дети мои! Когда прилетите в Париж, не забудьте спросить: «Где это мы?» Вы летите в неизвестном направлении, ясно?
– Ясно, товарищ майор! – отчеканил Борис.
– Зачем так официально в час разлуки? – печально сказал Борщ, и на глазах его появилась слеза.
– В вас умер актер, – сказала Ирина.
– Во мне все живо, дочка, – подмигнул он, – ну, ни пуха, ни пера.
И Соколов поглотило огромное чрево самолета…
Толпа, запрудившая поле парижского аэропорта, была огромна. Она волновалась, трепыхалась и колыхалась. Она напоминала Средиземное море перед грозой.
В ней были президенты «Франко – Соколовского института» и «Соколо – Франковского», «Академии Сокола» и общества «Сокол в небе».
Две проститутки – комсомолка Чио – Чио – Сан и старый посол.
Три министра – один бывший и два будущих.
Гений Гуревич с Афродитой.
Выдающийся французский актер в гриме Сокола.
Не менее выдающаяся актриса без грима. И почти без одежд.
Гражданин Израиля – эстонец Аймла с принципом «Каасииви Виикааки» над головой.
Мадам Шварц в новой шубе из сибирских соболей – в честь русского гостя! Два парижских вихрастых интеллектуала в очках, в которых бы сам Борщ не признал милых сердцу Ушастика и Зубастика.
Представитель голландского Королевского Двора лейб – компот Орест Орестыч с золотой лентой через плечо.
Второй представитель Израиля – грузин Гурамишвили с двумя портретами в руках – одалиски и зубоврачебного кресла.
Бык – офицер, живой и подвижный – видимо, история, рассказанная комсомолкой, оказалась легендой. Бык был в форме испанского королевского флота.
И, наконец, графиня Анфиса – скрывшаяся в неизвестном направлении Анфиса Фирсовна дошла пешком до Тосканы и там вышла замуж за 92–летнего графа Конти, как она утверждала – по любви.
Лоб графини светился непонятным таинственным светом. Луч исходил как раз из того места, куда угодил когда‑то камень гения Гуревича. Странное свечение началось сразу после попадания и со временем усиливалось.
Графиня Анфиса и помогающие ей прожекторы аэропорта освещали летное поле и окрестности.
Все ждали самолета.
Наконец, он появился в небе. Графиня подняла голову и осветила его.
Самолет шел на посадку в ее луче.
И сел тоже.
Подали трап.
Открыли двери – и в них появились Борис и Ирина.
Восторженными криками толпа приветствовала их.
Президенты бросились к трапу. Их отталкивали два будущих министра.
И мадам Шварц.
Борьба шла за перый поцелуй.
Щелкали вспышки камер, стрекотали, лезли в уши, в нос.
Один из журналистов вынырнул где‑то из‑под левой ноги Бориса.
– Три слова для наших телезрителей! – выкрикнул он.
Борис поглядел на бушующее море, на прожекторы, на горящую вдали башню.
– Где это мы? – неестественно спросил он.
– В Париже! – хором ответило море…