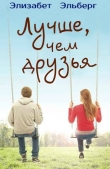Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Сиял только Орест Орестыч – он уже предвкушал, с каким воодушевлением, единогласно, приемочная комиссия встретит спектакль.
Олег Сергеевич слушал напряженно – очевидно, решал, какого из баранов сделать евреем.
Соколы протиснулись сквозь забитый ряд и сели.
– Вы ответите за гибель овец! – кричал драматург.
– Кто их убил? – шепотом спросил Борис.
– Плохие атмосферные условия и халатность, – зевнул Второв, актер, когда‑то игравший Сталина. – Что это у вас? – он указал на томик в руке Бориса.
– А, это, – Борис тоже зевнул, – да так, Солженицын.
Второв громко рассмеялся.
Драматург воспрял духом – это была первая реакция на пьесу, правда, не совсем точная – бараны и овцы продолжали трагически гибнуть, и, в общем, было не до смеха, но главное – что была.
– И вы ответите за гибель коров! – уже более уверенно отчеканил он.
– Ну вы и шутите! – пробасил Второв и взял книгу. – О – го – го!
Крик вырвался у него непроизвольно.
Драматург был явно польщен.
Он начинал понимать, насколько трогает его произведение, какой шедевр ему удалось создать.
– Отчего это вы там ахаете? – обернулся к Второву Главный. – Покажите‑ка, что там у вас такое.
Он взял в руки томик, побледнел, и тут же принял гениальное решение – не передавать книгу дальше. Но что было с ней делать? Оставить ее у себя, хотя бы до конца читки, он не мог – она жгла ему руки. Да и мало ли что могли о нем подумать… «Можно было бы спустить ее в унитаз, – Главный лихорадочно искал выхода, – но не пройдет. Слишком толста…» И он тут же решил, не дожидаясь конца читки и даже не залезая в холодильник, сжечь ее.
Он даже поднялся и направился к выходу, но Маечка Лисянская ловким движением вырвала книгу из его рук.
– Верните книгу, – тихо прошипел Главный, – вы срываете читку!
– Не волнуйтесь, – успокоила Маечка, – я уже знаю свою будущую роль. Коровы…
– Вы ответите за гибель козлов! – продолжал обвинять драматург.
Главный попытался вырвать книгу из маечкиных рук – но не тут‑то было! Крепко вцепившись в нее, она приступила к чтению.
– Вот те на! – изумленно выдохнула она.
Драматург давно не помнил такого горячего приема.
– Более того, – засверкал он глазами, – вы ответите и за гибель ягнят!
Главный тихо покинул зал. Очевидно, отправился в холодильник.
Поразмышлять над случившимся и принять единственно правильное решение.
Пол – зала подсело к Маечке и тяжело дышало над книгой.
А тяжелее всех – первый любовник.
– Такого я еще не видывал! – прокричал он.
Драматург оторвался от пьесы.
– Подождите, – радостно пообещал он, – еще не то будет!
И, набрав в легкие воздух, он смело и пронзительно прокричал:
– Вы ответите за гибель профорга, комсорга и парторга!
И победоносно посмотрел в зал.
Зал упоенно читал коричневый томик.
– Вы ответите за гибель профорга, комсорга и парторга!! – напомнил драматург.
– Простите, – спросила Ирина, – а это что за животные?
Драматурга качнуло.
– Кто именно? – обалдело спросил он.
– Ну, хотя бы, парторг?
– А – а… Он не животное…
Драматург говорил как‑то неуверенно.
– А кто же, – удивилась Ирина, – пресмыкающееся?
Весь зал оторвался от книги и следил за диалогом Ирины и драматурга.
Такой интересной читки у них не было никогда.
– Это провокация, – драматург обращался в сторону Ореста Орестыча и секретаря парторганизации, – разве я вывел парторга бараном?
Орест Орестыч вздрогнул и пожалел, что не покинул зал следом за Главным. «Тот знает, что делает», – с тоской подумал он.
– Еще хуже, – констатировал Борис, – вы вывели барана парторгом!
– Я?! – драматург начал жадно пить воду, – где вы видели барана – парторга?!
Он облил весь пиджак и кульминационный момент пьесы.
– Вам лучше знать! – холодно ответил Борис и взглянул в сторону Сергея Павловича.
– Что вы на меня так смотрите?! – зарычал Король – Солнце, – вы что смотрите на меня, как баран на новый ворота?!
– Если и ворота, – ответил Борис, – то довольно старые и скрипучие.
Секретарь побагровел.
– Вот что, Сокол, – прошипел он, – вы ответите за этот бардак, который здесь организовали, за те книжечки, которые принесли!
– А вы – за гибель овец! – выкрикнула Ирина, и, подумав, добавила: – И за гибель комсорга!
– Товарищи, – взмолился драматург, – вы не ухватили пьесу! Она довольно запутанная – и сразу трудно разобраться… Парторг не виноват. Он сделал все, что мог, но погиб вместе с баранами!
– Я понимаю, – сказала Ирина, – что у баранов был парторг. Но зачем им комсорг?
– А как же, – драматург схватился за голову, – как в каждом колхозе. Вы, наверное, не в курсе дела… Парторг, комсорг, профорг… Правда, товарищи?
– Прекратите выкручиваться, – сказала Ирина, – противно слушать. Из‑за вас в стране нет мяса!
– Из‑за меня? – испугался драматург. – Да я его, если хотите знать, вообще не ем. Я – вегетарианец.
– А кто – я, что ли, уничтожила весь скот – баранов, коров, овец, свиней?
Драматург растерялся – такого обвинения ему еще не предъявляли.
Более того, он не на шутку испугался.
– Позвольте, – пробормотал он, – вы невнимательно слушали. Вы опоздали… Кого – кого, а свиней я не уничтожал. В том колхозе их просто не было. Не разводили…
– Перестаньте паясничать, – брезгливо сказал Борис, – а парторг? А комсорг? А профорг?! Это кто, по – вашему? Лошади, что ли?!
– Воды, – попросил драматург.
– Мне кажется, – Борис обратился к народу, – о постановке этой антисоветской пьесы на сцене нашего театра не может быть и речи!
Орест Орестыч задумался. «Кто его знает, – думал он, – может, Борис прав. Может, мне нехватает ассоциативности мышления… И парторг – отнюдь не парторг… Главный не зря покинул зал…»
Даже Король – Солнце начал что‑то прикидывать в мозгу.
– Нам нужны острые, современные пьесы, с яркими людьми и глубокими мыслями! – продолжал Борис.
Он выхватил из рук героя – любовника томик.
– Вот что мы должны ставить, товарищи! И немедленно! Тут есть прекрасные роли для всей труппы. Вы все станете, наконец, зэками, дорогие друзья!
– А для вас, – он обратился к Королю – Солнцу, – здесь есть роль, о которой вы можете только мечтать!
– Ленина? – с надежой спросил король.
– Солженицына, – мягко поправил его Борис…
С читки Борис явился весь белый, залпом опрокинул рюмку коньяка и, не раздеваясь, бухнулся на тахту.
– Что я делаю, – все время повторял он, – и что, вообще, происходит?..
– Успокойся, – говорила Ирина, – и перестань бить себя в грудь.
Если грех слишком уж сладок – раскаяние не может быть горьким…
– Не – ет, – продолжал он свое, – это не для меня. Эту роль мне не вытянуть!
– Время от времени каждому из нас приходится играть какую‑то роль, – успокаивала она. – Тем более, ты делаешь это довольно лихо.
– Ты знаешь, чего это мне стоит? – спросил он. – Поинтересуйся у моего сердца.
Борис обхватил пальцами правой руки запястье левой и, закрыв глаза, начал считать пульс. Ирина молча наблюдала за ним.
– Вот тебе результат, – произнес он, кончив считать, – восемьдесят шесть!
– Прости, – извинилась Ирина, – я забыла, сколько обычно?
– Не выше шестидесяти, – ответил он. – Даже после Отелло – еврея было только семьдесят два! Так недалеко и до инфаркта! А там…
– Послушай – сказала она, – почему ты считаешь, что мне легче?
– Потому что, если я не ошибаюсь, ты женщина! С вас все, как с кошек! Посчитай свой пульс – и ты увидишь!
– Что я кошка? – уточнила Ирина.
– Ты представляешь, что они все о нас думают?..
– То, что нам нужно, – ответила она, – что мы – диссиденты.
– А если после этого у Главного случится сердечный приступ? Прямо в холодильнике? Или у короля?.. Ведь мы с ним в отличных отношениях – и вдруг!.. Нет, я никогда не смогу играть такие роли.
Зазвонил телефон. Борис сорвал трубку.
– Диссидент Сокол слушает! – прокричал он.
– Добрый вечер, Борис Николаевич, – сладко произнес майор. – Мои поздравления! Вы сегодня были изумительны! Неповторимы!.. Кстати, вашего Олега Сергеевича спасли уже в последний момент. В то самое мгновение, когда он кончил размышлять в своем холодильнике и начал отключаться.
– Но у него хотя бы ничего не повредилось? – с испугом спросил Борис.
– Не волнуйтесь, все в порядке. Он уже приступил к сжиганию пьес… Так что вы – молодец! – подытожил майор.
– Вы так считаете? – недовольно спросил Борис.
– И не я один, – нежно пропел Борщ.
– А кто еще? Секретарь?
– А вы включите приемничек, Борис Николаевич.
– «Маяк»? – уточнил Сокол.
– «Голос Америки» – ласково поправил майор, – а потом созвонимся.
Борис положил трубку и подошел к приемнику. «Дожил, – печально думал он. – Обо мне говорят вражеские радиостанции». Он повернул ручку приемника и долго ловил волну.
– В чем дело? – спросила Ирина, – мы слушам обычно позже.
– Все течет, – неопределенно объяснил Борис.
Из чрева приемника донесся хорошо знакомый голос.
«Вы слушаете «Голос Америки». По сообщениям из Ленинграда известный советский актер Борис Сокол предложил поставить на сцене Театра Абсурда инсценировку книги Солженицына «Архипелаг Гулаг». В главной роли – роли Солженицына – он видит секретаря парторганизации театра. Остальных артистов театра он видит в роли советских баранов… Чего будет стоить это предложение актеру и его жене – покажут ближайшие дни».
– Но это ложь! – вскричал Борис. – Я не говорил, что Маечка, Второв и другие – бараны!
Ирина молча встала, сняла с антресолей чемодан и начала складывать вещи.
– Зачем ты это делаешь? – спросил он.
– Как – зачем? – удивилась она. – Готовлюсь к тюрьме… Тебе приготовить с собой белые тапочки?..
Группу творческих работников Леви увидел уже на летном поле, в момент посадки – и онемел. Ему не захотелось в самолет, в солнечную Испанию… Творческая группа состояла из тех же членов, что и приемочная комиссия. Дама из Управления уже неслась по трапу – она торопилась в туалет. Следом за ней, таща ее чемоданы и подхихикивая, трясся Орест Орестыч… Стюардесса преградила дорогу, но дама отшвырнула ее и скрылась в салоне… Семен Тимофеевич мерно похрапывал у трапа – его привезли прямо от станка. Комсомолка с офицером осторожно подняли гегемона и медленно начали подниматься.
Товарищ из Мавритании широко улыбался, останавливался на каждой ступеньке трапа и приветственно размахивал шляпой.
Дама из партии поджидала Леви.
– Где вы пропадаете, Ягер, – сумрачно произнесла она и приказала: «Поднимайтесь!»
Он поднялся в самолет под конвоем дамы.
Еврею Юре Дорину отказали в последний момент.
– На Испанию хватит и одного, – сообщили ему.
Леви утроился у иллюминатора и с ужасом рассматривал творческих работников. Казалось, группа отправлялась в Испанию, чтобы что‑то запретить или снять.
Все они выучили слово «камарадос» и дружно скандировали его в салоне, чтобы не забыть.
Потом группа начала пересчитывать значки Ленина, которые они взяли с собой для «камарадос». Победила комсомолка, – у нее их было восемьдесят семь. Вождь был представлен во всех возрастах – начиная от двухлетнего и кончая Лениным в гробу…
Из всех испанцев деятели культуры знали только Франко. Одни считали, что это известный матадор, другие – профсоюзный лидер, третьи – что это генералиссимус и диктатор. И только Маргарита Степановна, часто поражавшая окружающих своим культурным уровнем, утверждала, что это великий поэт Федерико Гарсиа Франко, расстрелянный генералиссимусом Франциско Лоркой. Не будем на нее обижаться – тот, кто знает много слов и даже целых словосочетаний, тот может их периодически путать.
– Не доводите меня до сарказма! – кричала Маргарита Степановна на подчиненных…
Самолет, наконец, взлетел, и Леви почувствовал необыкновенную легкость – сияло солнце, проплывали кучерявые облака, и творческие работники как‑то растворились в них.
Он начал читать Галеви, один стих за другим, и ему казалось, что Иегуда в чемодане внимательно слушает его.
Я на Западе крайнем живу – а сердце мое
на Востоке.
Тут мне лучшие яства горьки – там святой моей
веры истоки…
– Что вы там бормочете? – подозрительно спросила Анфиса Фирсовна.
Леви очнулся и увидел перед собой ее харю.
– Федерико Гарсиа Франко, – успокоил он, – зверски замученный Франциско Лоркой.
Анфиса Фирсовна сокрушенно закачала головой.
– Сволочь, – сказала она, – такого поэта сгноил. – И тихо повторила: «… а сердце мое на Востоке…»
Вскоре в окне иллюминатора показалась Испания.
В Мадриде группа разделилась. Мужчины валялись в своих номерах в отеле и смотрели телевидение – шел «Мундиаль».
Орест Орестыч так орал, что пришла полиция. Мужчины бросились навстречу и стали орать «камарадес». После этого их арестовали. Они продолжали смотреть футбол в участке, вместе с полицейскими, дружно вопя. После победы Испании, на радостях, их отпустили.
И мужчины со всех ног бросились в отель – начинался матч «СССР – Аргентина».
Женская группа, презрев футбол, гоняла по городу. Они никак не могли понять, как это мужчины могли сидеть дома в таком городе, как Мадрид, где такие магазины…
Домой женщины возвращались нагруженные, как мулы, скупая все подряд, что стоило ниже десяти пессет, и тут же, не отдыхая, выбегали обратно.
На третий день произошло нечто непредвиденное – всю группу погнали в «Прадо». Возмущению не было предела.
Семен Тимофеевич беспробудно пил Риоху и, наконец, рухнул в «Прадо», в парадном зале, перед Веласкесом.
Он рухнул прямо на колени – и все присутствующие были поражены эмоциональностью простого русского рабочего.
Но Семен Тимофеевич на этом не остановился и медленно продолжал падать дальше. И вскоре он уже растянулся перед Веласкесом.
Творческие работники испугались, пытались поднять его, объясняли, что это не кровать, а «Прадо», но гегемон вырвался и упал прямо на Веласкеса, уткнувшись мордой в Святого Себастьяна.
Эмоциональность переходила всяческие границы.
Деятели культуры пытались объяснить, что Семен Тимофеевич – сердечник. Но от сердечника так несло, что окосели подоспевший врач с санитаркой и тоже уткнулись рожами в великого мастера Ренессанса. Трое людей иступленно целовали Данаю…
Вечером устроили собрание.
– Семен Тимофеевич, – призывала Маргарита Степановна, – прекращайте пить. Вы соображаете, что вы делаете?.. Вы позорите честь советского человека – вы пропиваете иностранную валюту.
– На свою валюту пью, – угрюмо отвечал он.
– Семен Тимофеевич, – поддержали другие, – у вас не государственный ум. На валюту можно было бы купить станки, пшеницу, трубы большого диаметра.
– А на фига? – спросил он. – На валюту, камарадос, надо покупать вино.
– Оставьте немного, – попросила комсомолка, – купите хоть что‑нибудь жене.
– На фига? – вновь спросил Семен Тимофеевич. – Она блядь…
– Ну и что, – вступил офицер флота, – все они бляди. Но везти им что‑то надо.
– Это кто блядь? – уточнила Маргарита Степановна.
– Кто блядь – тот и знает, – туманно объяснил офицер.
Орест Орестыч тихо поднялся и направился к двери.
– Это я – блядь?! – настаивала Маргарита Степановна.
– Ну чего вы к нему пристали, – произнес Семен Тимофеевич, – вы лучше знаете, кто вы.
Собрание несколько меняло курс.
Приступили к обсуждению, кто с кем живет.
Орест Орестыч отнекивался от Маргариты Степановны, кричал, что он импотент, обещал показать в Лениграде справку, но его прижали к стенке…
Комсомолка сначала дрожала, потом перешла на плач – оказалось, что она жила со всеми.
Чистым оказался только Семен Тимофеевич. Ему было просто некогда – он пил и спал.
Короче, происходило нечто несусветное, ко всему прочему, Маргарита Степановна была, как назло, вся в красном, и вдруг, ни с того, ни с сего, офицер флота бросился на нее.
Партийная дама увернулась, и бык – офицер пробил головой экран телевизора. На этом «мундиал» закончился…
– Прекратите корриду! – приказала Анфиса Фирсовна. Пикадоры разошлись, бык – офицер заклеил пластырем кровоточащее ухо.
Назавра коррида повторилась – правда, на другой арене, в Севилье в присутствии ста тысяч зрителей.
Коррида неожиданно сплотила деятелей культуры и искусства – всех волновал вопрос, что делают с тушей. Едят или не едят? Мнения разделились.
Офицер флота утверждал, что мясо быка жестковато, и его оставляют на съедение собакам.
– Это как сварить, – объяснила Маргарита Степановна, – если на медленном огне, с капустой, перчиком или лавровым листом, – пальчики оближете.
Другие утверждали, что лучше бы сделать щи.
Третьи предпочитали студень…
– Вы только взгляните, какие у него ножки! – визжала комсомолка.
Все были возмущены, что быка убивают столь долго.
– Уперся, как бык, – ворчал офицер флота.
– У них, наверное, до черта мяса, – философствовал Семен Тимофеевич, – они могут себе позволить убивать долго и сложно. Когда мяса нет – убивают электричеством, раз – два, как у нас… Зажрались, камарадос…
– Что вы хотите, – объяснил Орест Орестыч, – Лорка привел страну к разрухе. Вернул в средневековье…
– Ужас, – орала Маргарита Степановна, – сколько на одного навалились… Да еще разоделись – камзолы, золото, амулеты. Когда все можно делать тихо, спокойно, в одном белом фартучке…
Бык продолжал сопротивляться. И вдруг, неожиданно для всех, на поле выскочил офицер флота. И не успел стадион ахнуть, как он выхватил кортик и проткнул быка одним ударом.
Бык рухнул примерно так же, как Семен Тимофеевич перед картиной Веласкеса.
– Вот так надо убивать, – объяснил офицер, вытирая кортик от крови о камзолы тореадоров, – если уж у вас не хватает электричества…
Толпа хотела растерзать члена творческой группы, и если бы не «камарадос» из полиции, от деятеля искусств остался бы только кортик.
Под шумок Маргарите Степановне удалось отрезать от быка лакомый кусочек…
В то время, как творческая группа предавалась изучению Испании – штудировала слово «камарадос», уточняла, кто такой Франко, падала на колени перед Веласкесом и выясняла, кто с кем живет – Соколы занимались одним: думали о своем будущем.
Хотя и сказано: не тревожься о том, что будет завтра, поправь то, что было вчера…
Поздно вечером они возвращались из театра, и Борис разъяснял Ирине, что его ожидает.
– Со мной перестанут здороваться соседи, – пророчил он, – и уйдут друзья.
– Настоящие друзья не уходят, – справедливо заметила Ирина. – Хотя и бывали в России времена, и неоднократно, когда настоящие друзья, не уходили, а убегали…
– Что ты имеешь в виду, – уточнил Борис, – что они приемлют инакомыслящего?
– Совсем нет, – возразила Ирина, – просто они допускают и другое мнение.
– Возможно, – ухмыльнулся он, – но я еще не знаю, какое оно.
– Но только не можешь оторваться от книг.
– Ты же знаешь, я всегда любил книги, – попытался выкрутиться он, – я даже Евтушенко читал. Иногда… А эти мне интересны, потому что новы…
– Если б это было ново и глупо – ты бы не читал ночами…
– Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать?
– Что становится холодно. И надо быстрее идти к дому.
Город мирно спал, несмотря на рождение нового диссидента…
Когда они вошли под арку, то увидели в тусклом свете лампы их соседа, пожилого учителя литературы. Учитель бросился навстречу Борису и долго обнимал его и целовал, хотя они были едва знакомы.
«Наверное, за Отелло, – думал Борис, несколько отстраняясь, – но почему именно сейчас? И за какого – еврея или черного?…»
Учитель, наконец, кончил лобызать и полез за пазуху.
– Я ее уже написал, – оглядываясь, сообщил он.
– Чего? – не понял Борис.
– Пьесу, которую вы предложили поставить, – объяснил учитель, – по «Архипелагу». Только, мне кажется, что главную роль должны играть вы.
Пьеса никак не хотела вылезать из‑за пазухи учителя.
– Спасибо, – поблагодарил Борис, – нам сейчас некогда. Отдадите как‑нибудь потом. Когда снова встретимся под аркой.
И, оставив растерянного педагога – инсценировщика доставать пьесу, Соколы скрылись в парадной…
Ночью начали твориться странные вещи. Не успели они уснуть, как услышали какое‑то шуршание.
– Мышь! – предположил Борис.
– Откуда? У нас их никогда не было, – резонно ответила Ирина.
– Появились, – объяснил он. – Жизнь полна неожиданностей – Борщ, «Голос Америки», мыши…
– Какая между ними связь? – не поняла она.
– Прямая, – растолковал Борис. – И то, и другое, и даже третье не зависит от нас…
Он поднялся, включил свет и увидел подсунутую под дверь записку. В ней было только одно слово: «Спасибо…»
– Пожалуйста, – произнес Борис, пожал плечами и вновь лег.
В два часа ночи зазвонил телефон.
– Здравствуйте, – раздался явно измененный мужской голос, – только не называйте, пожалуйста, моего имени.
– Да я его и не знаю! – проворчал спросонья Борис.
– Тем лучше, – сказала трубка. – Я уже написал инсценировку. Храню ее в подвале. Слева. Под дровами.
– Вы нашли прекрасное место, – заметил Борис.
– Я тоже так считаю, – согласилась трубка. – Позвоните мне завтра, в два часа, только точно, и я вам ее отдам. Пароль: «Лучше страдать от несправедливости, чем вершить ее.» Ничего, что он длинный?
– Сойдет, – буркнул Борис.
– Тогда до встречи! – бросил мужчина и повесил трубку, не оставив номера телефона…
Под утро, когда Борис спускался к почтовому ящику, в парадную вошел мужчина в темных очках.
– Вы, кажется, Сокол? – спросил он.
– Да, он самый.
– Борис? – уточнил тот.
– Борис!
Мужчина замялся, покраснел и стал похож на красный помидор, из тех, что продавали грузины на их рынке по десять рублей за килограмм.
– Похоже, что вы уже написали инсценировку? – догадался Борис.
– Откуда вы знаете?! – вздрогнул мужчина и выбежал из парадной…
Почтовый ящик был переполнен. Столько, наверное, писали только товарищу Сталину ко дню его семидесятилетия.
Он с трудом поднял огромную гору писем и вывалил перед Ириной.
– Что это? – удивилась она.
– Предлагают инсценировки, – предположил Борис.
Ирина раскрыла первый конверт и развернула письмо.
– Дорогой Борис Николаевич, – прочитала она, – ваш смелый поступок нас окрылил. Радостно сознавать, что в стране есть еще такие люди, как вы.
– Приятно, когда тебя хвалят, – произнес Борис. – Надо будет ответить.
– Не получится, – успокоила Ирина, – нет ни подписи, ни адреса.
Она открыла другой конверт.
– Ваши слова подняли наш дух, – прочитала Ирина, – живите двести лет!
– Спасибо! – поблагодарил Борис. – Хороший человек… Тоже без адреса?
– Увы! – ответила она.
– Почему хорошие люди всегда остаются в неизвестности? – глубокомысленно произнес он.
– Лучше в неизвестности, чем в заключении, – сказала Ирина.
Она еще долго читала все эти анонимные приветствия и пожелания, пока, наконец, не наткнулась на письмецо, в котором тоже было высказано пожелание, правда, несколько иного рода.
«Чтоб ты сдох, – желало письмецо, – морда жидовская! В стране из‑за вас нет мяса, молока, туалетной бумаги, а вы, гады, диссидентством занимаетесь! Чтоб вы скисли и увязли в болоте, чтоб…»
– Все понятно, – прервал Борис. – Это, я надеюсь, с подписью?
– А как же, – ответила Ирина, – целая группа товарищей.
И она долго читала список.
Борис стал печальным.
– А ведь многие, наверное, мне аплодировали, когда я душил тебя, вернее, Дездемону, – грустно произнес он.
– А когда будут душить тебя, – произнесла Ирина, – они наверняка будут орать «браво!»…
Комик Леви не принимал никакого участия в творческой жизни группы деятелей искусств на испанской земле.
Он не смотрел «мундиаль», не обзывал Маргариту Степановну блядью, не отрезал лакомые кусочки от несчастного животного…
Он бродил, вдыхал воздух древней земли, изучал мечети, сиживал в тени мавританских фонтанов, шатался по узким кривым улочкам с белыми домами, тянувшимися вверх, как ветки тополя на его Украине, учил наизусть Галеви и ждал Кордовы…
Кордова откладывалась, так как в последний момент, перед самым отъездом, Семен Тимофеевич, проходя по древнеримскому шестнадцатиарочному мосту в Севилье где‑то посредине, между седьмой и восьмой арками, рухнул в Гвадалкивир…
Если бы это произошло лет восемьсот назад, когда Гвадалкивир был шумен и полноводен – с Семеном Тимофеевичем можно было бы попрощаться, и его валюту наверняка бы разделили между собой члены творческой группы..
Но, слава Богу, Гвадалкивир обмелел, и гегемона выловили, целехонького и протрезвевшего.
– Простите, какой спектакль принимаем? – поинтересовался он.
Ему с трудом удалось объяснить, что сейчас они на отдыхе, в Испании, и едут в Кордову…
Тогда он уснул. До сих пор неизвестно, почему. Спал сутки.
Его решили погрузить в автобус спящим. Но он так раздулся, что не входил ни в одни двери.
Его положили на крышу, хорошенько привязали ремнями, и автобус тронулся в древний город Аль – Андалус…
Вечером того же дня они были в Кордове. Леви тут же оторвался от группы и побрел по древнему городу в поисках дома, где жил мыслитель, того единственного дома…
Сначала ему указали на большой каменный дом – и он вошел в него. Но дом оказался построенным в двадцатом веке, перед самой Гражданской войной, и великая поэзия никогда не ночевала в нем. Потом ему показали еще семнадцать.
Леви выбрал самый старый, пустой, провонявший, но в котором явно витал дух великого учителя, рожденного в Лусене. Он явственно ощущал это…
Леви долго бродил по дому, переходя из одной комнаты в другую, в поисках, где бы лучше повесить портрет.
– Вот здесь, – неожиданно произнес Галеви в огромной полуразвалившейся комнате, которая, очевидно, некогда была гостиной.
– Ты в этом уверен?
– Абсолютно! Здесь я развлекался с моими гуриями. Здесь лилось вино. И стихи. Лучшие строки я написал тут, во время ночных гуляний, среди моих наложниц, красотой превосходящих египетских цариц, с кубком красного в одной руке и с окороком в другой. Да, я чихал на запреты, ради поэзии я чихал на Великую книгу, и Бог не поразил меня. Потому что Бог тоже имеет слабость к поэзии… Вешай меня здесь..
– Ну, если ты настаиваешь…
После портрета Леви развесил по стенам дома афоризмы на иврите, арабском и старо – испанском, все они принадлежали перу Иегуды, и ярче всех выделялся: «Цель далека, а день короток.»
Он звучал одинаково волшебно на всех языках.
А затем Леви вышел на вечернюю улицу, и, начисто забыв о чести советского человека, пригласил к себе одну из прекрасных женщин, которых в этом древнем городе было множество… Хотя совсем необязательно, чтобы самая древняя профессия процветала на древних камнях…
– Прости меня, Иегуда, – обратился Леви к портрету, – что я пригласил только одну. Но я не столь богат, как ты. Эти сволочи выдали мне так мало валюты, а гурии за последние пятьсот лет так подорожали…
Он называл ее гурией, и она была не против, потому что Леви угощал ее вином, русскими конфетами, консервами, шпротами, которые ему удалось достать по блату перед отъездом, и московской водкой. К тому же он прицепил на пышную грудь красавицы значок Ленина.
И веселье воцарилось в доме.
В старом развалившемся шкафу Леви обнаружил обветшалый шелковый халат и проржавевший серебряный кубок, в углу прихожей он нашел старый кособокий ящик из‑под вина.
Под восточные напевы, в шелковом халате восседал он на ящике, рядом со своей обожательницей, и серебряный кубок был наполнен до краев.
Гурия сладострастно пела, исполняла танец живота, танцевала фламенго, ласкала его, обвивала шею, стан, и вдруг, на вторую или третью ночь, изо рта его полилась поэзия, причем на языке, который до сих пор не слышал.
Это были великолепные стихи, классические стихи.
Они лились легко, раскованно, свободно, помимо его воли, все более прекрасные с каждой новой лаской, с новым кубком вина, новым поцелуем. Их музыка, томная мелодия, их жар волновали сердце комика.
Благовоние мирры иль запах плодов,
Шум ли миртов под ветром из ближних садов,
Или шепот влюбленных и жемчуг их слез,
Иль журчанье дождя среди зарослей роз… —
вырвалось из уст его.
Он читал и читал, и восхищался, и парил, и вдруг похолодел от ужаса – никто ничего не записывал. Слуги – турка, который бы водил пером, засекая навеки великие строки, не было рядом, а гурия занималась совсем иным…
Он бросил наложницу и в чем был выскочил в город, и где‑то далеко от дома, у реки, нашел старого турка, замшелого, в отрепьях, и притащил домой.
Леви натянул на него шелковый халат, всунул в руку перо, бумагу, отхлебнул вина – и стихи полились, как бурный Гвадалкивир.
Или ласточки писк, или горлинки трели,
Или пение скрипки, иль пенье свирели, —
несся шумный поток.
Старый турок ни черта не записывал.
Отложив бумагу и перо, он ласкал гурию.
– В чем дело? – спросил Леви, – почему вы не записываете?!
Он рванул слугу за полу разметавшегося халата.
– Простите, – извинился турок, – я не знаю этого языка.
– Я сам не зню, – ответил Леви, – ну и что?
– И потом, если бы даже знал – все равно бы не смог – я безграмотный.
И он вновь обнял гурию.
Леви тут же уволил его. И вновь выбежал на ночную улицу. Слугу, который бы знал этот неизвестный язык, пришлось искать долго. Его звали Омар, он кончил два университета, был доктором наук, специалистом по поэзии мавританского возрождения.
Омар записывал искусно, воздушно, с вензелями, с пируэтами, а однажды – так даже закончил стих, начатый Леви, поразив его до немоты.
От неожиданности он даже сбросил руки гурии со своих плеч.
– Откуда? – спросил Леви, – откуда ты знаешь конец газели, которую я еще не придумал?!
– Учитель, – печально сказал Омар, – все, что вылетает из твоих святейших уст, уже давно написано, издано, переиздано и переплетено.
– Ты не ошибаешься, доктор?
– Нет, мой повелитель.
– И все‑таки ты ошибаешься. Слишком много знаешь ты – и в этом твоя главная ошибка… Все, что ты слышал, неверный, родилось сейчас, здесь, вот после этого бокала, после этого взгляда, после ее глаз, ее губ, в жарком июле 1141 года по христианскому календарю, в городе Кордове, в Аль – Андалус, перед ее захватом дикими племенами альмахадов…
Омар стоял, широко раскрыв чувственный докторский рот.
– Возможно, – продолжал Леви, – все это будет напечатано, издано, переиздано и переплетено в золотом переплете, возможно, но не торопи время. Цель далека, а день короток…
Фраза вылетела из него.
Омар бежал, бросив перо, бумагу и халат…
«Цель далека, а день короток». Леви все время думал над этой фразой. За кубком вина. С гурией. Один.
Он знал, что такое «короток», и понимал, что такое «день».
Его день, который клонился к закату.
Но цель?..
Какова была цель в этом коротком дне?..
Он искал ее. В театре. В вине. В гуриях. В мыслях великих…
Надо сказать, что группа была столь увлечена творческими проблемами – покупкой, упаковкой, поднятием своего морального состояния на еще более высокий, почти недосягаемый уровень, что пропажу Леви обнаружили где‑то перед самой посадкой в самолет» Ту-154». Стали вспоминать, кто и когда видел его в последний раз в Кордове – и, оказалось – никто, кроме Семена Тимофеевича, который видел Леви всего несколько часов тому назад. Творческие работники сгруппировались вокруг него, требуя, чтобы он немедленно вспомнил – где? Гегемон долго тер лоб, морщил его и, наконец, вспомнил – во сне… И все группа бросилась на поиски – было как‑то неудобно возвращаться с заграничными шмотками и без отечественного Ягера… И к тому же все резонно опасались, что за потерю Ягера их всех погонят с работы.