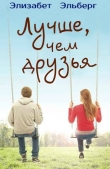Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Судьба вернувшихся членов творческой группы сложилась печально. Семен Тимофеевич, узнав, что он улетел один, попал в районный сумасшедший дом. С ним случилось что‑то странное. Он прекратил пить на рубли и требовал валюту…
Что касается Маргариты Степановны, то, боясь наказания, она, видимо, симулировала сумасшествие – вдруг перешла в мусульманство, требовала немедленного открытия в тюрьме мечети, и в камере пребывала в той самой позе, в которой ее выловили в мечети города Кордовы…
Оставшиеся члены группы тоже посходили с ума.
Анфиса Фирсовна по одним сведениям вступила в коммунистическую партию Испании и требовала немедленного избрания в обком города Севильи, по другим – скрылась в неизвестном направлении.
Бык – офицер стал тореодором, любимцем Гренады, валил быков направо и налево, причем без пикадоров и своим кортиком.
Комсомолка стала портовой гурией, и, видимо, из‑за чувства ностальгии спала только с моряками советских флотилий.
В момент оргазма она что‑то бормотала о девичьей чести и плане на ситец.
И только товарищ из Мавритании продолжал улыбаться – до тех пор, пока его не выслали на родину в Демократическую Республику Мавританию, где впервые улыбка сползла с его лица – периодически его забрасывали камнями. Видимо, за участие в приемочной комиссии…
В театре дела принимали все более драматический оборот.
Сокол своими выходками запугал всех.
Олег Сергеевич тяжело заболел – он перестал посещать прорубь, жечь пьесы и целыми днями рвал на себе волосы. Это было ужасно – Главный был лысым. Он каялся, время от времени бил себя в грудь и проклинал себя за то, что предложил Ягеру путевку.
И не ясно было, почему именно – то ли потому, что остался Леви, или потому, что остаться мог он сам…
Он искал спасения. И оно могло быть только в одном – вновь поставить пьесу о Ленине с двухметровым Борисом…
Но кто бы ее принял, когда часть приемочной комиссии была в сумасшедшем доме, а другая – на Иберийском полуострове…
У него даже возникла шальная мысль пригласить из Франции Гуревича, чтобы тот поставил скандальный спектакль – он уже мечтал о конной милиции, о сносе дверей, и даже дал Гуревичу срочную телеграмму.
Гарик ответил быстро и на французком.
Когда телеграмму перевели, Олег Сергеевич узнал, что он – блядь.
Из первых строк… Переводить телеграмму дальше было незачем.
Главный метался и мучился. Без буфета, без Ореста Орестыча, без приемочной комиссии он чувствовал себя одиноким и потерянным.
Он продолжал рвать волосы и ждать санкций.
И вскоре они последовали. На общем партийном собрании Театра Абсурда его исключили из партии.
– Как вы можете? – только и спросил он.
– А что вы еще заслуживаете? – уточнил парторг.
– Именно этого, – ответил Олег Сергеевич. – Но я не член партии…
– Вы уверены? – удивился Король – Солнце.
– К сожалению…
– Не расстраивайтесь, – успокоил парторг, – это ничего не меняет. Мы можем проголосовать еще раз… Кто за то, чтобы исключить беспартийного Олега Сергеевича из партии? – обратился он к присутствующим.
Проголосовали единогласно.
И ничего удивительного в этом не было – иначе бы театр не назывался Театром Абсурда…
Вилла мадам стояла над озером. И каждое утро, просыпаясь, Леви видел из окон своей комнаты горы. Они вдохновляли его – снег и солнце блестели в них.
Но каждый раз Альпы заслоняла ему своей могучей фигурой харьковская мадам… Она появлялась неожиданно, то в пеньюаре, то в халате, то в костюме для верховой езды – и заслоняла все горы, включая величественный Монблан.
– Лошади поданы, – говорила мадам…
Они шли по росистой траве, и двое слуг легко забрасывали его в седло…
И тут же начинался урок. Причем вела его мадам – она разглагольствовала о театре, о страсти, о любви, о трактовке «Дяди Вани», о русской душе…
– Скажите, я похожа на Настасью Филипповну? – спрашивала она, поворачивая к Леви свое толстое лицо с маленькими глазками.
– Какую Настасью Филипповну? – удивлялся он.
– Как какую?! – в свою очередь удивлялась она. – Разве не видно? Из «Идиота»!
– Ах, да, – вспоминал он. Его подташнивало. – Вылитая!
– Вы правы, – радовалась мадам. – Я ее копия во всем. И также бросаю деньги в огонь. Однажды, после спора с Морицем, я вышвырнула десять тысяч в камин… И вы представляете: он за ними полез – жалкий, дрожащий, как Иволгин.
– Серьезно? – удивился Леви. – Вы мне напоминаете нашего Главного режиссера.
– Он тоже жег деньги?
– Нет, пьесы, – сказал Леви. – В следующий раз, когда будете швырять – предупредите…
– Хорошо, – согласилась мадам. – Будем швырять вместе. Вы уже швыряли?
– Еще нет, – сознался Леви.
– Почему? Вы же, как и я, артистическая натура.
– У меня нет камина, – признался он. – И потом, я предпочитаю бросать деньги на ветер…
В конце прогулок Леви, как правило, падал с коня. Обычно после высказываний мадам… Конь не выдерживал, начинал храпеть, бить копытами и несся напролом.
Конь, в отличие от комика, не выдерживал глупости мадам. Видимо, потому, что ему не платили.
Но однажды в круглую голову мадам пришла совсем бредовая мысль. Она решила поставить «Вишневый сад».
Собственными силами и на русском.
В роли Раневской она видела себя, в роли Лопахина – своего мужа, банкира…
После этой новости Леви упал с лошади, не дожидаясь, пока она его понесет. И слугам, как они ни старались, не удалось его вновь забросить.
Беседу пришлось продолжать на земле.
– Мадам Штирмер, – пытался объяснить Леви, – ваш муж не говорит по – русски.
– У него русская душа, поверьте, – резонно возражала мадам.
Назавтра Монблан заслонили уже две фигуры – мадам и «русская душа».
– Приступаем к репетиции! – приказала мадам.
– На лошадях?! – ужаснулся Леви.
– Не знаю, – призналась она. – Как обычно приступают?
– Обычно без них, – признался он.
– Тогда начнем, – сказала она и натянула на голову несколько перепуганному банкиру замшелый картуз. – Как вам нравится мой Лопахин?…
После психбольницы Борис отдыхал недолго.
Он прогуливался в санатории, принадлежащем комитету Борща, занимался релаксацией, его массировали лучшие массажисты, с ним занимался известный психолог, который внушал ему, что он здоров, силен, молод.
Иногда ему делали иглоукалывание.
На третий день у него было ощущение, что в сумасшедшем доме он никогда и не бывал.
Однажды, во время подводного массажа в бассейне появился сияющий Борщ.
– Поздравляю, мой дорогой. Мир возмущен. Он протестует. Он негодует. Вы довольны?
– В общем, – протянул Борис.
– Не слышу энтузиазма в голосе, – он развернул газеты, – вы только взгляните, что пишет о вас иностранная пресса: «Великий актер в палате буйных», «Диссидент Сокол и психиатрический шприц», «Сокол на свободе», «Психическая охота за инакомыслящим», «Да здравствует Сокол»! А? Каково? У нас так пишут только о Ленине или об октябрьской революции. А у вас кислая рожа!
– Я хочу в тюрьму, – сказал Борис.
– Опять занудили. Успеете. Сначала дадите пресс – конференцию.
– Какую еще пресс – конференцию?
– Для иностранных корреспондентов крупнейших агенств печати, радио и телевидения.
– Зачем? Какого черта?!
– Польете нас немного грязью. Чуть смешаете с говном. Обличите. Выглядите вы неплохо, вас можно выпускать на люди.
– Не хочу. Я не хочу на люди.
– Неудобно, Борис Николаевич. Пригласили людей – и не придете.
– Кто их пригласил?
– Я же говорю – вы!
– Я?! Когда?
– Недавно, после выхода из клиники.
– Я никого не приглашал!
– У вас что, провалы памяти? – Борщ хитро улыбнулся. – Вы пригласили. Через доверенных лиц.
– Это еще кто?
– Верные друзья, – Борщ поклонился, – к примеру, ваш покорный слуга. Сегодня вечером у вас дома будет необычайно оживленно. Не теряйте времени, я вас отвезу, одевайтесь, брейтесь, вот вам духи «Тэд Ляпидус», только что из Парижа.
– Я не орошаюсь, – буркнул Борис.
– Не настаиваю. Заявление готово?
– Какое?
– Яро антисоветское.
– Нет, когда я мог? Я отдыхал.
– Не волнуйтесь, – успокоил Борщ, – мы тут кое‑что набросали…
Гостиная Соколов ломилась от гостей. Журналисты сидели на диване, стульях, полу, крышке рояля, томиках Солженицына, лежали на кроватях, подоконнике. Двое устроились в открытом шкафу. Взволнованный Борис по слогам читал заявление.
От Бориса несло «Тэдом Ляпидусом». Видимо, Борщ все‑таки сумел оросить его.
Иногда он прерывал чтение заявления, отпивал из бокала виски, хрустел льдом, плавающим там, и нервически выкрикивал.
– Вся власть элите!
Некоторые корреспонденты вздрагивали. Один упал с антресоли.
Вела пресс – конференцию Ирина. У нее дергалась левая щека. И глаз. Но правый…
Их снимали фото– и телекамеры. Все вокруг горело, жужжало, стрекотало.
Наконец, Сокол закончил чтение заявления и, выкрикнув пискляво «Вся власть!», сел.
Он не закончил, кому.
– Элите, – добавила Ирина.
– Да, да, элите, – подтвердил он, – простите, знаете, после сумасшедшего дома…
Все понимающе закивали, будто только что сами из него вышли.
– Какие будут вопросы? – тихо спросила Ирина.
Первым, в шикарном костюме в полоску, с бабочкой на шее и сигарой в зубах поднялся рослый, дородный господин, и Соколы тут же признали в нем Борща.
– «Обсерваторе романо», Ватикан, – с сильным непонятным акцентом, наверное, «папским», представился он, – ви случайне ни имейт копий вашего заявленья?
– Как же, как же! – Борис вскочил и начал раздавать присутствующим листки.
Внимательнее всех изучал его «представитель» Ватикана Борщ. Он что‑то вскрикивал, поводил плечами, возмущался.
– Скандаль! – выкрикивал он, – кошмарь!
Все в негодовании кивали головами.
Наконец, из шкафа вылез пузатый.
– «Фигаро», – представился он, – вы б могли сказать, кому предполагало передать власть общество «Набат»?
– Э – элите! – повторил Борис.
– Конкретнее. Имена, фамилии.
– К сожалению, это тайна, – развел руками Борис.
– Что вы думали дать господину Сахарову в случае успеха?
Сокол несколько растерялся. Борщ смотрел на него. Борис вспомнил старого Шустера, уже отдыхавшего на Святой земле.
– Министерство физики, – твердо ответил он.
– Всего?!
Борис подумал.
– И Академию наук, – щедро отдал он.
– «Вашингтон Пост», – представился тот, что был на подоконнике, – после разгрома общества, какие ваши дальнейшие планы?
– Бороться, – ответил Борис, – за права человека, за евреев, за отделение Эстонии, за зубоврачебные…
Здесь он осекся.
– Что? – не понял «Вашингтон Пост».
– Вся власть элите, – выкрикнул Борис.
– Условия в советских сумасшедших домах? – поинтересовалась мадам из «Ле Суар».
– Нормальные, – ответил Борис, – в тихом отделении довольно тихо, в буйном – довольно шумно.
Корреспонденты засмеялись. Громче всех из «Обсерваторе Романо».
– Простите, – молодой человек из «Киодо Цусин» чуть заикался, – н – нам так и н – не я – ясно. В – вы е – еврей или н – нет?
– Нет! – почему‑то гордо ответил Сокол.
– Почему же вы тогда стояли с плакатом «Отпусти народ мой!»? Какой народ вы имели ввиду?
Борис замялся.
– Наверноя, рюсский? – коверкая язык, выручил ватиканский корреспондент Борщ.
– Именно, – поддакнул Борис, – и украинский. Моя жена Ирина украинка.
– Но это же две трети населения? – испугался моложавый.
– Пусть отпускают две трети! – заявил Сокол.
Он набирал смелость.
– А куда же они все поедут? – поинтересовался представить Би – Би – Си.
– Во Францию, – выпалил Борис, – и в Израиль!
– Почему именно туда?
– Ну как же, – начал Борис, – ведь именно там готовится бомба, которая…
Майор Борщ чуть не лопнул со страха.
– Под бомбой вы понимаете права человека? – выпалил он.
– А что же еще? – спохватился Борис.
– Я так и думал.
Борщ перевел дыхание.
– У меня несколько личный вопрос, – корреспондентка «Журналь де Женев» походила на таксу, если б той надели очки, – вы не могли б рассказать, как вы стали диссидентом?
Боря отпил виски.
– Однажды вечером, – ответил он, – после удушения.
Корреспонденты заволновались.
– Да, я удушил Дездемону, и именно тогда вдруг почувствовал, что становлюсь инакомыслящим.
Журналисты дружно хохотали.
– Причем, одновременно с женой, – продолжал Сокол, – она у нас наполовину украинка, наполовину диссидентка.
Все ржали. Борщ громче всех. Он прямо заливался. Он упал на пол и катался, держась за живот.
– Откюда у вас стелько юмор, господин Сокол?
– От отца.
– А что, юмор передается по наследству?
– Знаете, когда больше нечего…
Все опять смеялись. Потом пили. Ели. Носили Бориса на руках. Затем Ирину. После – их обоих. Борис читал на бис заявление. Затем исполнил отрывок из «Архипелага Гулага». Была овация. Сокол кланялся. Снова пил. Потом залез на стол, станцевал лезгинку, в честь Гурамишвили.
В общем, пресс – конференция прошла на высоком уровне…
Мадам Штирмер репетировала самозабвенно. Из своего протестантского супруга она сделала нижегородского мужика – она заставляла его пить водку, играть на гитаре, плакать, молить о любви, ездить к цыганам.
Мориц – Лопахин, наконец, свихнулся.
Он закрыл банк, сменил кирху на церковь, отчаянно стуча банкирским лбом в каменный пол, пел «Очи черные» и репетировал. Леви валился с ног – по требованию мадам репетиции шли и ночью, непонятно было, куда она торопится.
Над Женевским озером витала русская речь, прохожие вздрагивали, обходили виллу.
Время от времени мадам спрашивала Леви, была ли пьеса в цензуре и когда прибудет приемочная комиссия – она потеряла ощущение, где живет. И когда… Временами она интересовалась, какой на дворе век, чувствовала в себе удивительный талант, по утрам в ней просыпалась великая Комиссаржевская, вспыхивал огонь, и обессиленный Леви, после бессонной ночи вынужден был продолжать репетиции.
Закрытый банк работал на театр – шились дорогие костюмы, лилась настоящая водка и вишневый сад был привезен откуда‑то из‑под Орла и установлен посреди виллы, где шли репетиции.
По ходу вишня на ветвях обрывалась и заказывались новые деревья. И вновь все пожиралось.
Затем мадам втемяшила себе в голову построить настоящий русский помещичий дом девятнадцатого века. Прибыли мастера, застучали топоры. Дом рос на глазах. Он получался большой. Пришлось снести часть виллы.
Затем построили веранду, мезанин.
Виллы не стало.
Ночами мадам с протестантом Лопахиным сидели на веранде, пили водку и выли на луну…
Все, в общем, было хорошо.
Как вдруг Морицу надоел вишневый сад, он стал для него чужд, непонятен.
Напившись, он буянил, требуя заменить вишневый сад милым его сердцу виноградником.
Он орал, что вишневые деревья для него дики, тогда как виноградная лоза понятна и любима с детства.
– Я сажал ее, – орал он, – окапывал, окучивал, собирал грозди, делал вино, которым гордился весь кантон. А что вишня – проглотил и выплюнул!
– Требую лозы! – вопил он по ночам.
Леви не знал, что предпринять. Он говорил, что изменять великого Чехова – кощунство, что Антон Палыч плохо знал виноградники, не любил винограда и вообще не пил.
– А я люблю! – орал банкир, – пустите меня на виноградник, или я переломаю веранду. Где мой топор?!
Премьера спектакля откладывалась.
– Ну, что вам стоит, – умоляла мадам, – замените сад, а? Он ради меня бросил банк. Что вам стоит бросить садик ради лозы?.. Я увеличу жалование.
Скрепя сердце, Леви сдался.
По требованию банкира Лопахина пьеса стала называтся «Виноградник в Сатиньи». В Сатиньи банкир с русской душой родился.
Репетиции пошли быстрее. Прямо на винограднике – Мориц чувствовал себя там увереннее. Он нежно обрабатывал лозу, поливал ее, целовал, но когда речь дошла до рубки – категорически отказался.
– Рубить виноград? – рычал он. – Где вы это видели?
– У Чехова, – объяснял Леви.
– Это еще кто такой? – спрашивал банкир.
– Автор. Написал «Вишневый сад»!
– А у нас «Виноградник», – парировал супруг. – Рубить не позволю!
Дело опять застопорилось.
Леви не знал, что предпринять.
Тогда мадам взялась переписать пьесу – вместо рубки винограда она предложила смелое решение его посадки.
Леви был убит.
Банкир торжествовал. Он тут же заказал саженцы и начал сажать на террасах, круто спускающихся к озеру.
Он сажал днем и ночью, вне текста пьесы.
Потом он предложил дождаться осени, времени сбора, и закончить чеховскую пьесу веселым праздником урожая – с песнями, плясками, с фондю, в национальных костюмах, с приглашением некоторых членов женевского Большого совета.
Леви слег.
Ночью из последних сил он пробрался в конюшню, кое‑как взобрался на коня и бежал…
Несмотря на огромную проделанную работу, на созданное им тайное общество «Набат», на шумную пресс – конференцию – Сокола в тюрьму не сажали.
Он не знал, что предпринять.
Он начал терять надежду.
«Вот, – думал он о Леви, Орест Орестыче и других товарищах, – каким простым путем они дошли до Запада. Ни тебе тайного общества, ни красного «Запорожца», ни «Отпусти мой народ»…А я тут вкалываю, как каторжник, и не то, что до Запада – до пересадочной тюрьмы не добраться».
Из театра его пока еще не выкинули.
Более того, то ли после исключения из партии Главный свихнулся, то ли это была дьявольская придумка, но он опять решил спасти свою шкуру при помощи Ленина.
И предложил эту роль Борису.
– Вы знаете, кому предлагаете? – вопил Борис, – я – диссидент, я инакомыслящий. Мне никто не разрешит. А вас посадят!
Олег Сергеевич задумался. В отличие от Сокола, его в тюрьму не тянуло. Но, видимо, после Леви, приемочной группы и исключения в мозгах его, которые и раньше периодически отказывали, что‑то произошло.
Потому что тут же, не отходя от кассы, он предложил Соколу роль маршала Советского Союза.
Неизвестно, зачем он это сделал. Может, потому, что на партию больше ставить не мог, и начал ставить на армию.
– Сыграйте, Борис Николаевич, умоляю. Вы не представляете, какую мы вам сошьем форму, мы вам два ордена Ленина повесим, а?
– Подите в прорубь, – посоветовал Борис…
Жизнь продолжалась. Надо было пить, есть.
Для этого надо было доставать продукты. Борис стоять в очередях не мог.
Его узнавали. Он получал по роже. Стояла Ирина. Регулярно.
Однажды очередь была особенно огромна.
Давали то ли мясо, то ли апельсины.
В общем, это было неважно, главное – что очередь была бескрайней, как степь. В руках у Ирины были две полные сетки снеди. Палило солнце.
Мясо или там апельсины кончались. Очередь не двигалась.
– Не стойте, – горланила продавщица, – кончается…
Со всех концов понеслись инструкции.
– Больше полкило в одни руки не давать, – визжали бабки.
Продукты все – равно кончались. Очередь все равно не двигалась.
«Только подумать, – сказала Ирина сама себе, – сколько я отстояла в очереди. Наверно, лет семь».
– Осталось на двадцать человек! – сообщила продавшица.
«Только за мясом, наверно, лет семь…»
– На десять человек!!! Не стойте!
Ирина стала считать. Ей бы хватило, если б в одни руки давали по 10 грамм.
Но что из этого сваришь?
Она долго думала, что из этого можно было бы сварить, и вдруг вспомнила, что она диссидент.
– Товарищи, – взволнованно обратилась она к очереди, – сколько можно терпеть? Почему мы молчим?
Очередь задвигалась чуть быстрее.
– Почему не кричим? Почему не шумим, хотя бы как в Польше?
Скорость очереди нарастала.
– Зачем нам эта поганая власть, которая не дает даже картошки?!
Очередь двигалась удивительно быстро.
– Если все вместе, – продолжала Ирина, – мы скажем «нет», то…
Очередь начала двигаться гигантскими темпами и вдруг свершенно исчезла. Испарились все. Даже те, кому б хватило.
Ирина подошла к обезумевшей продавщице.
– Отчего не спросить, – продолжала она свою речь, – почему нет молока? Колбасы? Мяса?!
– М – мя – сса есть, – заикаясь, ответила продавщица, – вам сколько?
– Нисколько, – ответила Ирина, – что‑то пропал аппетит!..
Луна светила в их окна.
Они сидели усталые друг против друга.
Не работал телевизор. Не трещал телефон.
– Я сегодня разогнала очередь, – сообщила она, – и эти старушки остались без обеда. Мне даже как‑то не по себе.
– А со мной не здоровается уже пол – театра, – сказал он, – а другие делают вид, что не замечают. Я теперь и сам, проходя мимо, смотрю в другую сторону – помогаю не здороваться.
– Ты сегодня что‑нибудь новое ляпнул?
– Ничего особенного. Сказал, что все они в силу своего таланта подвирают. А фальшь разрушает личность. Тем более, каждодневная.
– Ну, а они?
– Смотрят на меня, как на сумасшедшего. Я им кричу, что театр должен быть свободен от идеологии, а они на меня смотрят и отвечают, что еще, вроде, есть путевки в нервный профилакторий в Крыму, причем семейные.
– Это они имеют в виду меня.
Она рассмеялась.
И вдруг погас свет.
– Что это? – сказала в темноте Ирина.
– Ума не приложу. Где у нас свечка?
В это время зазвонил телефон.
Борис нашел трубку.
– Борис Николаевич, – раздался оттуда бодрый голос Борща, – не волнуйтесь. Мы у вас отключили свет. Завтра отключим воду. А послезавра – канализацию. Это необходимо! Вы не обижаетесь?
– Не обижаюсь, – ответил он и положил трубку.
Они сидели в темноте и молчали.
– А знаешь, Боря, – сказала Ирина, – во всей этой заразе что‑то есть.
– Что? – поинтересовался он.
– Что я впервые в жизни говорю правду и ничего не боюсь, – сказала она.
Тут в дверь постучали.
Ирина встала со свечой и пошла к двери. На пороге было двое, – один бородат, с пышной копной давно немытых волос. У другого нельзя было понять, мыты они или нет – он был лыс.
– Добрый вечер, – сказал бородатый, – мы из общества «Русь святая».
– Присаживайтесь, – Борис пододвинул стулья.
– Благодарствуем, – сказал бородатый, сильно окая, – «Русь Сятая» хотела бы обменяться платформами с «Набатом».
– Ради Бога, – согласился Борис, – вас что именно интересует?
– Мы царисты, – низким голосом сообщил лысый, – вы за монархию?
– Не совсем, – признался Сокол.
– Вы не за батюшку – царя? – искренне удивился бородатый.
– Да как вам сказать, – Борис начал заикаться.
– И не за матушку – царицу? – удивление бородатого нарастало.
– Нет, нет, – отступал Сокол, – ни за матушку, ни за батюшку.
Представители «Русь святая» несколько растерялись.
– А за кого же вы? – спросил лысый, – Кому вы, простите ради Бога, передадите власть?
Борис несколько растерялся. Он думал, что его лозунг «Вся власть элите» был известен всем. Но, видимо, «Русь святая» была исключением.
– Шустер в изгнании, – начал он, – Аймла с Гурамишвили тоже. Какая власть?
– Ту, которую все мы скоро возьмем. Кому вы ее собираетесь передать? Говорите честно. Как на духу! Неужели опять жидам?!!
В его словах был ужас.
– Нет, – пообещал Борис, – власть будет передана «Каасииви Виикааки».
– Ну, слава Богу, – вздохнул бородатый и поцеловал Сокола.
Борис не спал всю ночь. Он не мог понять, откуда этому дебилу был известен великий принцип «Каасииви Виикааки»…
Отпустив коня, Леви снял студию в Паки, на примерно таком же чердаке, как гений Гуревич в Париже.
Он хотел отдохнуть несколько дней от мадам, от ее Лопахина, от коней…
Он поднялся на чердак, вытащил из кармана только что полученные ключи, и открыл дверь. Но закрыть их не удалось. Чья‑то нога прижерживала двери.
Леви обернулся.
Перед ним стоял хорошо вымытый и причесанный мерзавчик в модном от Кардена костюме и улыбался.
– Уберите, пожалуйста, ногу, – попросил Леви, – вы не Гуревич, а я – не Хай, садящийся в машину.
– Вы знаете сигарного короля? – удивился незнакомец.
– Мой близкий друг…
Мерзавчик страшно обрадовался и хотел обнять Леви, но тот успел отпрянуть, и он вошел в квартиру.
– Очень рад с вами познакомиться, – произнес незнакомец и протянул свою длинную и скользкую, как белый червь, руку с «Ролексом» на запястье.
– «Шмуц и сын», – объявил он голосом, полным оптимизма.
Леви выглянул на лестничную клетку.
– Что вы там ищете? – спросил мерзавчик.
– Насколько я понимаю, сейчас должен появиться ваш папа?
Тот рассмеялся.
– Я – представитель компании. Пожары, воровство, изнасилования.
И, увидев замешательство на лице Леви, уверенно добавил: «Страховка»! Затем он раскрыл свой крокодиловой кожи чемоданчик и начал доставать какие‑то бесконечные бумаги, ручки, счетные машинки.
Потом он внимательно оглядел Леви, попросив его подняться, повернуться. Тяжело вздохнул.
– М – да, – раздумчиво произнес мерзавчик, – часто гуляете по вечерам?
– Не очень, – признался Леви, – а в чем, собственно, дело?
– Советую из дома не выходить, – таинственно произнес тот, – естественно, пока не застрахуетесь.
– От чего? – не понял Леви.
– От изнасилования, – объяснил «Шмуц» и защелкал на своем маленьком компьютере. – Вы возьмете полис 467, уплатите всего навсего 55 франков и…
– Изнасилование? – переспросил Леви. – Вы думаете, у меня есть такая возможность? Я, вроде бы, мужчина, и к тому же достаточно стар…
«Шмуц» загадочно улыбался.
– Вы себя недооцениваете, – произнес он. – Могу вас заверить – шансов много. Насилуют калек, старух – почему бы и не вас? Вы не хуже других… А так… – он вновь защелкал компьютером, – вы платите, как я сказал, 55 франков в месяц, затем выходите прогуляться по Паки – район заметьте, неспокойный, – вас насилуют, вы застрахованы, оп – и двести пятьдесят тысяч в кармане! А? Подписываем?
– Мало, – сказал Леви, – мне нужен миллион.
– Подождите, не торопитесь, будет и миллион. Мало ли что еще может случиться.
– Есть шансы? – обрадовался Леви. – Еще и какие! Скажем, наводнение. Вы платите каких‑то семьдесят франков в месяц, море выходит из берегов, вас, слава Богу, затопляет, и в кармане у вас…
Машинка опять застрекотала.
– Жаль, что в Женеве нет моря, – расстроился Леви. – Хотя, с другой стороны, какое это имеет значение? Может затопить и из крана.
– Вот именно! – обрадовался «Шмуц». – К тому же, не забывайте – у нас есть озеро. Самое большое в Европе!
– Оно, к сожалению, не выходит из берегов…
– Сегодня нет – а завтра – да! И заливает вашу квартиру. Все тонет – и что же? И вы бредете в мокрых трусах по грязным дорогам, да?
– Прекрасно, – обрадовался Леви, – как я об этом раньше не подумал… И сколько мне это даст?
– Как только вас зальет, только какой‑нибудь там цунами или там потоп и – хоп! – он сверился с машинкой, – двести тысяч в кармане!
– Меньше, чем за изнасилование?
– Разумеется. «Шмуц и сын» считают, что наводнение менее вероятно, чем изнасилование. Вы так не думаете?
– Без сомнения, – ответил Леви. – Особенно в моем случае… Что там еще у вас?
– Полис номер 88. Это самый лучший полис, самый выгодный. Вы платите всего сто франков в месяц – и можете спокойно умирать.
– Какая обида! – огорчился Леви. – Я, как назло, совершенно здоров.
– И прекрасно, – обрадовался «Шмуц». – Этот полис только для здоровых. Только для тех, кто не может просто так взять и умереть.
– Сейчас я ничего не понял, – сказал Леви, – зачем страховать от смерти тех, кто не может умереть?
Агент загадочно подмигнул.
– Всякое бывает… Сегодня вы здоровы, завтра вы начинаете выплачивать, послезавтра – бах! – и вас нету! И, – машинка защелкала, – триста тысяч в кармане! А? Как вам это нравится?
Леви подсчитал. До миллиона не хватало всего двухсот пятидесяти тысяч.
– К тому же, задорно добавил агент, – если вы погибнете в автомобильной катастрофе, то получите, – он забарабанил на машинке, – триста шестьдесят тысяч! А? Вы понимаете?
Он весь светился от удовольствия. Это была чистая радость.
– Вот это уже лучше, – сказал Леви, – но, к сожалению, у меня нет машины. Скажите, а на чужой можно погибнуть?
– К сожалению, только на своей. На чужой получите гораздо меньше. Да вы купите – мы продаем недорого.
– А то, что я не умею водить – это не помешает?
– Даже лучше! Быстрее! Сразу же садитесь за руль… не тяните… Вы меня понимаете?
– Еще и как! – воскликнул Леви.
– С вами приятно разговаривать, – улыбнулся «Шмуц», – остальным, пока объяснишь…
– Идиоты! – успокоил его Леви. – Скажите, а мог бы я сразу дважды застраховаться от смерти?
– То есть как? – не понял агент.
– Очень просто, – объяснил Леви. – Я сажусь впервые в жизни за руль, естественно, умираю от страха, от разрыва сердца, а потом уже погибаю в аварии? А?
Агент начал тереть лоб.
– К сожалению, нельзя, – объяснил он, – люди умирают только один раз.
– А вот это жаль, – опечалился Леви, – я бы не отказался несколько раз. Родился, жил, радовался, умер, вновь родился, жил, радовался…
Он замолк.
– А если я не умираю? – вдруг спросил он.
– Как, совсем?! – испугался агент.
– Ну, положим, еще лет сорок – пятьдесят?
«Шмуц» несколько огорчился. Взгляд его потускнел.
– Это плохо, – признался он, – нехорошо. На вашем месте я бы этого не делал.
– Почему? – поинтересовался Леви.
– Подумайте сами. Все эти годы вы должны будете выплачивать по сто франков в месяц, и получите ваши деньги где‑то к вашему столетнему юбилею. Что вы тогда будете с ними делать?
– Вы правы, – согласился Леви. – Конечно, лучше погибнуть сейчас и сразу же получить деньги, чем продолжать жить и получить их через полстолетия. Но учтите, – продолжал он, – до миллиона мне нехватает двести пятьдесят тысяч. Вы не могли бы мне еще что‑нибудь предложить?
«Шмуц» несколько испуганно взглянул на Леви.
– А как же? – удивился комик. – Миллион– и ни копейки меньше! Иначе я бы не стал с вами разговаривать… Итак, на что мы еще страхуемся?
– Но у меня больше ничего нет, – пробормотал агент.
– Плохо работаете, – констатировал Леви, – не удовлетворяете широкие запросы трудящихся… Могли бы вы меня застраховать от измены? Если от меня уйдет жена – я могу что‑нибудь получить?
– Вы женаты?
– Конечно, нет, – воскликнул Леви. – С чего вы взяли?! И не собираюсь… Так что вы мне дадите в случае ухода возлюбленной?..
Лицо агента вдруг чем‑то неуловимо стало напоминать лицо гегемона Семена Тимофеевича, требовавшего валюту в районнном сумасшедшем доме.
– Сто восемьдесят тысяч франков, – отчеканил он.
– Двести пятьдесят тысяч, – потребовал Леви, – и ни сантима меньше!.. Ее уход для меня будет непереносимым ударом… И не торгуйтесь!
– Но вам придется больше платить ежемесячно, – пробормотал агент, и потянулся к микрокомпьютеру.
– Можете не считать, – бросил Леви. – Я согласен. Присылайте ваши полисы!
Уходя, агент как‑то вяло обнял его.
– Извините, – пробормотал он, – что я вам не могу пожелать ничего хорошего… ни здоровья, ни счастья… Вы меня понимаете?..
– О чем вы говорите! – сказал Леви и захлопнул за «Шмуцем» дверь…
Он покинул студию через десять минут. Ему ничего не оставалось, как бежать из нее, даже не отдохнув – Леви не был готов умереть даже ради Иегуды. Тем более, что деньги на Галеви он получил бы только после своей смерти…
Он шел по Паки со своим чемоданчиком, где лежало три варианта «Иегуды» и сам Галеви, и все ожидал, когда его начнут насиловать. Но, увы, он был никому не нужен – вокруг была масса конкурентов, вернее, конкуренток, которые явно превосходили его своими достоинствами. Этот район славился своими проститутками – красивыми, сдержанными, интеллигентными, напоминавшими женщин высшего русского общества девятнадцатого века. Они говорили на трех языках, благородно улыбались, и скромно, достойно стояли у стенки, как Наталья Ростова на балу…