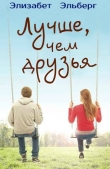Текст книги "Бал шутов. Роман"
Автор книги: Александр и Лев Шаргородские
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
И Леви хотелось пригласить каждую из них – нет, не в постель, а на вальс или танго…
И вдруг одна, длинноногая, худая, отделилась от стенки и бросилась на него, крича довольно странную даже для Женевы фразу:
– Товарищ Леви! Вы меня не узнаете?..
И товарищ Леви узнал женевскую проститутку – это была бывший член приемочной комиссии, деятель культуры, комсомолка Таня…
– Боже мой, Таня, что вы здесь делаете?
– Работаю, – гордо ответила она.
– И… и довольны… так сказать… работой?
– Очень! Вы не представляете, как это удобно! Всего три – четыре часа – и получаю в десять раз больше, чем на ткацкой фабрике. Даже с учетом премий и сверхурочных…
Таня взяла Леню под руку.
– Я могу вас пригласить в ресторан?
Они пошли в «Ричмонд». Леви был плохо, но одет, комсомолка же была почти нагая – горжетка и колготки.
Но на это никто не обращал внимания, и только Леви периодически интересовался, не замерзла ли она, и предлагал свой пиджак. Они вспоминали прошлое, пили водку и ели сосиски, чем посеяли некоторую панику среди обслуживающего персонала.
– Из всего их выбора предпочитаю сосиски, – улыбнулась комсомолка. – Смешно, а?..
И они заказывали еще…
– А что стало с офицером флота? – спросил Леви.
Комсомолка внезапно разрыдалась.
– Как, – пробормотала она сквозь рыдания, – вы разве не слышали?
– Нет.
– Его забодал бык. В Барселоне.
– Что вы говорите? – испугался Леви.
– Он поднял его вместе с кортиком на рога и так минут шесть носил по арене… Вы не представляете, как он ревел…
– Кто, бык?
– Да нет, офицер… Пока в него не вонзили бандерилью…
– В офицера?! – ужаснулся Леви.
– Да нет, в быка… И вы знаете, какие были его последние слова?
Леви уже не знал, кого? Быка? Офицера? На всякий случай он промолчал…
– Прости, Татьяна! – сказала комсомолка.
«Наверно, все‑таки быка, – подумал Леви. – Офицер на такое был явно неспособен».
Они выпили за упокой души русского тореадора…
– А вы знаете последние слова Ореста Орестыча? – спросила она.
Леви с ужасом взглянул на нее.
– Прости, Татьяна! – комсомолка вновь разрыдалась.
– Неужели его тоже забодал бык? – дрожащим голосом произнес Леви.
– Нет, он жив, – объяснила Таня, – а эти слова он произнес, когда мы расставались в Кордове.
– Но почему «прости»?
– Только между нами, Леонид Львович. Он стал импотентом… Сейчас он работает при Королевском дворе в Голландии.
– И что он там делает? – удивился Леви. – Организовывает королевский театр?
– Заведует компотами королевы… Знаете, компоты всюду любят.
– Простите, – спросил Леви, – а дама из Управления, что она вам сказала?
– Ничего. Она скрылась, не попрощавшись, – сказала проститутка, – в неизвестном направлении. Я всегда думала, что она – блядь, – добавила она…
Тут в зале появился маленький японец. Он долго оглядывался и, наконец, подбежал к их столику, минут пять кланялся ничего не понимающему Леви, мотал головой, пока Леви не сказал ему:
– Кони ти ва!
Это было приветствие. Естественно, по – японски.
Незнакомец страшно обрадовался.
– Вы знаете японский?!
Он не успел ответить.
– Замечательно! – объяснила за него проститутка. – Он его учил в школе. В японской. И даже писал на нем стихи.
Леви испуганно смотрел на комсомолку. Он никогда не представлял, что она умеет так врать. К тому же из всего японского, кроме приветствия, он знал три слова – Судзуки, Хокусайя и Иокогама. Но комсомолку несло.
– А потом он работал переводчиком у советского посла в Японии и написал книгу «Япония – любовь моя!» Конечно, по – японски.
– «Аримасэн, – поблагодарил японец Леви.
Леви растерялся, комсомолка рассердилась.
– Ты же, кажется, знаешь, – сказала она японцу, – я не могу терпеть, когда при мне говорят на незнакомом языке!
– Простите, – произнес японец, – извините… – и опять долго и низко кланялся.
– У меня есть туристическое бюро в Женеве, – продолжил он, откланявшись, – хотя сам я живу в Токио. Я сюда прилетаю раз в неделю к моей Чио – Чио – Сан, – он показал на комсомолку. – А сегодня я ее не застал на обычном месте. Но я ее прощаю.
– Спасибо, – поблагодарила комсомолка, и низко поклонилась, совсем по – японски.
– В моем бюро, – продолжал японец, – нехватает такого знатока, как вы…
– Вы уверены? – заикаясь, уточнил Леви.
– Большинство моих экскурсоводов из всего японского, кроме приветствия, знают только три слова – Судзуки, Хокусайя и Иокогама…
Леви вздрогнул.
– Соглашайтесь! – приказала ему по – русски комсомолка.
И он согласился. Не мог же он ослушаться ее приказа.
Комсомол все‑таки, верный помощник партии. А партия, как известно, наш рулевой…
Через несколько минут Чио – Чио – Сан и японец покинули зал ресторана. Леви не спеша доел сосиски, допил водку, а на следующий день приступил к работе.
Сокол принял предложение Главного сыграть маршала.
Самое интересное, что ему разрешили. Безусловно, здесь не обошлось без Борща.
Сокол ходил в сапогах по сцене, гремел орденами, которые спускались почти до задницы, сверкал очами, ведя бойцов на Берлин.
Когда в Кремле, у карты боевых действий он возражал самому Сталину – в зале вспыхивали аплодисменты.
Главный торжествовал – позиции его укреплялись, видимо, он сделал верную ставку на армию.
В конце спектакля он выходил кланяться в своей форме времен войны. В интервью врал, что в 42–м году взял двух языков, что оба его сына пилоты, дочь – военврач.
Никого он не брал, детей у него не было.
Но правильная ставка помогла.
И вдруг у Бориса забрали все роли. Сначала сорвали китель маршала, стащили сапоги. Лишили звания Героя Советского Союза.
Потом запретили играть председателя колхоза, правда, передового.
Потом директора завода, довольно отстающего.
Когда его лишили роли карманного вора, он понял, что приходит желанная пора – скоро посадят.
Настроение его улучшилось, он смеялся, насвистывал, коллеги не могли понять странных реакций.
– Скоро посадят, – сообщал он всем с дьявольской улыбкой.
Коллеги вздрагивали. Они думали, что их.
Сокол был в нетерпении.
Чтобы приблизить посадку, он пошел на смелый шаг.
Из всех ролей у него оставалась одна – того самого Отелло.
Того мавра, который сделал свое дело и мог уходить.
Но Боря свое дело еще не сделал.
Оставалось еще всего одно представление.
Боря поставил на него.
И он не ошибся.
Приближалась сцена удушения. Отелло с горящими глазами пошел на Дездемону.
Ты не убьешь, не сломишь убежденья,
Что мне терзают душу! Ты – умрешь!
– О Боже, смилуйся, – закричала Дездемона и приготовилась к худшему.
Но вдруг, вместо того, чтобы ее душить, Отелло изменил направление и вместо кровати двинулся за кулисы.
– Ты куда? – шептала Дездемона. – Ты же должен меня душить!
Отелло, не отвечая на ее мольбы, двигался к кулисам.
– Распутница, – шептал из будки суфлер. – При мне о Кассио плакать!
– Ша! – бросил ему Борис и скрылся за кулисами.
– О, прогони меня, но пощади, – шептала с одра Дездемона, – убей хоть завтра, дай мне ночь прожить!
Три раза она повторила это. И напрасно – ее не собирался никто душить.
Ни Дездемона, ни зал, ни суфлер не понимали, в чем дело.
Наконец, Отелло появился из‑за кулис. На огромной его груди, поверх доспехов, висели многочисленные круги колбас, гирлянды сосисок и лианы сарделек.
Суфлер поперхнулся.
– Умри, распутница, – хрипел он.
Отелло не реагировал. Он взял кресло, поставил его посредине сцены, сел в него и стал смотреть в зал.
Дездемона, хотя ее и не душили – не дышала.
Отелло смотрел в зал и молчал.
Он молчал минуту, две, три.
Молчал и зал.
Такой постановки «Отелло» никто давно не видел.
Наконец, кто‑то не выдержал.
– Чего вы молчите? – выкрикнули из зала.
Отелло встал, поправил свою бороду, доспехи, и громко, на весь зал, произнес:
– Я?! – громогласно вопросил он. – У меня все есть!
И он колыхнул мясными изделиями.
– Чего вы молчите?!!
Теперь уже перестали дышать зрители.
В этот раз Отелло не задушил Дездемону.
Он немножко придушил весь зал…
И кулисы. Актеры стояли застывшие, с открытыми ртами.
– Я все сказал – бросил он, – можете закрыть!..
Он опустился в свое кресло в уборной и тут же заметил Борща.
– Потрясающе, – повторял тот, – вы меня уморили. Я так хохотал, что чуть не вывалился из кресла. Великолепная шутка.
– Это не моя, – ответил Борис, – ее исполнил в двадцатые годы один известный актер.
– Да? – удивился Борщ, – никогда не слышал.
– И знаете, сколько он за нее получил?
– Понятия не имею.
– Восемь лет! – уточнил Борис.
– Что вы говорите?!
– Что слышите! – огрызнулся он, – а со мной вы что‑нибудь сделаете?
– Нет, вас никто не тронет.
– А в тюрьму? – спросил он, – неужели я за это не покачу в тюрьму?
– К сожалению, – печально сознался Борщ, – кстати, это какая колбаса?
Он указал на круги, которые снял с шеи Борис.
– Краковская, – ответил тот.
– Вы разрешите? – спросил майор, отломал ломоть и с аппетитом начал его грызть…
Леви работал с японцами.
На каком языке он им рассказывал о красотах – оставалось тайной.
Из всего японского, как вы помните, он знал Судзуки, Хокусайя и Иокогама.
Но они его понимали, он нравился им, хотя то, что он говорил, могло привести в панику любого, если, конечно, он был не из Страны Восходящего Солнца.
Наверное, ему нехватало театра, комику Леви.
Автобус с туристами катил по Женеве, и Леня на чем‑то ломаном сообщал в микрофон.
– Дорогие товарищи, – говорил он, – сейчас мы с вами совершим экскурсию по городу – герою Женеве.
Швейцар – шофер косил в его сторону. Японцы записывали.
– Как известно, – продолжал Леви, – Женева – город трех революций.
На этом месте шофер вздрагивал. Он не знал, что Леня из Ленинграда, города трех революций, и что он сбежал, не дожидаясь четвертой.
– В ночь с 17–го на 18–ое, – сообщал Леви, не давая более точной даты, – вооруженные рабочие и крестьяне штурмом взяли… – он начинал высматривать из окна автобуса, что же взяли восставшие.
Иногда это был магазин «Гран Пассаж», иногда отель «Ричмонд», но чаще всего на глаза ему попадался какой‑нибудь банк, – штурмом овладели «Трэд Девелопмент Бэнк», – заканчивал он.
Леви презирал банки. Ни в одном из них у него никогда не лежало ни копейки. Ни су. Ни пессеты. Не будем продолжать поиск валют…
После взятия банка ему всегда становилось легче. Лик его просветлялся и он радостно возглашал:
– Банк, товарищи, был взят, и деньги перешли к народу. Так произошла Великая Швейцарская революция!
Японцы записывали…
– Революция, – понижал голос Леви, – была кровавой. Вы знаете, сколько крови надо пролить, чтобы взять один банк? Даже сегодня. А до революции?! И все?!
Посланцы страны Восходящего Солнца выпучивали глаза.
– Силы были неравны, – повествовал Леня, – рабочих мало, банков много, денег еще больше! Буржуазия защищалась отчаянно. Приходилось брать с боем каждый сейф, каждую тысячу, каждую сотню. Особенно ожесточенно сопротивлялся «Сhange». Буквально силой приходилось вырывать доллары, фунты, марки. Сейчас «Change» открыт, народу немного, можете поменять.
Японцы послушно меняли, затем покупали шоколад, синхронно жевали и, развесив свои желтые уши, слушали Леви.
– После банков, – в его голосе слышались трагические нотки, – были взяты почта, телеграф, телефон.
Японцы записывали. Иногда кто‑нибудь интересовался.
– Простите, Леня – сан, какой селефон?
Леня – сан на терялся.
– Телефон – автомат, – объяснял он и оглядывался в поисах будки, – вон, напротив. Взять телефон было еще труднее, чем банк, товарищи.
Японцы удивлялись.
– Посему, Леня – сан? – спрашивали они, держа блокноты наготове.
– Вечно был занят, – объяснял тот, – буржуазия только и делала, что болтала. Теперь телефон – свободен! Можете позвонить.
Японцы снимали трубку и щелкались.
– Кстати, – добавлял он, – из телефона очень хорошо видна тюрьма. До революции, как и все, она принадлежала помещикам и капиталистам. Сейчас – народу! И сидит в ней простой народ – рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция.
Японцы прилежно записывали.
Потом начинались памятники.
Указывая на первый попавшийся, Леви торжественно сообщал:
– Великий вождь революции – товарищ Кальвин. За непреклонность к врагам его называли «железным». Кто хочет, может убедиться.
Японцы трогали металл, убеждались и фотографировались на фоне железного Кальвина.
– Прошу почтить память вождя минутой молчания, – скорбно произносил Леви и срывал кепочку.
Японцы молчали. Леви отдыхал.
«Еще час с самураями, – думал он, – а потом пойду в «Ричмонд», выпью «рестретто».
Минут через десять минута молчания заканчивалась, и они ехали в Бастионный парк.
В нем Леви любил хоронить легендарных революционеров.
– Товарищи, – обращался он к японцам, – отойдите немного, еще чуть – чуть. Хорошо! Вот здесь, на этом месте, где вы только что стояли, были зверски убиты контрреволюционерами верные соратники Кальвина, несгибаемые революционеры Каменев и Зиновьев.
Места зверского убийства постоянно менялись. Жертвы – никогда! Леви почему‑то хотелось расстреливать именно Каменева и Зиновьева. Японцы шумно снимались на месте зверского убийства, широко улыбаясь на своих кривых ногах…
Автобус катил дальше. То тут, то там, на площадях и в скверах Леня расстреливал несгибаемых революционеров, пытал их, вел на виселицу.
Иногда по обе стороны Женевского озера он организовывал жестокоподавляемые мятежи.
– 23–го апреля, – сообщал он, – в Кронштадте вспыхнул контрреволюционный мятеж.
– А где Кросстат, Леня – сан? – спрашивали потомки самураев.
– Вон! – он резко выкидывал руку вперед. – Видите, в тумане?..
Японцы одевали очки и вглядывались в туман.
– Видите? – интересовался Леви.
Те дружно кивали, хотя месторасположение Кронтшадта часто менялось.
– Рабочие и крестьяне, – продолжал он, – с этой стороны, от гостиницы «Хилтон», по льду пересекли озеро и самоотверженно подавили мятеж!
– Исвините, – иногда робко возражали японцы, тыкая в свои путеводители, – тут написано, что осеро не самерсает.
– Сейчас нет, – соглашался Леви, – но до революции не было зимы, чтобы оно не покрылось толстым слоем льда. По нему скользили сани, катили обозы, пролетал в своей пролетке Пушкин.
Ему всегда хотелось прокатить по озеру Александра Сергеевича.
Японцы не реагировали. Они записывали, что до революции озеро замерзало.
Почему‑то больше всего японцев интересовала могила Брауншвейга с эклектической усыпальницей и гробом на шестиметровой высоте.
– Свердлов, – объяснял Леви, – верный соратник Кальвина. Зверски убит из‑за угла.
– Позвольте, Леня – сан, – возражали японцы, – могила Свердлова на той стороне. Вы ее только что покасывали!
Это была правда. Он так ненавидел Свердлова, что хоронил его всюду, где только было свободное место.
– Вы правы, – отвечал он, – товарища Свердлова убивали многократно. У него несколько могил. Нам еще предстоит познакомиться с тремя…
Леви должен был перевести дыхание.
– Прошу почтить минутой молчания память зверски убитого из‑за угла, – просил он…
Японцы молчали. Леви закрывал глаза и думал о кофе в «Ричмонде».
– А что стало с железным Кальвином, – периодически интересовались островитяне, – его тоже убили из‑за угла?
– Нет, – скорбно сообщал Леня, – его убил шоколад.
Японцы переставали жевать.
– После революции, – продолжал он, – товарищ Кальвин ел много шоколада, заболел диабетом и умер. От цирроза. Прошу почтить память товарища Кальвина минутой молчания.
Здесь наступало обычно легкое замешательство.
– Мы разве не поминали, Леня – сан? – волновались японцы.
– Железный Кальвин, – холодно отвечал Леви, – заслуживает, чтобы его память почтили дважды.
И вновь срывал кепку…
Он немного отдыхал, расслаблялся и возвращался к Великой Швейцарской революции.
– Буржуазия отчаянно сопротивлялась, – опять пугал он. – И тогда при Женевском совете рабочих и солдатских депутатов была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
– Во главе ЧК был поставлен несгибаемый революционер, – Леви начинал крутить головой в поисках подходящей кандидатуры для председателя ЧК. – Верный соратник Кальвина, – кандидатуры не находилось, – неподкупный, самоотверженный, – и тут он обычно замечал какую‑нибудь конную статую. Он надевал очки и направлялся к ней, – легендарный, любимый народом, железный – он всматривался в надпись на цоколе, – железный генерал Дюфур! Кто желает – может убедиться, – говорил Леви.
Японцы убеждались, фотографировались на фоне железного председателя женевской ЧК и ехали к всемирно известному фонтану.
Это была кульминация экскурсии.
– Самый высокий в мире фонтан, – понизив голос, сообщал Леви, – до революции его высота была всего семь метров, сегодня – 264!
Японцы аплодировали.
– При южном ветре – до трехсот, – добавлял он. И затем испытующе смотрел на представителей первой индустриальной державы Азии.
– Вы думаете, это вода? – дьявольски спрашивал он.
Японцы разевали рты.
– Это кровь! – выпаливал Леня. – Рабочих и крестьян! Пролитая за правое дело!
– Японцы тянули руки к струе, проверять, как Кальвина. – Оторвет! – предупреждал он. – Струя вылетает со скоростью 700 км/час. Символизирует бессмертие рабочего дела. Посвящена жертвам Великой Швейцарской революции. Прошу почтить их память минутой молчания.
Островитяне снимали шляпы. Леви закрывал глаза и засыпал. Пораженнные его верностью идеалам, японцы не решались его трогать.
Затем Леня очухивался, снимался с японцами на фоне струи, и экскурсия по городу – герою заканчивалась…
Трудно сказать, скольким японцам он запудрил мозги «Великой Швейцарской революцией», пока на него не накапали. И Леви знал, кто – это был китаец. Он был с японцами. Пожилой, в очках, он попросил Леви уточнить, в каком году произошла Великая Швейцарская революция.
– В 1917, – без запинки ответил тот.
– А Кальвин умер в 1564! – ехидно заметил японец, – как же он руководил революцией?
«Странный японец», – подумал Леви.
– А это другой! – парировал он, – это тот, что умер в 1924! Кальвинов было много. Не было года, что бы не умер какой‑нибудь Кальвин!
Японец скептически взглянул на Леви– и тот понял, что это китаец…
Вскоре его вызвал шеф. Шефа звали Шмоль. Он возглавлял швейцарскую контору японца комсомолки.
– Почему вы Кальвина называете товарищем? – спросил Шмоль.
– Видите ли, – ответил Леня, – я его не слишком хорошо знал, чтоб называть другом…
Шмоль поднял правую бровь.
– Вы протестант? – спросил он.
– Неверующий, – уточнил Леви, – но близок к протестантизму. – И добавил: – не букве, а духу!
– Я католик, – заметил Шмоль.
– Очень приятно, – сказал Леви и брякнул: – Все дороги ведут в Рим…
– Кто такой Свердлов? – неожиданно спросил Шмоль.
– Видный деятель коммунистического и рабочего движения – ответил он.
– Почему вы его сделали соратником Кальвина?
Леня прочистил горло.
– Он питался его идеями, – выдавил он, – он вырос на нем. Впрочем, все мы выросли на Кальвине, – добавил он как можно более убедительно.
– Я католик, – напомнил Шмоль.
– Рим открытый город, – парировал Леви.
Католик встал.
– Почему вы похоронили Свердлова на берегу Лемана?!
Неверующий поднялся тоже.
– Я могу его перенести, – сказал он, – вам будет приятнее, если он будет покоиться на берегу Тибра?
– Я швейцарец, – напомнил Шмоль, – не хотели бы вы мне рассказать что‑либо о Великой Швейцарской революции?…
После этого вопроса Леви окосел и стал похож на художника Хокусайя, в последний период его жизни.
– Судзуки, – сказал он.
– Что? – не понял Шмоль.
– Иокогама, – объяснил Леви, – Хирохито.
Он сложил руки на груди, поклонился и вышел…
Сокол бросил Борща, смачно жующего колбасу, и вышел на вечернюю улицу. За плечами были крылья.
Он шел, возбужденный, и чуствовал на себе восхищенные взгляды зрителей, которые крутились еще возле театра. Некоторые кивали ему, кто‑то улыбался, а один, совершенно незаметно для него, проходя мимо, крепко сжал его руку.
– Спасибо, – говорил он им всем, – спасибо…
Чем дальше от театра, тем меньше становилось людей. Была ночь. В небе стояла полная луна. И в ее свете Борис заметил еще двух молодых людей, в элегантных костюмах, с тонкими лицами.
Они направились к нему.
«Неужели надо дождаться темноты, чтоб отблагодарить?», – подумал он.
Молодые люди приблизились.
– Спасибо, – сказал, не дожидаясь, Борис, – не стоит благодарности.
– Почему же? – ответил один из интеллигентов и залепил ему в ухо. – Очень даже стоит!
Интеллигенты били профессионально и больно.
– Это тебе за Отелло, – пояснили они и били в пах, – это за колбасу, – и он получил в нос, – а это за диссидентство вообще. – И под левым глазом появился синяк.
– Вы ошибаетесь, – пытался сказать Борис, – я не диссидент! Вернее, не тот, что вы думаете!
– Тот, тот! – успокоил интеллигент и, видимо для симметрии, поставил синяк и под правым глазом.
– Да я ж все это спец…
Но тут кулак пришелся как раз по рту, и фраза застряла на губах любимого народом артиста…
Он бросился в театр, ворвался в свою уборную – Борщ все еще жевал.
– Оставьте колбасу! – бросил Сокол майору.
– Почему? – удивился тот.
– Посмотрите, что они со мной сделали, – шепелявил Борис. У него, видимо, уже нехватало зубов.
– Я вижу.
– Как же вы можете жрать?!!
– Ну, честное слово, – Борщ непонимающе пожал плечами, – это же наши люди, Борис Николаевич.
– Опять?!
– Вы что, разве не поняли?
– Вы же сказали, что я неприкасаемый! Взгляните на неприкасаемого – живого места нет! Как я мог понять, что это ваши?
– Да хотя бы потому, что у вас ничего не переломано! Не задеты жизненно важные центры!
– Да, но они били меня, как настоящего диссидента! За что?! Зачем вы это сделали?
– Только по одной причине, – объяснил майор, – для пущей убедительности! Разве не ясно?
– Вы меня еще убейте, для пущей убедительности, – прошамкал Борис.
– Бывало и такое, – заметил Борщ.
– Что?!
– Но такие времена давно прошли!
– Это вы называете – прошли? – он указал на свою побитую физиономию, – сколько это еще будет продолжаться?!!
– Все зависит от вас, уважаемый Борис Николаевич.
– Как это? – не понял Борис.
– Очень просто. Возьмем сегодняшний случай. Ну, право, от вас я такого не ожидал.
– От меня?! – от удивления Сокол даже привстал.
– Да, да! Вы чуть не завалили всю нашу операцию! Все наше дело!
– Когда? – обалдел Борис.
– Когда во время драки вопили «Да я же все спец…», – процитировал майор.
– Вас бы так били! – пробурчал Борис.
– И если б не один из наших товарищей, – продолжал Борщ, – все бы уже знали корреспонденты!
– Позвольте, спросить, откуда? Какие, к черту, корреспонденты?!
– Иностранные, мой дорогой. Вы что, их не заметили?
– Где?
– В парадной, в двух шагах.
– Не – ет…
– Ну, вот видите. Мы же не садисты, чтобы просто так избивать. Вам пришлось немного потерпеть, но завтра весь мир узнает об ужасном избиении крупного диссидента.
– Лучше б он не узнавал.
– А общественное мнение? За кого им тогда бороться?
– Что? – спросил Борис. – Вы меня будете и дальше избивать?
– По плану не предвидится, – успокоил Борщ, – но все зависит от мирового общественного мнения.
– Умоляю, – прошепелявил Борис, – посадите в тюрьму. Ну что вам стоит?
– Рано, – опять ответил майор, – еще не поднято западное общественное мнение.
– А когда оно поднимется? – спросил Борис. – А то у меня уже почти зубов не осталось.
– Скоро, – с улыбкой пообещал Борщ, – и не переживайте – на Западе вставляют прекрасные фарфоровые зубы…
Гуревич перебивался уроками.
Причастия и глаголы прыгали в его гениальной голове, и сложно – подчиненные предложения сменялись там краткими прилагательными.
Ученики были, мягко говоря, странными.
Мадам Брэн, старуха, мечтала съездить в Москву, посетить Ленина в Мавзолее.
Зачем ей для этого был нужен язык? Ленин был мертв, к тому же в Мавзолее запрещено говорить.
Жан – Марк влюбился в ленинградку и мечтал написать ей любовное письмо на ее родном языке. Это бы было понятно, если б ленинградка по красоте не приближалась к парижанке, вывезшей Гуревича на свободу.
Третьим персонажем был русский, Савелов, забывший родной язык. Он его восстанавливал с какими‑то тайными целями, вроде захвата власти в Сибири. Гуревич не допытывался.
Они платили – он молчал.
«Зачем мне все это нужно, – иногда спрашивал он себя, – неужели для этого я вышел из моря? Чтобы вдалбливать: Я читаю, ты читаешь, он читает?!!»
Какой абсурд!
Театр был заброшен, он начал забывать любимые запахи – сцены, кулис, шум премьер.
В этом страшно было признаться, но ему начало казаться, что он совсем не хочет придушить членов приемочной комиссии.
Наоборот, ему стало как‑то нехватать ее. Чтобы поругаться, покричать, поскандалить, хлопнуть дверью.
Ах, как хотелось ему хлопнуть дверью хоть перед кем‑нибудь!
Не было, перед кем.
Ночами ему стал сниться тот самый мордатый цензор из дома на Невском.
Гуревичу недоставало его. Чтобы бросить в лицо ему все, что он о нем думает, сказать, кто он на самом деле, смешать его с говном, а затем схватить запрещенную пьесу и носиться с ней по инстанциям – и пробивать, пробивать!
Ах, как хотелось ему пробить что‑нибудь запрещенное!
Он жаждал невидимой стены, которую бы надо было пробивать. Ее здесь не было.
Без стены жизнь казалась ему скучной, постной.
Ему конечно, хотелось, чтоб его хвалили, воспевали, возносили!
Но с такой же бы радостью он бы согласился, чтоб его поносили, критиковали, ругали, смешивали с тем же дерьмом. В печати, по телевидению, на радио. Не важно, где и как, но хоть как бы обращали внимание.
Своими постановками он будоражил людей, и хотел, чтобы будоражили и его.
Тишины ему не хотелось. Покоя тоже. Все это можно было получить на кладбище. Он туда не спешил.
Но никто не интересовался гением Гуревичем в городе света.
Даже приемочная комиссия.
Там он был под неусыпным контролем. Партии, цензуры, органов.
Он хотел, чтоб и здесь хоть кто‑то интересовался им.
Пусть даже и «органы».
Но все кончалось одним: Я читаю, ты читаешь, он читает…
Там он ползал. Но с высоко поднятой головой.
Здесь он ходил прямо. Но голова почему‑то была понура…
Иногда ему хотелось вернуться…
Нет, не туда, в ту страну – он хотел вернуться в пятидесятые годы. В 56–ой, в 59–й. Цифра «пять» его привлекала. Она проясняла его. Душа озарялась солнцем, голубой горизонт вставал перед глазами.
Если б можно было уехать в страну, где были сейчас пятидесятые годы… Ему было одиноко.
«Может, это от того, что я изгнанник?», – думал он.
И сам отвечал.
«Чего жаловаться. Все мы изгнанники. Из рая…»
Соколу все осточертело. Несколько дней он пил. Затем вдруг поехал в театр…
На сцене шла «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта.
Мекки – нож пел свои страшные куплеты.
Проститутки голосили и повиливали бедрами.
И вдруг в этом борделе на берегу Темзы появился Владимир Ильич. Ленин шел не торопясь, немного подпрыгивая, в своей знаменитой кепочке, заложив руки за жилетку и лукаво поглядывая на проституток.
Зал взорвался аплодисментами – как и всегда, когда на сцене появлялся вождь революции.
Пусть даже и в бардаке.
Он двигался от задника к авансцене, подмигивая проституткам и пощупывая их.
– Негасиво, – картавил он, – негогошо.
От стыда, от ужаса происходящего, а, может, и от близости вождя проститутки начали спешно напяливать на себя что попало, а Мекки чуть не проглотил свой знаменитый нож.
Зал смолк, ошеломленый столь легкомысленным поведением Владимира Ильича, а также вопросом – как он забрел в этот бордель?
А вождь революции и не думал отвечать. В абсолютной тишине он приблизился к рампе, выбросил вперед правую руку и страстно и пламенно выкрикнул в зал.
– Товагищи! – прокартавил он. – Социагистическая гевалюция, о котогой столько говогили большевики – провалилась!..
Зрители онемели и с надеждой смотрели на запасной выход.
Владимир Ильич потер сократовский лоб.
– Пгошу почтить ее память вставанием, – попросил он.
Все стали переглядываться, как бы ищя помощи друг у друга, а затем, как один, в едином порыве, встали.
Как‑никак, это был призыв вождя.
– Смело товагищи в ногу… – затянул он.
–..гудью окгепнем в богбе, – почему‑то картавя, подхватил зал…
Кулисы были потрясены. Главный принимал сердечное.
Борис стремительно шел по театральному коридору.
Он был заполнен перепуганными актерами, пожарниками, проститутками, режиссерами, Мекки – Ножом, секретарем парторганизации, мастерами по свету и звуку.
– Догогу вождю геволюции! – шумел Борис, и все в страхе расступались. К нему бросились секретарь и Главный.
– Что вы наделали? – спросил секретарь. – К чему вы идете?!!
– К воогуженному восстанию, – пламенно выкрикнул Владимир Ильич.
– Ты сдурел, – пропищал Главный, – одумайся! Что, наконец, происходит?
– Социалистическое отечество в опасности! – объяснил Борис, отодвинув Главного и вошел в грим – уборную.
За его столиком сидел Борщ. Борис ничуть не удивился.
– Ну, – спросил он, – сейчас я уже заслужил тюрьму или нет?!!
Майор даже не колебался.
– Заслужили, – недовольно ответил он.
– Так чего вы ждете?..
Невесть откуда появились два битюга, заломив ему руки, потащили его, на глазах всей труппы, к черному воронку.
– Вся власть Советам! – только и успел выкрикнуть Владимир Ильич…
Он кричал этот лозунг и в машине, по всему пути следования.
Прохожие узнавали ленинские интонации, в испуге оглядывались…
Так его и везли, неразгримированного, словно арестованного царской охранкой.
А затем втолкнули в большую ярко освещенную комнату. От обилия света Владимир Ильич даже зажмурился. Висела люстра и хрустальные бра, стояли красные кожаные кресла и огромный письменный стол, полки с великолепной коллекцией книг, стереосистема, японский транзистор, телевизор с видеомагнитофоном и фрукты в вазах.
Борис расстроился.
– Опять, – сказал он, – а когда ж тюрьма?
– Это тюрьма, – елейно улыбнулся один из битюгов.
Со временем Леви начал чувствовать, что, живя в Женеве, он начинает подсыхать.
У него начали атрофироваться чувства, пропали энтузиазм, азарт. Было безденежно и скучно. Какого‑то элемента нехватало ему в этом воздухе. Какого‑то витамина недоставало на этих берегах.
Ему казалось, что он жил в банке. Они стояли вокруг, а «Швейцарский кредит» заслонял ему вид на Монблан, как когда‑то торс мадам Штирмер.
Корреспонденция у него тоже была банковской.
Банки наперебой приглашали его открыть счета, причем на выгодных условиях.
Особенно настаивал «Народный банк».
Это сочетание всегда как‑то коробило Леви. Ему казалось, что в банке действительно народном не должно было быть ни «су».
А в этом народном, судя по всему, было больше.
И он давал высокий процент.
Но Леви почему‑то колебался.
Вокруг были деньги и чистый воздух.
Видимо, действительно, деньги не пахли.
Хотя сам Леви этого все еще подтвердить не мог. До сих пор у него не было ни обоняния, ни денег…
И ни хорошего настроения – что самое страшное.