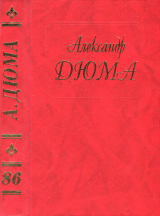
Текст книги "Драма девяносто третьего года. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Друэ не произнес более ни слова, но сказанного было вполне достаточно для того, чтобы вселить страх в души беглецов. Приказание, как видим, было довольно грубым; кроме того, с обеих сторон на двери кареты были угрожающе нацелены заряженные ружья.
Какую-то минуту именитые путешественники пребывали в нерешительности. В этот миг, по словам Вебера, Друэ поднял руку на короля.
– Ну хорошо, идемте, – сказал тот.
Людовик XVI надеялся, что все это было чистой случайностью и его не узнали.
Путешественников препроводили к дому Соса.
Вначале Сое утвердил короля в его надеждах. Складывалось впечатление, что прокурор принимал каждого из беглецов за того, кем тот желал казаться; он изучил предъявленные ими паспорта и как будто счел их вполне исправными, однако обратил внимание путешественников на то, что в Варение нет почтовой станции и что лошади, проделавшие путь из Клермона, не в состоянии пробежать без отдыха два перегона подряд, а поскольку отдых не может длиться менее получаса, он попросил своих собеседников пойти к нему и отдохнуть в его доме, где, возможно, им будет и не очень удобно, но все же лучше, чем в карете.
Отказаться от приглашения было невозможно. Вся королевская семья покинула карету и вошла в дом прокурора коммуны.
Дверь в находившийся на первом этаже зал, куда их пригласили войти, осталась открытой, и это позволяло видеть оттуда все, что происходило на улице, а с улицы видеть все, что происходило в зале.
Зал этот был бакалейной лавкой.
Вскоре г-н Сое покинул дом, препоручив путешественников своей жене.
По его словам, он вышел на улицу, чтобы посмотреть, отдохнули ли лошади, а на самом деле, чтобы увидеть, достаточно ли там собралось национальных гвардейцев.
Во время его отсутствия послышалась первая барабанная дробь и раздались первые раскаты набата.
То был своеобразный пороховой привод: люди пробуждались от этого шума, выскакивали из своих домов и бежали.
Прокурор вернулся в дом, пребывая в уверенности, что теперь он может рассчитывать на вооруженную поддержку.
– Сударь, – произнес он, обращаясь к королю, – в данную минуту муниципальный совет обсуждает, следует ли позволить вам продолжить путь; однако прошел слух, то ли ложный, то ли правдивый, что это нашего короля и его августейшую семью мы имеем честь принимать в наших стенах…
Прокурор смолк в ожидании ответа.
– Вы ошибаетесь, любезный, – промолвил король. – Эта дама, как вы могли узнать из ее паспорта, – госпожа баронесса фон Корф. Эти дети – ее сын и ее дочь, а эти женщины принадлежат к ее свите.
– Ну а вы, сударь, вы тогда кто?
Король смешался и ничего не ответил; несомненно, ему претило произнести слова: «Я лакей».
Такая ложь стала бы низкой вдвойне.
– Что ж, – насмешливым тоном произнес бакалейщик, – а вот я полагаю, что ошибаетесь вы и что эта дама – королева, эти два ребенка – монсеньор дофин и дочь короля, вон та дама – сестра короля, ну а вы – король.
Королева сделала шаг вперед: этот допрос был невыносим для гордости надменной австриячки.
– Ну что ж! – воскликнула она. – Если вы считаете, что этот господин ваш король, то и разговаривайте с ним тогда с уважением, какое вам надлежит оказывать ему.
Король, сделав усилие над собой, заявил, что он слуга г-жи фон Корф и зовут его Дюран.
Однако при этом заверении все покачали головой в знак сомнения.
– Довольно! – промолвила королева, не в силах выносить более это постыдное запирательство.
От этого пришпоривания гордость короля пробудилась, он поднял голову и сказал:
– Ну что ж! Да, я король, а со мной королева и мои дети. Мы заклинаем вас относиться к нам с тем почтением, какое французы всегда питали к своим королям.
При этих словах, невзирая на странный контраст, который составляли с ними серый сюртук и куцый паричок короля, несколько присутствующих расплакались.
Тем временем покинувший Пон-де-Сом-Ведь отряд из сорока гусаров, которыми командовали г-н де Шуазёль и г-н де Гогела, прибыл в Варенн, где эти офицеры застали г-на де Дама с двумя или тремя драгунами; там им стало известно о задержании какой-то кареты и о том, что путешественники, находившиеся в этой карете, были препровождены к прокурору коммуны.
Они попросили указать им дом прокурора, однако этот дом уже находился под охраной: перед ним стояло более трехсот вооруженных людей, и каждую минуту, под барабанную дробь и гул набата, новые противники – ибо было очевидно, что в данный момент все эти люди могут сделаться противниками, – новые противники, повторяем, прибывали со всех сторон.
Господин де Дама построил гусар на другой стороне улицы и вошел в дом вместе с г-ном де Шуазёлем и г-ном де Гогела.
Минуту спустя, в то время как г-н де Шуазёль и г-н де Дама остались подле короля, г-н де Гогела вышел на улицу и громким голосом, так, чтобы его слышали одновременно гусары и народ, произнес:
– Господа, это задержаны король и королева.
Гусары восприняли новость довольно спокойно, но со стороны народа она была встречена криками, весьма напоминавшими гневные вопли.
Тем не менее г-н де Гогела попытался освободить дом от осады.
– Гусары! – крикнул он. – Сабли наголо!
Никто из гусар не пошевелился.
– Гусары! – снова крикнул г-н де Гогела. – Середины нет: вы за короля или за нацию?
– Да здравствует нация! – ответили гусары. – Мы стоим и всегда будем стоять за нее!
– Ну что ж, ладно, – произнес г-н де Гогела, надеясь выиграть таким образом время и рассчитывая, что в течение этого времени подойдет подкрепление, – да здравствует нация!
Однако народ не был обманут этой хитростью и с грозным ропотом приблизился к нему. Господин де Гогела почувствовал, что вот-вот разразится буря. Он бросился к дому, но, не успев переступить порога, был ранен выстрелом из пистолета.
Тем временем королевскую семью заставили подняться по винтовой лестнице на второй этаж дома.
Войдя в это новое помещение, у дверей которого стояли вооруженные вилами и ружьями люди, г-н де Гогела увидел дофина, спящего на смятой постели; телохранителей, сидящих на стульях; горничных, гувернантку, королевскую дочь и принцессу Елизавету, сидящих на лавках, и короля и королеву, стоя беседующих с г-ном Сосом.
На столе были хлеб и вино.
Время от времени дверь открывается и чьи-то любопытные взгляды, у кого-то умиленные, у кого-то пылающие, проникают в комнату.
– Ну что, сударь, – произносит король, обращаясь к Гогела, – когда мы уезжаем?
Вместо ответа г-н де Гогела показывает на залитую кровью сторону своего мундира.
– Так они применят силу, чтобы нас удержать? – спрашивает король, поворачиваясь к г-ну Сосу.
Бакалейщик явно намеревается ответить «да», как вдруг дверь распахивается и в комнату входит муниципальный совет в полном составе и в сопровождении офицеров национальной гвардии.
Члены советы приближаются к королю, сняв головные уборы, а некоторые из них еще на полдороге падают на колени.
– Государь, – восклицают они, – государь, во имя Господа, не оставляйте нас, не покидайте королевство!
– Это не входит в мои намерения, господа, – говорит король. – Я вовсе не покидаю Францию; однако оскорбления, которые наносят мне каждодневно, вынуждают меня покинуть Париж. Я еду в Монмеди; поезжайте со мной, распорядитесь только, чтобы мои кареты запрягли.
Члены совета вышли вместе с г-ном Сосом, и за ними последовали офицеры национальной гвардии.
Король, королева, трое телохранителей и трое офицеров остались одни.
То был один тех переломных моментов, какие решают участь королей и судьбу государств.
Офицеры проверили, закрыта ли дверь, и, убедившись в этом, подошли к королю.
– Государь, – промолвил г-н де Гогела, – теперь два часа ночи; толпа, которая окружает дом, смешанная, плохо вооруженная и плохо организованная. Хотите, я возьму десять лошадей у моих гусар? Вы все сядете верхом; вы, государь, повезете дофина, королева повезет принцессу; мост перегорожен, мне это известно, но я знаю место, где реку можно перейти вброд. Эти люди, какими бы сбитыми с толку они ни были, не посмеют стрелять в вас; возможно, мы убьем кого-нибудь из них, но, когда река останется позади, вы будете спасены.
Король ничего не ответил: такие крайние средства были не в его натуре.
Офицеры настаивали; телохранители стояли рядом с ними, и чувствовалось, что одна и та же мысль, исполненная самоотверженности, воодушевляет этих шестерых людей и охватывает их сердца.
– Королева! Королева! – прошептал король.
Ну да, в самом деле, прежде всего именно королеву должно было напугать такое рискованное предприятие, и потому у нее, женщины в высшей степени решительной, на сей раз недостало решительности.
– Я не хочу ничего брать на себя, – произнесла королева. – Это король решился на подобный шаг, и это королю надлежит приказывать; мой же долг состоит в том, чтобы следовать за ним; но в любом случае господин де Буйе обязательно скоро прибудет.
– Совершенно верно, – подхватил король. – А можете вы заверить меня, что в подобной схватке не убьют выстрелом из ружья королеву, мою сестру или моих детей? К тому же поразмыслим спокойно: муниципальный совет не отказывается меня пропустить; в худшем случае мы будем вынуждены дожидаться рассвета. Но еще до рассвета господина де Буйе непременно известят о том, в каком положении мы оказались; он находится в Стене, а до Стене восемь льё отсюда, всего два часа езды туда и два обратно; так что господин де Буйе непременно прибудет утром, и тогда мы уедем, избежав опасности и насилия.
Тем временем гусары братались с народом, чокаясь с собравшимися людьми и выпивая с ними из одной бутылки.
Было почти три часа утра.
Офицеры, которых король переадресовал к королеве, не смели более настаивать.
Как раз в этот момент вернулись члены муниципального совета, произнеся следующие страшные слова:
– Народ категорически против того, чтобы король снова отправлялся в путь, и решено послать в Париж курьера, дабы получить указания Национального собрания.
Вот так разрешилась тяжба между монархией и народом, и случилось это в маленьком провинциальном городке, в жалкой бакалейной лавке.
Указаниям Национального собрания предстояло взять верх над приказами короля.
Однако г-н де Гогела еще надеется; возможно, этот народ, от имени которого все говорят, менее взыскателен, чем это все утверждают; возможно, его гусары образумились: какое им дело до нации, разве они не немцы?
У этого молодого человека железное сердце; он один выходит на улицу и видит идущего навстречу ему Друэ.
– Вы намереваетесь похитить короля, – говорит ему тот, – но, клянусь вам, вы получите его только мертвого!
В двух противоположных лагерях нашлись два сердца равного закала.
Не ответив ни слова, Гогела садится на лошадь и подъезжает к королевской карете.
Карета стоит в окружении отряда национальной гвардии, которым командует какой-то майор.
– Не подходите, – кричит г-ну де Гогела майор, – иначе вам несдобровать!
Гогела вонзает шпоры в брюхо своей лошади и бросается к карете.
Раздается несколько выстрелов: две пули задевают его, и к его первой ране добавляются две новые.
К счастью, раны эти легкие; тем не менее одна из этих пуль, расплющившись о ключицу, заставляет его выпустить поводья из рук, после чего он теряет равновесие и падает с лошади; национальные гвардейцы полагают, что он убит, и расходятся. Гогела поднимается, бросает последний взгляд на своих гусар, которые стыдливо отворачивают глаза, и возвращается в комнату, где удерживают королевскую семью, но ни слова не говорит о только что предпринятой им попытке.
Зрелище, представшее ему в этой комнате, было удручающим: король выслушивал членов муниципального совета; королева, совершенно сломленная, сидела на скамеечке, стоявшей между двумя ящиками со свечами, и молила жену бакалейщика – она, высокомерная австриячка, надменная Мария Антуанетта!
Она молила.
– Вы ведь мать, сударыня, – говорила она ей, – не надо видеть во мне королеву, увидьте во мне женщину, увидьте мать, подумайте о том, как я должна тревожиться в этот час за моих детей, за моего мужа!
Но та, которую она молила, отвечала ей с обывательским и неприкрытым эгоизмом, с каким королеве довелось соприкоснуться впервые.
– Я хотела бы быть полезной вам, но, черт побери, если вы беспокоитесь за короля, то я должна беспокоиться за господина Соса. Всякая жена о своем муже печется.
И в самом деле, какая страшная вина лежала бы на бакалейщике из Варенна, если бы он позволил королю уехать.
Впрочем, даже если бы он захотел так поступить, было уже слишком поздно, и он уже не мог сделать этого.
Поднялась людская волна: на протяжении всей ночи народ беспрерывно прибывал и, словно океан, со зловещим гулом подступал к городским стенам.
Король словно обезумел.
Офицер, командовавший первым постом после Варенна, г-н Делон, примчался, услышав голос набата, и, выяснив, что происходит, добился разрешения пройти к королю. Он заявил Людовику XVI, что г-н де Буйе, вне всякого сомнения, придет ему на помощь, как только обо всем узнает. Однако король, казалось, не слышал его, и г-н Делон, трижды повторив одну и ту же фразу, так и не добился ответа. Наконец, проявляя настойчивость, он воскликнул:
– Государь, вы не слышите меня?! Я прошу ваше величество сказать, какие приказы мне следует передать господину де Буйе.
Король, с видом человека, очнувшегося от сна, встряхнул головой и посмотрел на г-на Делона.
– Я больше не даю приказов, сударь, – промолвил он, – я пленник. Скажите господину де Буйе, что я прошу его сделать для меня все возможное.
Тем временем настал рассвет; на улице слышались крики: «В Париж! В Париж!» Короля попросили показаться в окне, чтобы успокоить толпу.
Он подошел к окну, открыл его и показался людям. Все это он проделал машинально, как автомат, не рассуждая и не произнося ни слова.
Велико же было удивление этой толпы, когда она увидела, что король может быть бледным, толстым, бессловесным человеком с тусклыми глазами, в куцем паричке и лакейском сером сюртуке.
– О Боже! – восклицали все, отворачиваясь от этого зрелища.
И тут всех этих людей охватила жалость; из глаз у них потекли слезы, а сердца переполнило сострадание.
– Да здравствует король! – закричали они.
Король… Ну да, все еще король… Но королевская власть, куда делась она?
В доме г-на Соса жила его старая бабушка, женщина лет восьмидесяти, родившаяся в царствование Людовика XIV и верившая в Бога. Она вошла в комнату и, видя двух детей, спавших рядом на одной кровати, на семейной кровати, которая никогда не предназначалась для подобной печальной чести, упала, бедная старушка, на колени и, рыдая, попросила у королевы разрешения поцеловать руки этим невинным младенцам.
Да, это были невинные младенцы, которым предстояло – девочке своей жизнью, а мальчику своей смертью – понести суровую кару за вину своих родителей.
Старуха поцеловала руки спящим детям, благословила обоих и вышла вся в слезах, не в силах выносить подобного зрелища.
Королева, в отличие от детей, не спала.
Когда рассвело, принцесса Елизавета с удивлением посмотрела на нее. Половина прекрасных белокурых волос королевы были седыми.
Другой половине предстояло поседеть в Консьержери, в течение другой ночи, не менее страшной.
Тем временем какой-то курьер галопом мчится из Парижа по дороге на Варенн, от которого его отделяет уже не более двух льё.
Что он намерен делать и кто его послал?
Бросим взгляд на то, что происходило в Париже.
Одна из тех связанных с побегом короля подробностей, от которых щемит сердце, заключается в полнейшем безразличии, проявленном всей королевской семьей к тем, на кого ее бегство бросило тень и кто при этом остался в Париже. Был ли достойным такой поступок со стороны короля, которого называли, а кое-кто и теперь называет добрым королем Людовиком XVI?
Мы не говорим о Лафайете, ибо король воспринимал его как своего врага, своего гонителя, своего тюремщика. Так что обмануть Лафайета было приятным делом.
Тем не менее Лафайет, которого предупреждали со всех сторон, явился к королю и попросил его объясниться начистоту. Лафайет был республиканцем по своим убеждениям, но монархистом по своим чувствам. Если бы король во всем ему признался, то, полагаю, Лафайет скорее помог бы ему бежать, нежели воспрепятствовал бы его бегству.
Но Лафайет не знал о том, что готовилось, и было большой ошибкой, причем со стороны не только современников, но и истории, верить и утверждать, что он был причастен к этому побегу.
Его чересчур сильно ненавидела королева.
В тот день король говорил с ним настолько простодушно, что Лафайет ушел из дворца совершенно успокоенный.
Байи тоже предупредили, причем его предупредила та самая горничная, которая была любовницей г-на де Гувьона, однако Байи, вместо того чтобы поверить ее письменному доносу, проявил странную учтивость и отправил его королеве.
Тем не менее королева считала себя вправе обмануть и Байи, ведь он, подобно Лафайету, был одним из ее врагов.
Однако г-н де Монморен, этот милейший человек, легковерный, как если бы он не был придворным, простодушный, как если бы он не был министром, г-н де Монморен, который, отвечая на вопросы газетчиков и опасения депутатов, написал 1 июня Национальному собранию, что он удостоверяет, «беря на себя ответственность за сказанное и ручаясь своей головой и честью», что король никогда не думал покидать Францию, – уж он-то, признаться, вполне заслуживал того, чтобы его посвятили в планы побега.
Ну а как относиться к тому, что отнести в Национальную ассамблею декларацию, написанную им перед отъездом, король поручил несчастному Лапорту, своему личному другу? Лапорт подчинился, проявив необычайную выдержку и удивительное величие, но это доказывает, что Лапорт обладал храбростью, а вот Людовику XVI не было присуще сострадание.
XIV
Господина де Монморена извещают о бегстве короля. – Новость становится известна всему Парижу. – «Король сбежал!» – «Я честная девушка!» – Сантер. – Десятифранковый ассигнат. – Высказывание Фрерона. – Три пушечных выстрела. – Господин Ромёф. – Бегство превращено в похищение. – Национальное собрание. – Воззвание к народу. – Четыреста тысяч национальных гвардейцев. – Провозглашение политических истин. – Адъютант арестован и тотчас же освобожден.
Выше мы говорили о том, кого в Париже первыми известили о бегстве короля.
Утром 21 июня г-н Андре известил о случившемся г-на де Монморена, к которому в это же самое время явился Лапорт, интендант цивильного листа, имея при себе письмо для него и декларацию, адресованную Национальному собранию.
Около девяти часов утра новость о побеге, одновременно, кстати, со всем Парижем, узнал Лафайет.
В семь часов утра дворцовые слуги, войдя в покои короля и королевы, застали их спальни пустыми, а постели нетронутыми. Услышав удивленные крики слуг, прибежала дворцовая стража, и вскоре новость, ставшая известной внутри, вырвалась наружу.
Менее чем за час, подобно грозовой туче, она понеслась во все концы Франции и омрачила Париж.
Повсюду, от площади Карусель до городских застав, люди подходили друг к другу и произносили леденящие душу слова:
– А вы знаете? Король сбежал!
На Лафайета, отвечавшего за охрану дворца, тотчас же обрушились проклятия.
Наименее недоброжелательные обвиняли его в глупости.
Большинство винило его в предательстве.
Вскоре беспорядочная людская толпа двинулась к Тюильри и выломала двери королевских покоев.
По правде сказать, стражники, ошеломленные тем, что случилось, не оказали ей никакого сопротивления.
Как мы это уже видели дважды, народ вымещал свою злобу на живых людей, калеча неодушевленные предметы.
Со стены спальни сорвали портрет короля и повесили его у ворот дворца, как если бы устраивали распродажу старой мебели.
Какая-то торговка фруктами расположилась на кровати королевы и, словно с лотка, продавала там черешню.
На какую-то юную девушку хотели надеть чепчик Марии Антуанетты, но она растоптала его ногами, воскликнув:
– Я честная девушка!
Затем все ворвались в покои дофина, но не тронули их, как позднее не тронут покои герцога Орлеанского.
Нечто подобное происходило по всему Парижу.
Люди, всплывающие на поверхность общества лишь в такие страшные дни, снова появились на улицах, держа в руках пики и нацепив на голову шерстяные колпаки, которые позднее сменятся красными колпаками.
Один только Сантер, знаменитый пивовар из предместья Сент-Антуан, о котором ничего не было слышно со времени июльских мятежей, навербовал две тысячи таких пикейщиков.
Из торговых лавок вытаскивали портреты короля и разрывали их.
На Гревской площади сломали его бюст.
Клуб кордельеров потребовал, чтобы сан короля был навсегда упразднен и была провозглашена республика.
На стенах дворца Тюильри вывесили плакаты, в которых обещали десятифранковый ассигнат в качестве награды тем, кто приведет обратно грязных животных, сбежавших ночью из своего свинарника.
Наконец, Фрерон распорядился продавать среди уличных толп свою газету, где говорилось:
«Он сбежал, этот слабоумный король, этот король-клятвопреступник! Она сбежала, эта коварная королева, соединившая в себе похотливость Мессалины и кровожадность Медичи!»
И народ повторял эти слова и вместе с воздухом вдыхал атомы гнева, ненависти и презрения.
В десять часов утра три пушечных выстрела официально возвестили о бегстве короля.
Как только Лафайета извещают о случившемся, он понимает, что королевская власть во Франции навсегда погибнет, если возложить на короля всю ответственность за его побег.
Значит, король не бежал, а был похищен врагами общественного блага.
Именно так это событие и должно быть представлено Национальному собранию.
Ну а пока надо сделать вид, что за королем устроена погоня.
Лафайет вызывает г-на Ромёфа, своего адъютанта.
– Вероятно, – говорит он ему, – король направился по дороге на Валансьен. Поезжайте по этой дороге; он отъехал слишком далеко, чтобы вы могли его догнать, но необходимо сделать вид, что мы что-то предпринимаем.
Приказ, предъявителем которого стал г-н Ромёф, был составлен в следующих выражениях:
«Господину Ромёфу, моему адъютанту, поручено сообщать по всему его пути, что враги отчизны похитили короля, и предписывать всем друзьям общественного блага чинить препятствия проезду Его Величества. Ответственность за это распоряжение я беру на себя. ЛАФАЙЕТ».
Эти меры были приняты Лафайетом в присутствии неразлучного с ним Байи и виконта Александра де Богарне.
Затем они отправились в Национальное собрание.
И вот тогда Национальное собрание было официально уведомлено о том, что враги общественного блага похитили короля.
Тем временем Лафайет, который понимает, что остатки его популярности тают, не пытается убежать от опасности, а идет навстречу ей; он бросается в гущу разъяренного народа и, посреди криков, угроз и проклятий, добирается до Национального собрания, при том что ни один человек не осмеливается поднять на него руку.
Во Франции нет ничего благоразумнее, чем проявлять храбрость.
В Национальном собрании его поджидала другая буря.
При виде Лафайета один из депутатов поднимается и бросает ему в лицо обвинение.
Однако Барнав, личный враг Лафайета, прерывает этого депутата.
– Цель, которая должна нас занимать, – восклицает он, – состоит в том, чтобы вернуть народное доверие тому, кому оно принадлежит. Нам нужна централизованная сила, единая рука, чтобы действовать, ибо у нас есть только голова, чтобы думать. С самого начала революции господин де Лафайет выказывал взгляды и поступки доброго гражданина. Важно сохранить его влияние на нацию: Парижу нужна сила, но ему нужно и спокойствие. Эту силу, – добавляет он, поворачиваясь лицом к Лафайету, – направлять следует вам.
Так что Лафайет сохраняет свое звание главнокомандующего национальной гвардией, тогда как Национальное собрание берет в свои руки всю власть, присваивает себя диктаторские полномочия и объявляет, что будет заседать беспрерывно.
В этот момент в Собрание приносят письмо короля, оставленное им в руках г-на де Лапорта.
Председатель Национального собрания берет письмо из рук посланца и вслух зачитывает его среди угрюмого молчания.
Затем Национальное собрание дает приказ напечатать этот документ и отвечает на него следующим воззванием:
«ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ К ФРАНЦУЗАМ.
Содеяно великое преступление. Национальное собрание приближалось к завершению своих долгих трудов, работа по составлению конституции закончилась, революционные бури утихли, а в это время враги общественного блага захотели одним преступным ударом принести весь народ в жертву своей мстительности! Король и королевская семья были похищены в ночь с 20-го на 21-е число сего месяца.
Однако ваши представители одержат верх над этим препятствием; они отдают себе отчет в объеме возложенных на них обязанностей. Общественная свобода будет сохранена; заговорщики и рабы на себе познают бесстрашие основателей французской свободы, и перед лицом нации мы берем на себя торжественное обязательство отомстить за попрание законов, либо умереть!
Франция желает быть свободной, и она будет свободной; некие силы пытаются обратить революцию вспять, но революция вспять не обратится. Такова ваша воля, французы, и она будет исполнена.
Сейчас речь идет прежде всего о том, чтобы применять законы в том временном положении, в каком оказалось королевство. Король, согласно конституции, осуществляет королевские обязанности отклонять или одобрять указы законодательного органа; кроме того, он является главой исполнительной власти и, в этом последнем качестве, приводит законы в исполнение через посредство уполномоченных министров.
Если первый из государственных чиновников покидает свой пост или оказывается похищенным против своей воли, то представители нации, облеченные всеми полномочиями, необходимыми для спасения государства и деятельности правительства, имеют право заступить его место, постановив, что приложение государственной печати и подпись министра юстиции будут придавать указам характер и силу закона; Национальное учредительное собрание неоспоримо обладает таким правом. В отношении второго круга обязанностей короля найти временного исполнителя нисколько не труднее; в самом деле, поскольку ни один приказ короля не может быть исполнен, если он не скреплен подписями министров, которые остаются уполномоченными, то достаточно обычной декларации, временно предписывающей министрам действовать самостоятельно, под личную ответственность, не имея подписи короля.
Благодаря принятым мерам, обеспечившим дополнение законов и их исполнение, внутри королевства опасности нынешнего переломного момента устранены. Дабы противостоять нападениям извне, армии придано подкрепление в четыреста тысяч национальных гвардейцев.
Таким образом, безопасность внутри Франции и у ее границ обеспечена всеми средствами, если только граждане не будут поддаваться панике и сохранят спокойствие. Национальное учредительное собрание находится на своем посту; все власти, установленные конституцией, действуют; патриотизм граждан Парижа и его национальная гвардия, рвение коей выше всякой похвалы, бдят подле ваших представителей. Активные граждане всего королевства привлечены на военную службу, и Франция может спокойно дожидаться своих врагов.
Следует ли опасаться пагубных последствий письма, вырванного накануне отъезда у обманутого короля, в непростительность поступка которого мы поверим только в самом крайнем случае? С трудом постигаешь невежество и притязания тех, кто продиктовал это письмо. Впоследствии, если этого потребуют ваши интересы, мы обсудим его всеобъемлюще, однако представление о нем нам надлежит дать уже теперь.
Национальное собрание торжественно провозгласило политические истины; оно сформулировало, а точнее, восстановило священные права человеческого рода, в то время как это послание снова преподносит теорию рабства.
Французы! В этом послании вам напоминают о дне 23 июня 1789 года, когда глава исполнительной власти, первый из государственных чиновников, осмелился диктовать свою неограниченную волю вашим представителям, которым вы поручили создать новый основной закон королевства.
Авторы этого послания не боятся говорить об армии, угрожавшей в июле того же года Национальному собранию; они осмеливаются ставить себе в заслугу то, что были отложены прения ваших представителей!
Национальное собрание испытывает горесть по поводу событий 6 октября; оно дало приказ преследовать виновных, но, так как отыскать несколько бандитов в общей массе восставшего народа затруднительно, его упрекают в том, что оно оставило их ненаказанными! Однако при этом забывают рассказать об обидах, давших толчок к этим беспорядкам. Нация намного справедливее и намного великодушнее, она уже не упрекает короля за насилия, совершенные в его царствование и царствования его предков.
Вам осмеливаются напоминать о празднике Федерации 14 июля предыдущего года. Что же из него осталось в памяти авторов этого послания? То, что первый государственный чиновник стоял тогда не где-нибудь, а во главе представителей нации. Но, находясь среди всех депутатов, национальной гвардии и регулярных войск, он торжественно присягнул конституции, и вот теперь это забывают! Присяга его была добровольной, ибо король сам заявил, что „именно на празднике Федерации он провел самые трогательные минуты своего пребывания в Париже и с удовольствием обратил внимание на свидетельства преданности и любви, которые выказывали ему национальные гвардейцы всего королевства“. И если король не заявит однажды, что его насильно увезли с собой бунтовщики, его клятвопреступление откроется всему миру.
Есть ли нужда разбирать все прочие выставленные в этом письме упреки, столь мало обоснованные? Нам говорят, что народы созданы для королей и что единственным долгом последних является милосердие; что великая нация должна возрождаться без всяких смут, ни на минуту не нарушая забавы королей и их придворных! Да, определенные беспорядки сопутствовали революции, но следует ли прежнему деспотизму жаловаться на зло, совершенное по его же вине? Нужно ли удивляться тому, что народ не всегда соблюдает меру, разгребая горы гнили, накопившейся в течение многих веков вследствие преступлений самодержавной власти?
Со всех концов королевства приходят поздравительные обращения с изъявлениями благодарности; нам говорят, что это дело рук мятежников; да, несомненно, двадцати четырех миллионов мятежников!
Необходимо было перестроить все ветви власти, ибо все они находились в состоянии разложения и чудовищные долги, накопившиеся вследствие бездарности и разгильдяйства правительства, толкали нацию в бездну. Нас упрекают в том, что конституция не была подана на утверждение королю; но королевская власть установлена исключительно для народа, и если великим нациям надлежит ее поддерживать, то потому лишь, что она является защитой их благополучия. Конституция уступает ей свою прерогативу и свой подлинный дух. Ваши представители были бы преступниками, если бы они пожертвовали двадцатью четырьмя миллионами граждан ради интересов одного человека.








