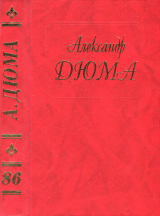
Текст книги "Драма девяносто третьего года. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Их вытаскивают из укрытия; как ни крепок их сон, им приходится пробудиться, объяснить свое присутствие под алтарем и оправдать свои намерения.
Они во всем признаются и говорят правду, но такая правда оскорбляет стыдливость дам из Гро-Кайу; по большей части это прачки, привыкшие орудовать вальками, и бьют они крепко; шалость эту они воспринимают серьезно. Тем временем какой-то любопытный, который в свой черед пробирается под алтарь Отечества, чтобы осмотреть его подполье, обнаруживает там бочонок с водой; он кричит, что это бочка с порохом и что злоумышленники намеревались разжечь там огонь и взорвать алтарь Отечества вместе с находящимися на нем патриотами; парикмахер и инвалид кричат изо всех сил, что в бочонке вода, а не порох. Было бы вполне естественно вышибить на глазах у всех днище бочонка и затем действовать в соответствии с тем, что он содержит; однако все сочли, что намного проще убить обоих несчастных, отрезать им головы и разгуливать с этими головами, нацепив их на пики.
События эти происходили в то самое время, когда с великой торжественностью оглашали указ Национальной ассамблеи, сохранявший короля на вершине исполнительной власти.
Национальная ассамблея была крайне заинтересована в том, чтобы устроить государственный переворот, направленный против якобинцев; поэтому, едва только ей стало известно об убийстве парикмахера и инвалида, она, раз уж ей как нельзя лучше поспособствовал случай, в свой черед помогает случаю.
– Господа, – заявляет председатель Национального собрания, – минуту назад нас заверили, что на Марсовом поле только что погибли два гражданина, два честных гражданина, погибли за то, что призвали взбунтовавшуюся толпу придерживаться закона; их немедленно повесили.
Этим председателем был Дюпор.
Дюпор, один из первых якобинцев, которого обогнали к этому времени другие якобинцы – Робеспьер, Бриссо, Сантер.
Реньо де Сен-Жан-д’Анжели подтверждает это известие и добавляет к нему подробности.
– Это были два национальных гвардейца, которые настаивали на исполнении закона, – говорит он. – Я требую введения закона военного времени; Национальному собранию следует объявить виновными в преступлении против нации тех, кто будет личными или коллективными писаниями побуждать народ к сопротивлению!
Под впечатлением этого ложного известия Национальное собрание тотчас же постановляет, что господин председатель и господин мэр, то есть Дюпор и Байи, должны удостовериться в правдивости фактов, дабы принять строгие меры, если будет установлено, что события происходили именно так.
Правдивость фактов не может быть удостоверена, ибо события происходили иначе, однако строгие меры приняты будут.
Робеспьер был в это время в Национальном собрании; он выходит оттуда и мчится предупредить якобинцев о том, что против них затевается. В Якобинском клубе он застает не более тридцати человек. На Марсово поле отправляют Сантера, с тем чтобы он забрал петицию.
Около полудня народ начинает приходить на Марсово поле; примерно в это же время туда является г-жа Ролан; люди застают там сильные военные отряды, вооруженные пушками; эти отряды и эти пушки находятся там в связи с утренними убийствами.
Поскольку вновь прибывшие не имели никакого отношения к убийцам из Гро-Кайу, их не тревожили ни эти пушки, ни эти отряды, которые, впрочем, около полудня, не зная, что им там делать, удалились, в то время как возле алтаря Отечества оставалось не более трехсот человек.
В числе этих трехсот человек оказались Робер и его жена, мадемуазель де Керальо (мы поговорим о ней, когда будем проводить обзор знаменитых женщин эпохи Революции); Брюн, будущий генерал, а в ту пору типографский рабочий; Эбер, Шометт и Вебер, камердинер королевы.
Несомненно, это Мария Антуанетта послала туда его, своего доверенного человека, чтобы получить от него отчет о том, что там будет происходить. Ей это было важно, для нее это был вопрос жизни или смерти.
Кроме того, там бесцельно бродили те страшные люди, те незнакомцы со зловещими лицами, которых можно увидеть лишь в дни революции и имена которых внезапно становятся известны, когда совершается какое-нибудь побоище.
Там находится карлик, исчезнувший после событий 6 октября, горбатый гном, который затем вернется в недра земли и которого накануне видели вышедшим оттуда: словно фантастическое видение, он верхом на коне проехал через весь Париж.
Этого карлика все уже знают: его зовут Верьер.
Там находится также Фурнье, прозванный Американцем, но не потому, что он родился по другую сторону океана (он родом из Оверни), а потому, что он был надсмотрщиком над неграми в Сан-Доминго, потом негоциантом, потом виноторговцем; к этому дню он разорен; он ходатайствует, составляет прошения, требует, однако Национальное собрание возвращает ему эти прошения, и, пребывая в болезненном и голодном раздражении, он убивает.
В этот день при нем на всякий случай оружие, и он не замедлит воспользоваться им.
В полдень по приказу Национального собрания, переданному Лафайету, прибывают первые отряды, которыми командует один из его адъютантов. Который из них? Его имя никто не называет. У Лафайета всегда столько адъютантов, что в них путаются.
Внезапно со стороны насыпи раздается выстрел, и адъютант получает ранение.
Спустя четверть часа прибывает Лафайет; он в свой черед пересекает Гро-Кайу. Под его начальством две или три сотни солдат и несколько пушек. Он застает упомянутых мною мерзавцев за возведением баррикады, атакует ее вместе со своими солдатами и разрушает. Сквозь колеса повозки Фурнье в упор стреляет в Лафайета, но ружье дает осечку.
В то же мгновение Фурнье хватают, однако Лафайет отпускает его. Если бы Лафайет немедленно расстрелял его, он оказал бы этим большую услугу человечеству.
Затем он направляется к алтарю Отечества.
Как раз в это время посланец якобинцев заявил патриотам, что петиция, оглашенная накануне, не может быть подписана; что, когда эта петиция составлялась, все предполагали, что Национальное собрание еще не вынесло постановления о судьбе короля, и что теперь, поскольку Национальное собрание на своем вечернем субботнем заседании приняло решение о его невиновности и неприкосновенности, якобинцы намереваются составить новую редакцию петиции, которая и будет представлена для подписания.
И тогда Робер предлагает составить новую редакцию петиции немедленно и тотчас же подписать ее на алтаре Отечества.
Предложение единодушно, под одобрительные возгласы принимают. Именно этой редакцией петиции все занимаются в то время, когда Лафайет захватывает с бою баррикаду, а заканчивают составлять новую редакцию в ту минуту, когда Лафайет приходит и убеждается, что у алтаря Отечества царит полное спокойствие.
Все подписывают петицию, и никогда еще столь важное дело не совершалось в более спокойной обстановке. Эта петиция, вместе со всеми собранными подписями, хранится в архиве департамента Сены.
Прюдом приводит ее полностью в своем рассказе о событиях того дня. Мишле полагает, что она была написана Робером, чье имя стоит под ней, а продиктована его женой.
Между тем, хотя ружье Фурнье Американца дало осечку, звук его выстрела наделал много шуму в Национальном собрании.
Председатель Национального собрания спешно отправляет в Ратушу посланца с сообщением, что на поле Федерации происходит побоище.
Мэр решает послать на Марсово поле трех муниципальных чиновников с многочисленным эскортом из национальных гвардейцев, чтобы уговорить собравшиеся там толпы разойтись.
Этими тремя городскими чиновниками были господа Жан Жак Леру, Реньо и Арди.
Было два часа пополудни, когда они прибыли на Марсово поле.
XVIII
Краткая речь муниципальных чиновников. – Двенадцать уполномоченных. – Кавалер ордена Святого Людовика. – Байи. – Красный флаг. – «На Марсово поле!» – Петицию продолжают подписывать. – Живая пирамида. – Барабанный бой. – Двенадцать тысяч кавалеров ордена Святого Людовика. – Ружейный выстрел. – Драгунский полк. – Третий залп. – Канониры. – Безмерная скорбь. – Господин Прован. – Твердость королевы. – Малодушие якобинцев. – Госпожа Ролан. – Робеспьер.
Те, кто ставит свою подпись под петицией, с высоты алтаря Отечества, господствующего над Марсовым полем, видят довольно многочисленную процессию и посылают навстречу ей депутацию.
Муниципальные чиновники втроем направляются прямо к алтарю; однако они видят не растерянную и возбужденную толпу, а добропорядочных граждан, чинно подходящих к нему вместе со своими женам и детьми. Граждане эти принадлежат преимущественно к верхушке буржуазии; тихо, без всякого шума, они ставят свою подпись, но не на самой петиции, а на отдельных листах бумаги. Таких листов сохранилось пятьдесят, и все они испещрены подписями. Представители муниципалитета просят ознакомить их с петицией, и им читают ее вслух.
– Господа, – говорят они после этого чтения, – мы очень рады, что узнали ваши намерения; нам сказали, что здесь происходят беспорядки, но это была ошибка; петиция носит такой характер, как если бы мы составили ее сами; мы подписали бы ее, если бы не были облечены сейчас официальными полномочиями. Мы дадим отчет о том, что здесь увидели, расскажем о спокойствии, царящем на Марсовом поле, и мало того что не будем препятствовать подписанию вашей петиции, но и окажем вам помощь силами правопорядка, если кто-нибудь попытается потревожить вас; если же вы сомневаетесь в наших намерениях, мы готовы остаться у вас в качестве заложников до тех пор, пока не будут поставлены все подписи.
Разве можно не доверять подобным людям! И потому с ними не только обращаются по-братски, но и дают им поручение.
Дело в том, что двое граждан были арестованы по время стычки, вспыхнувшей между ними и адъютантом Лафайета; собравшиеся растолковывают муниципальным чиновникам, что задержанные совершенно невиновны в том, в чем их обвиняют, сто человек ручаются за них, и потому они должны быть отпущены на свободу.
– Ну что ж, – отвечают муниципальные чиновники, – назначьте уполномоченных, они пойдут вместе с нами в Ратушу, и справедливость будет восстановлена.
Назначают двенадцать уполномоченных, и вместе с муниципальными чиновниками они отправляются в Ратушу.
Но это еще не все: уходя, чиновники обещают, что войска будут отведены; и в самом деле, они выполняют свое обещание, и Марсово поле во второй раз становится свободным от войск.
Национальное собрание узнает обо всех этих событиях по мере того, как они происходят. Однако это совсем не то, что ему нужно. К концу дня под петицией поставят подпись пятьдесят тысяч человек, и станет очевидно, что его умонастроение расходится с умонастроением народа. Депутаты посылают Байи одно письмо за другим.
Совершенно необходимо, чтобы те, кто подписывает петицию на Марсовом поле, могли считаться мятежниками; но главное, необходимо, чтобы сама эта петиция куда-нибудь исчезла.
Вот почему, придя вместе с тремя муниципальными чиновниками к Ратуше, уполномоченные с Марсова поля застают ее окруженной целым лесом штыков.
Трое муниципальных чиновников просят уполномоченных подождать несколько минут и входят в Ратушу, однако больше не появляются.
В этот момент из дверей Ратуши выходят члены муниципалитета в полном составе. И тогда один из уполномоченных, кавалер ордена Святого Людовика, носивший свой орденский крест с трехцветной лентой вместо положенной красной, обращается к Байи и излагает ему цель своей миссии.
Байи смертельно бледен; ему присуще умение безошибочно отличать справедливость от несправедливости, и он понимает, что его втянули в скверное дело.
Тем не менее он держится твердо.
– Господа, – заявляет он, – да, вы обещали свободу арестованным; но у меня нет времени разбираться со всеми этими обещаниями. Я иду на поле Федерации, чтобы навести там порядок.
– Навести там порядок?! – восклицает кавалер ордена Святого Людовика. – Но на Марсовом поле все спокойно, куда спокойнее, чем здесь.
Его прерывает один из членов муниципалитета.
– А что это у вас за крест? – говорит он ему. – И объясните, сделайте одолжение, к какому ордену относится лента, на которой он висит.
– Этот крест, сударь, – отвечает офицер, – крест ордена Святого Людовика. Что же касается ленты, на которой он висит, то это трехцветная лента; меня украсили этим крестом, а я украсил его лентой национальных цветов. Если вы сомневаетесь в моем праве носить этот крест, обратитесь к исполнительной власти, и вы поймете, заслужил ли я это право.
– Довольно, – прервал их диалог Байи, – я знаю этого господина, это честный гражданин, и потому я прошу его, равно как и тех, кто его сопровождает, удалиться.
Тем временем к Байи пробивается капитан одного из отрядов батальона Бон-Нувель.
– Господин мэр, – кричит он, – не верьте тому, что вам скажут о мнимом спокойствии на Марсовом поле: Марсово поле заполнено бандитами!
– Ну вот, господа, вы же сами видите, – говорит мэр, обращаясь к уполномоченным.
Затем, повернувшись к тем, кто его сопровождает, он произносит:
– Идемте!
Уполномоченных оттесняют к Ратуше, в одном из окон которой они видят развевающийся красный флаг – сигнал, дающий горожанам знать, что они находятся под действием закона военного времени.
В эту минуту из Национального собрания поступает последнее сообщение, и в толпах на Гревской площади распространяется известие о том, что на Марсовом поле собрались пятьдесят тысяч бандитов и они намереваются идти на Национальное собрание.
И тогда все находившиеся на Гревской площади солдаты наемной гвардии, то есть люди, преданные Байи и Лафайету, неистовыми воплями приветствуют красный флаг и кричат:
– На Марсово поле! На Марсово поле!
И уже не Байи, несчастный астроном, кабинетный ученый, руководит всей этой вооруженной людской толпой, это она тянет его за собой; в день взятия Бастилии, в день, когда его назначили мэром, когда Юлен, тот самый, кто командует сегодня наемной гвардией, сопровождал его в собор Парижской Богоматери, он в первый раз с мрачным предчувствием произнес:
– Не похож ли я на пленника, которого ведут на казнь?
На этот раз сходство было еще более разительным.
На этот раз его действительно вели на казнь, и день 17 июля станет его концом.
– Этот день будет подсыпать вам медленный яд до последнего дня вашей жизни, – сказал ему назавтра один из журналистов того времени.
Между тем, в ожидании возвращения уполномоченных, на Марсовом поле продолжают подписывать петицию; но, по мере того как день подходит к концу, желающих сделать это становится все больше; это уже не триста человек и не тысяча, это двадцать тысяч человек, которые прогуливаются по Марсову полю и наперегонки ставят свою подпись, обступив с четырех сторон алтарь Отечества, в то время как вокруг него все водят хороводы и поют.
У этих песен и этих танцев нет недостатка ни в слушателях, ни в зрителях.
Четыре угла алтаря Отечества представляли собой четыре огромные глыбы, связанные между собой лестницами, настолько широкими, что четыре батальона могли бы одновременно подняться наверх, каждый с одной из его сторон.
Все эти лестницы были заполнены любопытными, которым каждая ступень обеспечивала от сорока до пятидесяти сидячих мест.
Так что издалека алтарь Отечества напоминал одушевленную гору, живую пирамиду, мирную Вавилонскую башню.
Внезапно раздается барабанный бой; это национальные гвардейцы из Сент-Антуанского предместья и Маре вступают на Марсово поле через Гро-Кайу и строятся в ряд напротив холмов Шайо, имея за спиной здание Военной школы.
Им придан батальон наемной гвардии. И в самом деле, национальные гвардейцы из Сент-Антуанского предместья и Маре не очень надежны – с точки зрения Лафайета и Байи, разумеется.
Почти одновременно на Марсово поле вступает вся наемная гвардия целиком; она направляется к его центру и выстраивается в двухстах шагах от алтаря Отечества.
В наемной гвардии обращает на себя внимание одно обстоятельство: офицеров в ней больше, чем солдат.
Офицеры эти почти все дворяне или кавалеры ордена Святого Людовика.
«В Париже находятся двенадцать тысяч кавалеров ордена Святого Людовика», – говорит одна из газет.
«За два года в кавалеры ордена Святого Людовика произвели тридцать тысяч человек», – говорит другая.
Как всегда, это преувеличение; будем считать, что их было вдвое меньше, как это делал г-н де Лонгвиль в отношении любовников своей жены.
Третий отряд вступил на Марсово поле, перейдя деревянный мост, располагавшийся там, где теперь находится Йенский мост; этот отряд сопровождал мэра и нес красный флаг.
Поскольку закон требует, чтобы применению силы предшествовало предупреждение, Байи делает шаг вперед; однако при первых же произнесенных им словах уличные мальчишки обрушивают на него град камней и одновременно раздается ружейный выстрел, который ранит драгуна, стоящего в десяти шагах от Байи.
Кто произвел этот выстрел? Несомненно, Фурнье Американец; на этот раз его ружье не дало осечки.
На этот ружейный выстрел национальная гвардия отвечает залпом холостыми патронами, который никого не убивает и не ранит.
Несмотря на этот залп, никто не тронулся с места: положенные три предупреждения еще не были сделаны. Тех, кто сидел на ступенях алтаря Отечества, в особенности ничуть не озаботил прозвучавший залп, и они ждали дальнейшего развития событий.
В этот момент на Марсово поле хлынула кавалерия: драгунский полк – а драгуны были рьяными роялистами – так вот, драгунский полк вскачь бросился в атаку, выставив вперед обнаженные сабли.
Тотчас же вся собравшаяся на поле толпа закрутилась на месте, словно облако пыли. Со всех сторон находились войска: не зная, куда бежать, толпа ринулась к алтарю Отечества.
Люди воспринимали этот алтарь как неприкосновенное убежище, еще более священное, чем алтарь богов во времена античности и алтарь Божий в средние века.
Всего за три дня до этого там служили мессу.
Раздался второй залп, но, как и при первом залпе, никто не упал.
Внезапно прозвучал третий залп; его произвела наемная гвардия. В то же мгновение слышится ужасающий крик, сложившийся из десяти тысяч людских криков; все, кто был у алтаря Отечества, срываются с места, словно стая птиц; однако тридцать или сорок мертвых тел остаются лежать у алтаря, в то время как остальные люди пытаются бежать – кто быстро, кто медленно, в зависимости от тяжести полученных им ранений, в зависимости от оставшихся у него сил.
Нет ничего более заразительного, чем шум, пламя и дым; канониры, видя, что происходит, и, несомненно, не понимая, что они делают, подносят фитили к пушкам и стреляют картечью в середину этой обезумевшей от ужаса толпы.
Лафайет, пытаясь остановить их, верхом на коне бросается к жерлам пушек.
Большинство беглецов так и не успели увидеть ни явившихся на Марсово поле членов муниципалитета, ни принесенного ими красного флага.
Все мы были свидетелями памятных событий 23 февраля; так вот, во многом они походили на то, что произошло тогда на Марсовом поле, будучи столь же неожиданными, столь же смертоносными и столь же страшными.
Однако итог их был совсем другой.
В обоих случаях были убиты тридцать или сорок граждан; однако в феврале, вместо того чтобы укрепить монархическую партию, этот расстрел убил ее.
Июльская монархия поскользнулась на крови, пролитой на бульваре Капуцинок.
Кто приказал стрелять пулями? Этого так никто никогда и не узнал; приказ этот не прозвучал ни из уст Лафайета, ни из уст Байи, хотя только они имели право отдать его: один как главнокомандующий национальной гвардией, другой – как мэр.
Всеобщая скорбь была безмерной; в течение трех дней настоящий саван покрывал Париж.
Национальный гвардеец из батальона Сен-Никола, г-н Прован, пустил себе пулю в лоб, сказав: «Я поклялся умереть свободным; свобода погибла, и я умираю!»
Страшный расстрел эхом отдался во всех сердцах, но самым угрожающим образом это эхо прозвучало в Тюильри и в Якобинском клубе.
Королева едва не упала в обморок; она ощутила удар, исходивший от ее друзей; уже давно они подталкивали ее к пропасти.
Тем не менее она не сделала ничего, недостойного ее.
Якобинцы проявили меньше твердости, чем королева: они отреклись от приписываемых им печатных брошюр, назвав их лживыми и подложными, и заявили, что снова клянутся в верности конституции и послушанию указам Национального собрания.
Впрочем, им было чего опасаться: через час после расстрела на Марсовом поле, возвращаясь по улице Сент-Оноре, наемная гвардия остановилась перед монастырем, где они проводили свои заседания, и начала выкрикивать угрозы в их адрес.
– Пусть только нам дадут приказ, – вопили они, – и мы пушками распотрошим это логово!
Внутри монастыря все это слышали; там царила жгучая тревога, и один из якобинцев был настолько испуган, что попытался бежать через галерею, предназначенную для женщин.
Там находилась г-жа Ролан; услышав ее голос, он устыдился своей трусости и спустился в зал заседаний.
Тем не менее все эти угрозы не получили никакого продолжения; ворота монастыря были закрыты, чтобы помешать войти в него тем, кто находился снаружи, но те, кто находился внутри, могли беспрепятственно выйти из него.
Там был и Робеспьер; он вышел оттуда вместе с другими; однако ему угрожала более сильная опасность, чем другим, ибо его уже называли вождем якобинцев.
XIX
«Да здравствует Робеспьер!» – Опасный друг. – Столяр Дюпле. – Руаю и Сюло. – Государственный переворот не приносит пользы. – Якобинцы. – Робеспьер на трибуне. – Намеки в его речах. – Барнав. – Королева. – Завершение работы Учредительного собрания. – Конституция принята 13 сентября. – Король в Учредительном собрании. – Его возвращение с заседания. – Сцены в покоях Тюильри. – Временные залы заседаний. – Статьи конституции. – Присяга. – Законодательное собрание. – Итоги работы Учредительного собрания.
Вместо того чтобы направиться к Маре, где он жил, Робеспьер двинулся к предместью Сент-Оноре, где жил Петион; несомненно, он намеревался попросить у Петиона приюта, однако на улице его узнали.
– Да здравствует Робеспьер! – кричали кучки людей.
Разумеется, в эту минуту Робеспьер мало дорожил тем восторгом, какой он вызывал, и удовольствовался бы меньшей популярностью, однако ему приходилось сносить любовь, которую питал к нему народ.
Какой-то человек крикнул:
– Если Франции непременно нужен король, то почему бы не сделать им Робеспьера, ведь он не хуже любого другого?!
Если бы Робеспьеру встретились еще два или три подобных друга, он не добрался бы даже до ворот Сент-Оноре.
К счастью, рядом оказалась открытой мастерская какого-то столяра, а сам столяр стоял на ее пороге; это был рьяный патриот; как ни велика была опасность, которой он подвергался, спасая Робеспьера, столяр решил рискнуть; он схватил его за руку и потянул в свой дом.
– Ну вот, госпожа Дюпле, – произнес он, обращаясь к своей жене, – я доверяю его тебе, позаботься о нем хорошенько, ну а я останусь на пороге, и, пока я жив, никто сюда не пройдет, ручаюсь тебе за это.
Госпожа Дюпле, страстная поклонница Робеспьера, в свой черед завладела им и увлекла его в заднюю комнату мастерской, где он сделался ее пленником.
Начиная с этого времени Робеспьер стал своим человеком в доме, и его считали членом семьи, состоявшей из мужа, жены и двух юных дочерей.
Однако якобинцы напрасно опасались своих врагов, считая их более смелыми и способными на зло, чем те были в действительности. Пролитая конституционалистами кровь, которую им невозможно было с себя смыть, ставила их в весьма затруднительное положение; они искали всюду заговорщиков, но не находили их; измышляли заговоры, но не могли предъявить доказательств их существования; предлагали закрыть политические клубы, но не осмеливались сделать этого.
В итоге они ограничились тем, что проголосовали за указ, позволявший приговорить к трем годам каторжных работ любого, кто недвусмысленно подстрекал бы к убийству, и к тюремному заключению тех, кто писаниями или иначе, но также недвусмысленно подстрекал бы к неповиновению законам.
Вместо того чтобы разрешить следственному комитету провести дознание, дело передали в суд; были предъявлены обвинения двум журналистам и двум газетам: Руаю, издателю газеты «Друг короля», и Сюло, издателю газеты «Деяния апостолов»; лишь 20 июля был объявлен в розыск Фрерон, лишь 4 августа был наложен арест на типографию Марата и лишь 9 августа был отдан приказ об аресте Сантера, Дантона, Лежандра, Брюна и Моморо.
«Восемнадцатого июля, – говорит г-жа Ролан, – Робер, писавший петицию, и его жена, диктовавшая ее, пересекли весь Париж, чтобы отобедать у меня: муж был в небесноголубом сюртуке, а жена – в шляпе с огромными перьями».
В очередной раз произошло то, что всегда происходит в подобных обстоятельствах, когда у победителей не хватает мужества воспользоваться плодами государственного переворота, устроить который мужества у них хватило: якобинцы, считавшие себя погибшими, мало-помалу перевели дух, а затем подняли голову; на короткое время подавленные в Париже, они невероятным образом усилились в провинции. В июле в провинции насчитывалось четыреста политических обществ; из этих четырехсот обществ триста были связаны как с фельянами, так и с якобинцами, а сто поддерживали связь только с якобинцами.
С июля по сентябрь возникло еще шестьсот обществ, и ни одно из них вступало в отношения с фельянами.
Якобинское общество в Париже, не до конца растоптанное Ламетом и Дюпором, восстановилось, по правде говоря, под влиянием Робеспьера, и Робеспьер начал быть самым популярным человеком во Франции.
К тому же, проживая у столяра Дюпле, он находится напротив церкви Успения Богородицы и, подобно солдату, постоянно стоящему на своем посту, наблюдает одновременно за Национальным собранием, фельянами и якобинцами.
Наконец, пока республиканский клуб восстанавливается, чтобы внезапно появиться еще более сильным, чем прежде, и ежедневно добавляет очередной лучик сияния растущей популярности Робеспьера, наступает 1 сентября: проверка конституции завершена, труд Национального собрания закончен.
Робеспьер с нетерпением ждал этого последнего заседания Национального собрания; он знал, что победа всегда за тем, кто наносит последний удар; подобно Давиду, он давно размахивал своей пращой, давно выбрал камень и давно наметил цель.
Речь шла о том, чтобы одним ударом уничтожить Барнава, Дюпора и Ламета.
Наконец наступает благоприятный момент, приходит долгожданный час, и Робеспьер поднимается на трибуну.
– Вот мы и подошли к завершению нашего долгого и трудного пути! – произносит он. – Нам остается исполнить лишь один долг перед нашей страной: обеспечить на долгие годы устойчивость конституции, которую мы ей предлагаем. Почему нам говорят о том, что судьбу конституции необходимо поставить в зависимость от одобрения ее со стороны короля? Участь конституции независима от воли Людовика Шестнадцатого. У меня нет сомнений в том, что он примет ее с радостью: престол в качестве наследственного достояния, все полномочия исполнительной власти, сорок миллионов ливров на его личные удовольствия – вот что мы ему предлагаем. Не станем дожидаться, чтобы предложить ему это, той минуты, когда он окажется вдали от столицы и со всех сторон будет выслушивать пагубные советы; предложим ему это в Париже, скажем ему: «Вот самый могущественный трон в мире; вы хотите принять его?»… Эти подозрительные сборища, этот замысел снять войска с границ, разоружить граждан, посеять повсюду смуту и раздор, угрозы внешних врагов, происки внутренних врагов – все это служит предупреждением и понуждает поторопиться с установлением порядка, который ободрит граждан и укрепит их. Если продолжают обсуждать, в то время как надо присягать; если полагают возможным опять нападать на нашу конституцию, дважды оспорив ее перед этим, – что нам остается делать? Либо снова взяться за оружие, либо снова надеть на себя оковы. (Аплодисменты на балконах, волнение на левом крыле, в остальной части зала глухой шум.) Господин председатель, – продолжает Робеспьер, – прошу вас сказать господину Дюпору, что не следует оскорблять меня.
Дюпор не произнес ни слова, однако Робеспьеру нужно было метнуть этот камень, который он со свистом раскручивал вокруг своей головы. Устремив взгляд на Дюпора, он возобновил прерванную речь:
– Я не допускаю мысли, что в данном собрании имеется человек, достаточно подлый для того, чтобы пойти на уступки королевскому двору в отношении какой-либо статьи нашей конституции, достаточно вероломный для того, чтобы через посредство двора предложить внести в нее новые изменения, которые стыд не позволяет ему предложить лично (все проследили за направлением глаз Робеспьера), достаточно враждебный к отечеству для того, чтобы опорочить конституцию, ибо она ставит границы его корыстолюбию (бешеные аплодисменты), достаточно циничный для того, чтобы признаться, что он искал в Революции лишь возможность возвыситься. Нет, – прибавил он, поочередно взглянув на Барнава и Ламета, как перед этим взглянул на Дюпора, – нет, мы были посланы сюда для того, чтобы защищать права нации, а не для того, чтобы увеличивать богатство нескольких отдельных людей, не для того, чтобы потворствовать союзу интриганов с королевским двором и своими руками обеспечивать им награду за их услужливость и предательство.
Каждое слово этой речи было каплей расплавленного свинца, падавшей на головы триумвиров.
В особенности Барнава.
Несчастный Барнав, он и в самом деле вполне серьезно хотел спасти королеву!
Он виделся с ней время от времени, ночью, в течение нескольких минут. Доверенная горничная королевы ждала его, придерживая ручку приоткрытой двери. Он входил через антресоли. Однажды королева подумала, что Барнав, возможно, не сочтет себя обязанным соблюдать тайну, которой он владел совместно с горничной, и тогда она сама, королева Франции, гордая Мария Антуанетта, стала ждать у двери Барнава, которому, увы, вскоре предстояло оказаться столь же бессильным, как и она сама! Барнава, популярность которого Робеспьеру предстояло окончательно уничтожить на последнем заседании Национального собрания.
Национальное собрание почило, как и всякое законодательное собрание, жалким образом борясь со смертью; все вокруг желали, чтобы с ним было покончено, и можно полагать, что, несмотря на инстинктивный ужас, который все живое испытывает перед небытием, оно и само желало этого.
Дело в том, что это великое законодательное собрание, принявшее три тысячи законов, инстинктивно осознавало, что, упав в глазах современников, оно будет высоко оценено потомством.
Однако оно завершило свои труды, и ему предстояло уступить место Законодательному собранию, породившему позднее Конвент: чтобы бороться против великого заговора королей и священников, требовался сговор разрушителей культа и цареубийц, то есть якобинцев.








