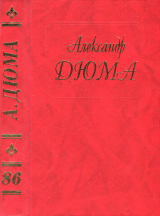
Текст книги "Драма девяносто третьего года. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Тем не менее при звуке голоса Лафайета краснобаи замолкают, и те, кто вышел из строя, возвращаются на свое место.
Но Лафайет может действовать исключительно на основании приказа мэра, а мэр, по-видимому, придерживается мнения, что народ имеет право разрушать донжон.
И тогда, подойдя к градоначальнику, Лафайет говорит ему:
– Сударь, я явился сюда в качестве командующего национальной гвардией для того, чтобы получить ваши приказы, и я подчинюсь им, однако предупреждаю вас, что если вам недостанет твердости и вы не заставите уважать закон, завтра же я доложу о вашем поведении Национальному собранию.
Поскольку слова эти были вполне ясными, мэр отдал приказ прекратить разрушение донжона и арестовать разрушителей.
Генерал тотчас же приказывает кавалеристам оголить сабли и вступить во дворы крепости.
Народ кричит: «Долой сабли!»
Некоторые кавалеристы вкладывают сабли в ножны, но остальные клянутся не делать этого, пока сабли не послужат, и нападают на толпу, которая в течение нескольких минут рассеивается.
Шестьдесят человек из числа разрушителей оказываются в руках национальной гвардии.
Остальные разбегаются и, возвратившись в предместье Сент-Антуан, пытаются взбунтовать его под предлогом освобождения арестованных.
Но, поскольку поднявшийся бунт был спровоцированным и, следовательно, не имел глубоких корней в населении, в нем приняло участие ровно столько людей, чтобы можно было сказать Лафайету, что пересечь предместье, конвоируя арестованных, для него небезопасно.
Это стало причиной того, что генерал решил проследовать с одного конца предместья в другой; он сформировал мощную колонну, в ее центре поместил арестованных, а вперед пустил вооруженный пушкой авангард.
Как Лафайет и предвидел, серьезного сопротивления на своем пути он не встретил. Пострадали лишь два человека, отдалившиеся от строя: один был ранен выстрелом из пистолета, а другой получил три ушиба от брошенных в него камней.
Сохраняя тот же боевой порядок, колонна дошла до Ратуши, а затем до Консьержери, куда и поместили арестованных.
Победоносный Лафайет, наполовину освистанный, наполовину осыпанный рукоплесканиями, как это всегда происходит с неустойчивой популярностью, был далек от догадки, что его одурачили посредством ложной атаки, однако по возвращении в Тюильри застал дворец в полной растерянности.
Около трех часов пополудни дворец непонятным образом заполнился какими-то незнакомыми людьми; без ведома национальной гвардии эти люди вошли туда через дверь, которую открыл им г-н де Вилькье, первый дворянин королевских покоев.
По слухам, их было около шестисот и каждый из них был вооружен тростью с вкладной шпагой или кинжалом.
Однако г-н де Гувьон, адъютант генерала, уже принял меры предосторожности: он поднялся к королю, чтобы доложить ему о том, что произошло.
Король сделал вид, что ему ничего неизвестно о случившемся, и поинтересовался, чего хотят эти сотни людей.
Господин де Вилькье ответил королю, что дворянство, обеспокоенное событиями в Венсене, поспешило отправиться в Тюильри, дабы, в случае надобности, защитить его величество.
Услышав такой ответ, король осудил неразумное рвение этих господ и заявил, что полагает себя в полной безопасности под охраной национальной гвардии.
Национальная гвардия, обрадованная этим заявлением короля, начала с того, что захватила все выходы из дворца, а затем приступила к разоружению проникших туда людей.
Лафайет прибыл в Тюильри как раз в то время, когда национальные гвардейцы были заняты этой работой. Среди заговорщиков Лафайет узнал г-на д'Агу, г-на д'Эпремениля, г-на де Совиньи, г-на де Фонбеля, г-на де Ла Бурдонне, г-на де Лиллера, г-на де Фанже и г-на де Данвиля, что не оставило у него никаких сомнений по поводу их замысла. Впрочем, ни один из них не оказал сопротивления; все шпаги и кинжалы были положены на ковер, после чего заговорщиков отпустили на свободу.
Однако следовало наказать кого-нибудь в назидание другим, и, не имея возможности упрекнуть короля, г-н де Лафайет решил сделать выговор г-ну де Вилькье; он направился прямо к нему и с тем присущим исключительно ему видом, какой уже известен читателю, произнес:
– Я нахожу весьма странным, сударь, что, договорившись с господином де Гувьоном о том, что вы не будете впускать в королевские покои никого, кроме слуг, вы заполняете эти покои вооруженными людьми, не имеющими никакого отношения к национальной гвардии. Если это добропорядочные граждане, то почему они не надели мундир, чтобы иметь честь служить вместе с нами? Если же они таковыми не являются, то я не потерплю их присутствия здесь. Я отвечаю перед нацией за безопасность короля и не считаю, что он находится в безопасности, пока у меня на глазах его будут окружать люди такого рода.
– Но, генерал, – запинаясь, произнес г-н де Вилькье, – уверяю вас, что эти люди заслуживают полного доверия.
– Возможно, они заслуживают вашего доверия, – ответил Лафайет, – но в любом случае не могут рассчитывать на мое. Впрочем, сударь, – продолжал генерал, – хорошенько подумайте о том, что произошло, и, если по вашей вине нечто подобное случится в будущем, я заявлю Национальному собранию, что не ручаюсь более за безопасность короля.
– И все же, сударь, – попытался возразить г-н де Вилькье, – поскольку первый дворянин королевских покоев ответственен…
– Ответственен?! – прервал его Лафайет. – Но, любезный сударь, если с королем что-нибудь случится, нация будет винить за это не вас, ибо она даже не знает о вашем существовании. В любом случае, если те, кто служит в дворцовых покоях, ответственны за жизнь короля, то надо выгнать вас и всех аристократов и поставить на ваше место друзей свободы и Революции.
На другой день генерал обнародовал следующее распоряжение:
«Главнокомандующий полагает своим долгом уведомить парижскую армию о том, что он получил от короля приказ, запрещающий впредь впускать в дворцовые покои людей, которые осмелились вчера встать между королем и национальной гвардией, при том что кое-кто из них, несомненно, был проникнут искренним рвением, но большая часть – рвением крайне подозрительным.
Главнокомандующий, в соответствии с приказом короля, предписал лицам, руководящим дворцовыми слугами, принять меры к тому, чтобы не допускать впредь подобное неприличие.
Конституционный король должен и желает быть окруженным исключительно солдатами свободы.
Тех, у кого в руках окажется оружие, которое было отнято у людей, пробравшихся вчера во дворец, просят принести его в Ратушу прокурору-синдику Коммуны».
Этот заговор наделал много шума, куда больше, несомненно, чем он того заслуживал, и получил название заговора рыцарей кинжала, поскольку, как уверяют, под полами одежды у всех заговорщиков были обнаружены кинжалы сходной формы.
Прюдом в своей книге о Революции приводит рисунок этого оружия с помещенной на нем надписью.
Национальное собрание было занято дискуссией по поводу закона об эмиграции, когда раздался сигнал сбора. Однако это было настолько привычно, что депутаты никоим образом не встревожились и продолжили дискуссию.
Как нам уже известно, Мирабо, защищая право принцесс уехать из Франции, заранее записался в число ораторов, выступающих против закона об эмиграции. Так что в этот день подняться на трибуну Мирабо убеждали как его сторонники, так и его противники: одни желали ему славы, другие – гибели.
Менее чем за полчаса он получил шесть записок, в которых к нему обращались с требованием огласить все его принципы. Шли разговоры о том, что он стоял за отъезд короля и сам подготовил план этого отъезда.
Этим планом его попрекали каждую минуту. Согласно данному плану, король, выехав из Парижа и направившись к границе, должен был застать там французскую армию, собранную заботами г-на де Буйе. Отменив конституцию 1791 года, он после этого дарует новую конституцию, основы которой установит Мирабо. Будут созваны новые Генеральные штаты, и Мирабо объявят первым министром.
Приводили даже собственные слова Мирабо.
– Пусть уезжают, – говорил он, – ну а я останусь в Париже, чтобы открыть им путь, если они сдержат свою клятву.
– А если они не сдержат ее, – поинтересовался один из его друзей, – что вы сделаете тогда?
– Тогда я влуплю им республику!
Видя, что на этот раз момент и в самом деле настал, Мирабо поднялся на трибуну и прочитал одну страницу из письма, которое он за восемь лет до этого написал королю Пруссии по поводу свободы эмиграции.
Затем он потребовал, чтобы Собрание заявило о своем нежелании заслушивать проект закона и перешло к повестке дня.
– Народное собрание Афин, – заявил он, – не пожелало ознакомиться с замыслом, о котором Аристид сказал: «Он полезен, но несправедлив». А вот вы подобный проект заслушали. Однако волнение, поднявшееся после этого в зале, свидетельствует о том, что в вопросах нравственности вы такие же хорошие судьи, как и Аристид.
Жестокость предложенного проекта доказывает, что любой закон об эмиграции неисполним… (Ропот в зале.) Я требую, чтобы меня выслушали. Если возникают обстоятельства, в которых полицейские меры становятся неизбежными, даже вопреки принятым законам, то это является правонарушением, вызванным необходимостью; однако имеется огромное различие между полицейской мерой и законом.
Я отвергаю даже мысль о том, что данный проект может быть поставлен на обсуждение, и заявляю, что буду считать себя освобожденным от всякой клятвы верности по отношению к тем, кому достанет бесстыдства назначить комиссию с диктаторскими полномочиями. (Аплодисменты.)
Популярность, которой я домогался… (Ропот на скамьях крайне левых.)
Популярность, которой я имел честь пользоваться, как и любой другой, это не слабая тростинка; я хочу укоренить ее в почве на незыблемых основах разума и свободы. (Аплодисменты.) И если вы примете закон против эмиграции, то, клянусь, я никогда не буду ему подчиняться!
И Мирабо, на протяжении долгого времени подвергавшийся, как мы уже говорили, оскорблениям, угрозам и провокациям, Мирабо, который, опуская руку на сердце, чтобы найти там совесть, находил на ее месте кошелек, Мирабо вернулся к себе совершенно разбитый.
И в самом деле, слова «Я произнес свой смертный приговор, они убьют меня», с которыми он обратился к своей сестре, вовсе не были выражением пустого страха: те, кто любил его, смутно ощущали, что его жизнь находится в опасности; когда он покидал Париж, чтобы отправиться за город, или когда он отваживался прогуливаться по улицам в ночное время, его всегда сопровождал племянник, имея при себе оружие.
Считалось, что два или три раза поданный ему кофе был отравленным, судя по вкусу, который он ощутил; наконец он получил письмо, в котором ему недвусмысленно угрожали убийством.
Вопрос о яде по-прежнему остается неясным, и ниже мы приведем те доводы, какие принято выдвигать за и против этого предположения.
Однако, по нашему мнению, убил Мирабо сам Мирабо: его убило разочарование.
Подобно Энею, он хотел спасти своих богов – королевскую власть и свободу, однако это было невозможно: королевская власть была в подобный момент чересчур тяжелой ношей, и он изнемог под ее бременем.
И потому, убедившись в невозможности исполнить свою задачу, он понял, что лучший выход для него – это довести себя работой до смерти.
Для политических деятелей правильно жить – это еще не все, надо уметь правильно умереть, умереть вовремя, не прозевать свою смерть.
Даже самого хорошего актера освищут, если он прозевает свой выход.
Посмотрите на Августа, одного из величайших политических деятелей и, следовательно, одного из величайших актеров, которые когда-либо существовали.
– Хорошо ли я сыграл свою роль в комедии жизни? – спросил он, лежа на смертном одре.
– Да, – ответили присутствующие.
– Тогда рукоплещите и кричите браво. (Plaudite, cives.[5])
Так что сценический выход Августа был прекрасен, и в этом причина того, что ему рукоплещут до сих пор.
Редко случается, чтобы человек гениальный или остроумный умер скверно: его смерть – это дело всей его жизни.
Впрочем, Мирабо полагал себя отравленным, а поскольку эпоха была весьма подходящей для того, чтобы умереть, и полпути уже было проделано, речь шла лишь о том, чтобы оказать помощь яду.
И он думал об этом вполне серьезно.
VIII
15 марта. – Слепец, который метит в вожаки. – Мирабо и Кабанис. – Толпа. – Господин Фрошо. – Замечание по поводу Питта. – Ламарк. – Тейш. – Луч солнца. – Последняя беседа. – Половина девятого вечера. – Высказывание Робеспьера. – Морне. – «Великим людям от благодарного Отечества». – Мирабо в оценках современников.
У Мирабо были две страсти: женщины и цветы.
Пятнадцатого марта он провел в окружении женщин и цветов разгульную ночь, одну из тех ночей, какие позволены человеку молодому, но противопоказаны людям в возрасте Мирабо, одну из тех ночей, какие разрушают самое могучее здоровье и усиливают болезни.
А Мирабо еще в 1788 году заболел страшной болезнью; сам он называл ее холерой, и в течение двух дней у него выпустили тогда двадцать два тазика крови. По его собственным словам, «то время стало для него переходом из лета в осень».
В 1789 году его здоровье снова пострадало; в момент открытия Национального собрания он заболел желтухой, которая в конце концов прошла, но за которой последовал целый ряд недомоганий, оставленных им без внимания.
В зале Национального собрания его нередко видели заседающим с повязкой на глазах, поскольку он страдал хроническим конъюнктивитом.
– Посмотрите на этого слепца, который метит в вожаки, – говорили его враги.
Кроме того, ослабели его внутренние органы, он испытывал неясные боли в животе, временами у него опухали ноги, а руки и грудь страдали от блуждающего ревматизма; все части его тела приобрели повышенную чувствительность, а точнее сказать, раздражимость; его мышцы, по словам Кабаниса, по-прежнему были мышцами Геркулеса, но нервы стали, как у хрупкой истеричной женщины.
У него появился еще один странный симптом: его вьющиеся волосы, почти курчавые, когда здоровье его было в порядке, сделались больными и распрямились от корней до самых кончиков; когда Кабанис приходил осматривать Мирабо, то первое, о чем он спрашивал камердинера, это не как себя чувствует Мирабо, а как ведут себя его волосы.
У него всегда было предчувствие, что жизнь его будет короткой. «Я уже преодолел более половины своего жизненного пути», – писал он Софи, находясь в Венсене.
По мере того как тело Мирабо приходило в упадок, душа его приобретала отпечаток той страдальческой удрученности, какая поражает сильных людей, когда они чувствуют, что слабеют, и он просил всех своих друзей сочинять ему эпитафии.
– Это Смерть обнимает Весну, – сказал он однажды, обнимая третью дочь г-жи дю Сайян.
Двадцать седьмого марта, когда он находился в своем сельском доме недалеко от Аржантёя, его схватили колики, сопровождавшиеся холодным потом и страшной тревогой, которую усиливала его удаленность от всякой врачебной помощи.
Двадцать восьмого марта, с печатью смерти на лице, он вернулся в Национальное собрание, и все увидели в его чертах следы тигриных когтей, которые заранее метят человека, обреченного на могилу.
Депутаты спорили в тот день об угольных шахтах, и по этому вопросу, в связи с которым Мирабо уже выступал 21 марта, он брал слово, а точнее, бросался в атаку пять раз, отстаивая права собственников.
Его последняя атака обеспечила ему победу, но он пал на поле боя.
Выйдя из зала заседаний Национального собрания, он встретил на террасе Фельянов молодого врача по имени Лашез, друга Кабаниса.
Заметив Мирабо, врач подошел к нему и, видя те губительные последствия, какие ночь страданий и день борьбы оставили на его лице, промолвил:
– Вы убиваете себя!
– Ах, мой дорогой, – ответил ему Мирабо, – убивать себя понемногу каждый день, это и есть моя жизнь; к тому же разве можно было уделить меньше сил этому делу, ведь речь шла о справедливости и дружбе.
И в самом деле, его друг, граф де Ла Марк, тот, что служил посредником между ним и королевской властью, имел весьма большие интересы в Анзенских угольных шахтах.
Возле Мирабо собралась большая толпа, как это случалось всегда, как только он появлялся на публике; одни подавали ему жалобы, другие просили его уделить им несколько минут для разговора.
– Вызволите меня отсюда, – обратился он к Лашезу, – и, если у вас нет никаких обязательств на этот день, проведите его со мной в Аржантёе.
Мирабо провел в Аржантёе остаток воскресного дня, а в понедельник утром, поскольку состояние его здоровья ухудшилось, он вернулся в Париж, встретившись по дороге с Кабанисом, ехавшим к нему в Аржантёй.
Ванна, которую Мирабо принял, приехав в свой особняк на улице Шоссе-д'Антен, незадолго до этого купленный им у Тальма́, принесла определенное облегчение его изношенному организму; тотчас же ему понадобилось выйти из дома, и он настроился провести вечер в театре Итальянской комедии.
Однако там его беспокойство и боли усилились, и, поддерживаемый Лашезом, он с трудом вышел из ложи, а затем спустился вниз, однако кучер, которому было велено ждать его у выхода в десять часов вечера, на условленном месте еще не появился.
Так что Мирабо пришлось тащиться до дома пешком.
На каждом шагу он останавливался, прерывисто дыша и с трудом переводя дух; казалось, что он вот-вот задохнется.
Об этом известили Кабаниса; он тотчас же примчался и застал больного в состоянии, близком к удушью: от застоя крови в легких лицо у него распухло.
Мирабо прекрасно понимал, в каком положении он оказался.
– Друг мой, – сказал он Кабанису, – поторопитесь. Я чувствую, что в подобных муках мне не прожить и нескольких часов.
Вследствие энергичного лечения у больного наступило заметное улучшение; однако утром 30 марта симптомы возобновились с еще большей силой, и, если не считать нескольких внезапных и кратковременных облегчений, болезнь неотвратимо вела его к смерти.
Двадцать девятого марта в Париже узнали, что Мирабо болен.
Тридцатого марта стало известно, что его болезнь смертельна.
Третьего апреля стало известно, что он умер.
Как только люди узнали, что жизнь Мирабо подвергается страшной опасности, возле его дома собралась толпа.
Каждый раз, когда дверь дома открывалась, все бросались расспрашивать тех, кто из нее выходил; бюллетени о состоянии здоровья больного выпускались трижды в день: вначале их читали вслух у его двери, а затем в карандашных копиях, которые разносили добровольные гонцы, они распространялись по всему Парижу.
Между тем сам он, лежа на смертном одре, к которому его пригвоздила боль, улыбался при известии об этом изъявлении чувств; ведь он поверил в свою депопуляризацию – да будет нам позволено употребить такое слово, – ибо чувствовал, что заслужил это, и то, что популярность Мирабо уцелела, несмотря на его связь с королевским двором, явилось для него настоящим триумфом.
Кабанис выбился из сил, комбинируя разного рода лекарства, тогда как Мирабо наблюдал за его действиями с видом человека, изучающего беспомощность человеческого гения перед лицом смерти.
– Ты великий врач, – говорил он ему, – но есть врач куда более великий, чем ты, это творец ветра, который все ниспровергает, воды, которая все пропитывает и оплодотворяет, огня, который все оживляет или разрушает.
Возле Мирабо собрались его друзья; он попросил г-на Фрошо приподнять ему голову и в тот момент, когда тот оказывал ему эту услугу, промолвил:
– Хотел бы я иметь возможность оставить ее тебе в наследство.
Мысль о государственных делах преследовала его неотступно; подобно Карлу Великому, который проливал слезы, предвидя нашествие норманнов, Мирабо стонал, угадывая намерения Англии.
– Питт, – сказал он, – это министр, занятый лишь приготовлениями; он управляет при помощи угроз, а не благодаря решительным действиям. О, будь я еще жив, я, надо полагать, доставил бы ему немало хлопот!
В полдень 1 апреля Мирабо решил составить завещание.
– У меня много долгов, – промолвил он, обращаясь к г-ну Фрошо, – так много, что я не знаю и половины их! Тем не менее, – добавил он, – у меня есть несколько обязательств, повелительных для моей совести и дорогих для моего сердца.
Несколько минут спустя г-н Фрошо передал его слова графу де Ла Марку, явившемуся как раз в этот момент.
– Скажите ему, – ответил граф де Ла Марк, – что, если его наследства недостаточно, я все возьму на себя. Все завещательные отказы, какие он пожелает поручить мне, будут добросовестно исполнены.
И, когда г-н Фрошо пожал ему руку, он добавил:
– Черт побери! Так у него будет по крайней мере еще одна приятная минута.
Второго апреля, едва наступил рассвет, Мирабо велел распахнуть окно и, поскольку Кабанис отважился на какие-то возражения, промолвил:
– Друг мой, сегодня я умру, а когда для человека наступает такая минута, ему остается лишь одно: умаститься благовониями, надеть на голову венок из цветов и окружить себя звуками музыки, чтобы по возможности приятнее вступить в сон, от которого не пробуждаются.
С этими словами он позвал своего камердинера, который незадолго до этого тоже довольно тяжело занемог.
– Ну как ты себя сегодня чувствуешь, бедняга Тейш? – спросил его Мирабо.
– Ах, сударь, – ответил камердинер, – хотел бы я, чтобы вы были на моем месте.
– Ну а я, Тейш, – после минутного размышления произнес больной, – нисколько не хотел бы, чтобы ты оказался на моем. Ну же, побрей меня, друг мой.
В это мгновение луч только что поднявшегося солнца заиграл на его изголовье.
– Если ты и не сам Господь, – сказал он, обращаясь к небесному гостю, – то, по крайней мере, его двоюродный брат.
И тогда началась последняя беседа Мирабо с двумя его друзьями, Ла Марком и Кабанисом: она состояла из трех частей и длилась три четверти часа.
Первая часть касалась его личных дел.
Вторая – дел тех, кто был ему дорог.
Третья – государственных дел.
Прюдом, не жаловавший Мирабо и представлявший народную партию в самых демократических ее формах, признается, что этот последний разговор поражал своим спокойствием, простотой и величием.
«Каждое слово, слетавшее с его умирающих губ, – говорит он, – обнажало душу, чуждую, если так можно выразиться, смертельных недугов его тела; казалось, что этот необычайный человек присутствует при своем собственном разрушении и является всего лишь свидетелем своей кончины».
Прюдом делает еще одно признание, особенно ценное в его устах:
«Говорят, что справиться о здоровье Мирабо приходил королевский паж; опасаться оставалось только одного: как бы король не посетил его самолично; если бы король сделал такое, он более чем на год вновь завоевал бы популярность».
Однако король был далек от того, чтобы поступить так, и человека, который дал бы ему подобный совет, ожидал бы, наверное, плохой прием.
Вскоре Мирабо утратил речь и на вопросы отвечал лишь знаками; тем не менее сознание его оставалось нетронутым; взглядом и движением губ он благодарил окружающих за те заботы, какие они оказывали ему. Когда его друзья склоняли свои лица к его лицу, он, со своей стороны, пытался поцеловать их.
В течение всего этого времени агония умирающего была тихой.
Около восьми часов вечера боли возобновились.
Он сделал знак, что хочет писать.
Ему принесли перо, чернила и бумагу.
Он написал: «Уснуть».
Что означало это слово? Вопрошал ли он вечность, подобно Гамлету? Или, скорее, не напоминал ли он Кабанису о вырванном у него обещании дать умирающему опиум, если его страдания станут невыносимыми?
Скорее всего, да, ибо, видя, что его не понимают, он продолжил писать:
«Пока можно было опасаться, что опиум задерживает влагу в тканях, Вы поступали правильно, не давая его мне, но теперь, когда никаких других средств, кроме неведомого чуда, не осталось, почему бы не испытать это чудо? Можно ли оставлять своего друга умирать на пыточном колесе, да еще, возможно, на протяжении нескольких дней?»
И в самом деле, боли стали настолько сильными, что Кабанис ответил умирающему:
– Хорошо, ваше желание будет исполнено.
Он тотчас же прописал ему успокоительное средство и, поскольку в эту самую минуту в комнату вошел г-н Пти, которого пригласили в качестве его помощника, показал ему рецепт; в нем значился диакодовый сироп, разведенный в дистиллированной воде; г-н Пти одобрил лекарство, но заменил в его прописи дистиллированную воду на простую.
Послали к аптекарю; ждать предстояло всего три минуты, но время в таких случаях измеряется не его длительностью, а страданиями больного; страдания же Мирабо были настолько нестерпимыми, что они вернули ему дар речи.
– О! – вскричал он. – Меня обманывают, обманывают!
– Да нет же, – ответил ему граф де Ла Марк, – вас не обманывают, лекарство сейчас принесут, я сам видел, как его прописали.
– Эх, медики, медики! – воскликнул умирающий.
Затем, повернувшись к Кабанису, он произнес:
– Разве вы не мой врач и не мой друг? Разве вы не обещали избавить меня от страданий подобной смерти? Неужели вы хотите, чтобы я унес с собой в могилу сожаление о том, что оказывал вам доверие?
То были его последние слова; затем, конвульсивным движением повернувшись на правый бок, он поднял глаза к небу и испустил дух.
– Он более не страдает, – промолвил г-н Пти, который уже несколько минут стоял в задумчивости, взирая на эту страшную битву жизни с небытием.
Часы пробили половину девятого вечера.
Накануне, в этот самый час, проснувшись от грохота пушки, Мирабо воскликнул:
– Так похороны Ахилла уже начались?!
Эти слова передали Робеспьеру, и, когда ему стало известно о смерти Мирабо, он с улыбкой, присущей… Робеспьеру, промолвил:
– Что ж, Ахилл мертв, значит, Троя не будет взята.
Как только Мирабо скончался, все следы страдания, угасшего вместе с жизнью, исчезли с его лица, и оно приняло поразительное выражение покоя и безмятежности.
К Мирабо вполне можно было отнести прекрасные слова Лукана: «Seque probat moriens».[6]
Тем не менее Мирабо далеко не был праведником.
Во время его агонии Кабанис получил следующее письмо:
«Сударь!
Я прочитал в газетах, что в Англии были успешно проведены операции по переливанию крови в случае тяжелых заболеваний. Если врачи сочтут такую операцию полезной для спасения г-на де Мирабо, я предлагаю часть моей крови и предлагаю это от всего сердца. То и другое в равной мере чисты. Морне. Улица Нёв-Сент-Эсташ, № 52».
Вечером в день смерти Мирабо народ закрыл все театральные залы.
В одном из соседних домов начался бал, но толпа разогнала танцующих.
На другой день начались споры по поводу того, где следует похоронить Мирабо.
Одни предлагали сделать местом его погребения церковь святой Женевьевы.
Другие – Марсово поле с алтарем Отечества в качестве мемориала.
В итоге выбор остановили на церкви святой Женевьевы; было решено, что она будет именоваться Пантеоном, что Мирабо будет погребен там первым и что на ее фронтоне высекут надпись:
«ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ ОТ БЛАГОДАРНОГО ОТЕЧЕСТВА».
Поистине, до чего же странная вещь – оценки современников.
В 1781 году между отцом и дядей Мирабо состоялся спор, о котором мы рассказывали.
В это время Мирабо по уши в долгах, приговорен к смерти и заочно казнен, да мало ли что еще?
Он бросил свою жену и похитил жену другого человека.
Отец больше не хочет его знать, дядя больше не хочет его знать, и они оба отрекаются от него.
«Этот человек ничтожество, полное ничтожество, – говорит о нем отец. – У него есть вкус, бахвальство, он выглядит деятельным, непоседливым, азартным, он способен быть душой общества и порой проявляет достоинство… Это попугайчик, недоносок, который не отличает возможного от невозможного, стеснительного от удобного, удовольствия от огорчения, работы от отдыха и падает духом, как только встречает сопротивление… Однако из него можно сделать превосходное орудие, ухватив его за рукоять тщеславия».
Такова оценка отца: как видим, она нисколько не приукрашена.
«Это характер, во всех отношениях напоминающий колючего худого ежа… Бороться с ним, это все равно что бороться с чем-то невозможным… Это непоседливый, спесивый, заносчивый, строптивый ум, это злобный и порочный нрав! Его следует отправить в колонии, чтобы он сломал себе там шею!»
Такова оценка дяди: она ничуть не лучше отцовской.
Мы уже знаем, как оценивали его в семье; посмотрим теперь, как оценивали его посторонние.
Через девять лет после того, как отец и дядя письменно высказались по поводу своего сына и племянника, Ривароль говорит:
– Мирабо всего лишь чудовищный болтун!
– Мирабо – негодяй! – говорит д’Амбли.
– Мирабо – сумасброд! – говорит Ла Пуль.
– Мирабо – злодей! – говорит Гийерми.
– Мирабо – убийца! – говорит аббат Мори.
– Мирабо – конченый человек! – говорит Тарже.
– Мирабо – покойник! – говорит Дюпор.
– Мирабо – это оратор, которого чаще освистывали, нежели встречали овациями! – говорит Лепелетье.
– У Мирабо душа изрыта оспой! – говорит Шансене.
– Мирабо надо сослать на галеры! – говорит Ламбеск.
– Мирабо нужно повесить! – говорит Марат.
Второго апреля Мирабо умирает.
И 3 апреля ради него придумывают Пантеон!..
IX
Людовик XVI замышляет побег. – Указ о присяге священников. – Белые лошади. – Портрет Карла I. – Король воспринимает себя как узника. – Побега короля желают две партии. – Король принимает решение об отъезде. – Мнение Северной Семирамиды. – Король обязуется участвовать в крестном ходе. – Шестьсот тысяч ливров, полученные Мирабо. – Ла Марк и Буйе. – Мирабо и Лафайет. – Конные подставы. – Дорожная берлина. – Миллион ассигнатами, предоставленный г-ну де Буйе. – Отъезд назначен на 19 июня. – Господин де Шуазёль получает приказы от короля. – Отъезд задержан на сутки. – Пагубные последствия этой задержки.
– Я уношу с собой в могилу горестное предчувствие гибели монархии, – сказал умирающий Мирабо.
Мирабо сказал правду.
И потому после смерти Мирабо король понял, что он лишился последней опоры, подобно тому как Национальное собрание поняло, что после этой смерти в нем образовалась пустота и ему надо преобразоваться.
В итоге Людовик XVI замыслил побег, а Национальное собрание решило добровольно распуститься.
Впрочем, перспективы королевской власти день ото дня становились все мрачнее. Обнародовав в Павии свою декларацию от 18 мая, император Леопольд сбрасывает маску и показывает, что он совместно с другими державами задумал осуществить контрреволюцию во Франции.
Третьего июня выходит уже упоминавшийся нами указ, узаконивающий гильотину.
Пятого июня – указ, лишающий короля самой прекрасной из его прерогатив, а именно права помилования.
Одиннадцатого июня – указ, предписывающий принцу де Конде вернуться во Францию под страхом быть объявленным вне закона и увидеть свои владения конфискованными.








