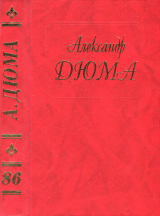
Текст книги "Драма девяносто третьего года. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ну а теперь, желаете увидеть, что стало с популярностью г-на Неккера через год после захвата Бастилии?
Все шло хорошо вплоть до городка Арси-сюр-Об; прибыв туда, он сделал остановку и отдыхал на почтовой станции, ожидая, когда ему сменят лошадей; внезапно в комнату, где он находился, вошли вооруженные люди и потребовали у него предъявить паспорта.
Господин Неккер располагал тремя паспортами и личным письмом короля.
Он показал эти бумаги городским властям и правлению округа, которые сочли их вполне годными.
Однако и здесь городские власти и правление округа уже не могли распоряжаться всем: воля народа возобладала, и г-на Неккера и его слуг провели сквозь толпу вооруженных людей к постоялому двору, который был ему назначен.
Оказавшись там, г-н Неккер понимает, что он стал пленником, и требует разрешения написать письмо Национальному собранию. Разрешение предоставляют, но на условии, что письмо доставят не слуги г-на Неккера, а два жителя города.
Господин Неккер написал письмо, и гонцы отправились в столицу.
Национальное собрание заявило, что г-н Неккер имеет право продолжать путь, что не помешало задержать его снова в Везуле.
Здесь все складывается еще хуже, чем в Арси: толпа окружает карету, перерезает постромки лошадей и выкрикивает самые жуткие угрозы.
Тем не менее здесь, как и в Арси, выданный Национальным собранием пропуск в конечном счете открывает г-ну Неккеру дорогу.
Однако почти весь вечер, на протяжении пяти часов, сопровождавшие его слуги пребывали между жизнью и смертью.
Вот так погасла эта звезда, вот так поблекла эта судьба; г-н Неккер вернулся в Женеву беднее, чем приехал оттуда, но оставив нам нечто более ценное, чем свои два миллиона в казне, более ценное, чем свой дом, более ценное, чем свое движимое имущество: он оставил нам свою дочь, одну из самых великих личностей нашей эпохи.
VI
Король. – Письмо королю Испании. – План бегства. – Религиозный вопрос. – Господин Вето. – Епископ Клермонский. – Папа. – Граф фон Ферзен. – Переговоры с иностранными державами. – Национальное собрание. – Король одобряет указы. – Требование приносить присягу на открытом заседании. – Череда отказов. – Борьба священников. – Их влияние. – Мэр Леперди. – Бегство принцесс. – Господин де Нарбонн. – «Летопись Парижа». – Письмо короля. – Дискуссия в Национальном собрании. – Море. – Письмо Монморена. – Арне-ле-Дюк. – Господин де Мену.
Вернемся, однако, к королю.
В октябре он выходит из своего обычного состояния нерешительности и совершает два смелых шага.
Людовик XVI пишет письмо королю Испании и заранее посылает ему свои возражения против всего того, что, возможно, будет вынужден одобрить.
Затем он останавливается на плане бегства, который снова предлагает ему епископ Памье, добившийся от короля разрешения наделить г-на де Бретёя полномочиями вести переговоры с иностранными державами.
Господин де Бретёй предъявил доказательства этих полномочий, и ему доверяли.
Однако то, что терзало в это время короля, то, что терзало его всегда, то, что стало причиной его бегства 21 июня 1791 года и его падения 10 августа 1792 года, было не политическим вопросом, а вопросом религиозным.
Людовик XVI принес присягу конституции, но не хотел утверждать указ, направленный против неприсягнувших священников.
И потому короля перестали величать государем, именуя его теперь исключительно господином Вето.
Еще в июле, желая узнать, может ли он, не подвергая свою душу опасности, одобрить гражданское устройство духовенства, король советовался с епископом Клермонским и спрашивал его об этом.
В конце августа он послал кого-то в Рим, чтобы задать тот же вопрос папе.
Папа чрезвычайно опасался, как бы Франция не присоединила к себе его Авиньонское графство, которое не только приносило ему хороший доход, но и было к тому же ногой, стоявшей посреди Прованса, то есть самой католической из всех земель, какими владела старшая дочь Церкви.
И потому папа не сказал в ответ ничего определенного и ограничился тем, что горячо осудил постановления Национального собрания.
Для человека, который все понимал с полуслова, такого ответа было более чем достаточно.
Речь шла о том, чтобы подготовить Европу к противодействию короля воле своего народа и к бегству, к которому должно было привести это противодействие, когда оно подойдет к концу.
Какое-то время тому назад из Стокгольма вновь приехал шведский придворный, звавшийся графом фон Ферзеном. Это был человек лет тридцати восьми или сорока, прекрасно сложенный, с безупречными манерами и испытанного мужества; ум его и сердце были склонны к авантюрам, и ходили слухи, что во время своего первого пребывания во Франции он добился от Марии Антуанетты памятного подарка, имевшего касательство к его возвращению.
Ему было поручено вести все переговоры с иностранными державами сообща с г-ном де Бретёем.
Испанию и Англию разделяла распря, но перед лицом событий, которые уготовила им Франция, они забыли о причинах своей вражды и 28 октября 1790 года заключили между собой договор.
Со своей стороны, Австрия пребывала в ссоре с Турцией, но после первого же письма, полученного им из Франции, император, как нетрудно понять, уладил споры.
Наконец, Швеция и Россия вели войну, сопровождавшуюся великим ущербом для Швеции, однако они уладили все споры, как это сделали Англия с Испанией и Австрия с Турцией.
Благодаря нам вся Европа пребывала в мире и готовилась объявить нам войну.
Достаточно важным было осознание королями того факта, что войны между королями более неуместны.
Франция открыла поле битв королей с народом.
Если бы у королей достало ума окружить Францию своего рода санитарным кордоном и предоставить ее собственным раздорам, уличным боям и массовым смертоубийствам, то, возможно, подобно скорпиону, запертому в огненном кольце, Франция убила бы себя сама.
Однако на нее напали, и пару, клокотавшему внутри, дали выход; этот пар распространился по всему миру и сделался ураганом, который продолжался двадцать лет и при свете молний которого народы читали на наших знаменах слово «Свобода».
Из какого же набора букв составлено это слово, что оно кажется огненным народу, что оно становится лабарумом наций и что они видят в нем, подобно Константину, девиз «Знамением сим победишь!»?
На беду двора, еще не все дела были улажены по его воле, когда Национальное собрание, извещенное о том, что король попросил у святейшего отца совета и ответ до сих пор не получен, уведомило Людовика XVI, что оно ждет от него не утверждения, а всего-навсего одобрения указов от 14 июля и 27 ноября, принуждающих священников принести присягу конституции.
Шестнадцатого декабря король дал это одобрение.
Час спустя он встретился с г-ном фон Ферзеном.
– Ах! – промолвил он, обращаясь к графу. – Я предпочел бы быть королем Меца, а не королем Франции; к счастью, это скоро кончится.
Заметим попутно, что против присяги, принести которую Национальное собрание решило потребовать от священников, выступали передовые люди, выступали революционные деятели. Ее не поддерживал Марат, ее не поддерживал Робеспьер, а Камиль Демулен заявил:
– Если они цепляются за свою кафедру, не будем даже и пытаться оторвать их от нее, ибо рискуем разодрать их льняной стихарь; этот род бесов, именуемых фарисеями, попами или начальствующими над священниками, изгоняется только постом: «Non ejicitur nisi per jejunium».
И он потребовал лишь, чтобы тем, кто откажется присягнуть конституции, отказали в выплате жалованья.
К несчастью, Национальное собрание допустило серьезную оплошность: оно постановило, что депутаты, принадлежащие к духовенству, должны принести присягу на открытом заседании.
Многие согласились бы сделать это без сторонних свидетелей, доказательством чему служит то, что пятьдесят восемь священников присягнули прямо с трибуны, но отказаться присягнуть публично означало чересчур хорошую возможность совершить мученический подвиг, причем весьма недорогой ценой.
И священники не упустили этой возможности.
Ни один епископ, за исключением епископа Отёнского, не принес присяги.
Правда, епископа Отёнского звали Талейраном.
Поименную перекличку начали с епископа Аженского.
Епископ Аженский просит слова.
– Никакого слова! – кричат депутаты левого крыла. – Вы будете приносить присягу, да или нет?
– Вы заявили, – отвечает епископ Аженский, – что все, кто откажется принести присягу, лишатся своих должностей. Я нисколько не сожалею о моей должности, но сожалел бы об утрате вашего уважения. Прошу вас засвидетельствовать огорчение, испытываемое мною от того, что я не могу принести присягу.
Потом поднимается аббат Фурне.
– Вы хотите, – заявляет он, – вернуть нас к простоте первых христиан, и я уподоблюсь им: я с гордостью последую за своим епископом, как святой Лаврентий последовал за своим пастырем.
– Ну а я, – восклицает семидесятилетний епископ Пуатье, – не обесчещу свою старость клятвой, которая претит моей совести, и не желаю приносить присягу.
А затем, поскольку в зале поднимается ропот, он добавляет:
– Я с чувством покаяния приму мой жребий.
«И тем не менее, – скажет позднее, во времена Империи, архиепископ Нарбоннский, – то, что мы делали тогда, было со стороны большинства из нас исключительно проявлением дворянского благородства, ибо, слава Богу, нельзя говорить, что это делалось из религиозного чувства».
Однако именно с этого часа началась та долгая война, иногда тайная, иногда открытая, которую священники объявили Революции и которая трижды повергала в огонь восток и юг Франции.
Лишь тогда оказалось возможным оценить то место, какое занимал священник в вашей семье; он призывал к себе женщин и девушек, то есть ту слабую ее часть, которая зависела от него и которую он подчинил себе.
Его козни становились причиной разлада куда более страшного, чем физический развод, с которым он боролся, а именно душевного разлада между мужем и женой, между отцом и сыном.
Он убеждал их, что Революция не только не была католической, но и не была христианской. И это говорилось о той самой революции, что воплотила в жизнь слово Христово, наделила людей собственностью, дала свободу и землю рабу, у которого его помещик землю и свободу отнял!
Но, по правде сказать, ужасает то, что на обеих сторонах была вера.
– Отдай мне свое оружие! – говорил республиканский солдат смертельно раненному вандейцу.
– Отдай мне моего Бога! – отвечал умирающий своему победителю.
Однако рядом с крестьянином, умирающим за своего Бога, есть солдат, умирающий за Революцию.
Вандеец ударяет солдата саблей прямо в сердце.
– Посадите здесь в память обо мне дерево Свободы, – умирая, говорит патриот.
Скажите, какой из двух этих ответов прекраснее?
Но, возможно, самым прекрасным был ответ Леперди, республиканского мэра Ренна.
В городе, охваченном голодом, хотят побить камнями мэра, и на него уже в самом деле сыплется град камней; один из них рассекает ему лоб, он поднимает этот облитый кровью камень и, показывая его своим убийцам, произносит:
– Я не умею превращать камни в хлеб, но если моя кровь может насытить вас, то она ваша до последней капли.[4]
Пусть теперь скажут, что революция, подсказавшая такие слова, не была христианской!
О священники, священники! Как далеко порой от алтаря до Бога!
Одним из первых последствий указов Национального собрания в отношении конституционной присяги стало бегство принцесс, теток короля.
После событий 5 и 6 октября, после переезда короля из Версаля в Париж, несчастные женщины жили в своем замке Бельвю, стараясь, чтобы все о них забыли.
На их беду, один из первых дней начавшегося нового 1791 года, 4 января, ознаменовался тем, что священникам было предписано принести клятву и епископы отказались сделать это, а вскоре подоспела Пасха.
И вот в конце февраля распространился слух, что принцессы, тетки короля, имеют намерение отправиться в Рим.
В любое другое время никто во Франции не обратил бы никакого внимания на отъезд двух старых дев; к тому же какой закон мешал теткам короля путешествовать? Да никакой.
Однако в этих обстоятельствах встревожилась вся Франция, ибо люди опасались, как бы через плохо запертую дверь не ускользнул, в свой черед, и король.
И они были правы, поскольку вначале предполагалось, что король должен уехать вместе со своими тетками.
К несчастью, разнесся слух об их скором отъезде.
И тогда король сам попытался удержать своих теток, однако они заявили ему, что не могут более жить в стране, где религия их отцов запрещена, и что они решили отправиться к римскому папе в поисках утешения для себя и отпущения грехов для нации.
Король какое-то время еще настаивал, но в конце концов уступил.
Отъезд был назначен на 19 февраля 1791 года.
Однако все очень не хотели отпускать принцесс из Франции; они были здесь достаточно популярны, и та мелкая война с использованием злословия и даже клеветы, которую принцессы вели против королевы, в немалой степени содействовала сохранению этой популярности.
И потому в замки Бельвю и Шуази несколько раз отправлялись многочисленные депутации рыночных торговок, чтобы умолять принцесс не покидать короля, их племянника.
Растерянные и испуганные при виде этих проявлений народной любви, принцессы, решение которых было принято окончательно, отвечали на эти просьбы столь расплывчато, что, несмотря на их запирательство, никто не сомневался в их скором отъезде.
Вечером 19 февраля, как всегда, было велено подавать ужин, в девять часов все обитатели замка уже сидели за столом, и шевалье де Нарбонну, красивому молодому человеку, выросшему на коленях у принцессы Аделаиды, было приказано перевезти кареты из Мёдона в Сен-Клу.
В Мёдон кареты переправили для того, чтобы подготовкой к отъезду не вызывать подозрений у челяди замка Бельвю.
В половине десятого было велено передать г-ну де Нарбонну, чтобы он держался наготове и что через полчаса принцессы тоже будут готовы к отъезду.
Однако тщетно все искали г-на де Нарбонна: его нигде не было.
Это обстоятельство представлялось тем более серьезным, что принцесс, по-видимому, предали, и гонец, со всей поспешностью прибывший из столицы, сообщил, что из Парижа вышла толпа мужчин и женщин и теперь она находится на пути в Бельвю, намереваясь силой, если понадобится, воспрепятствовать отъезду принцесс.
Несчастные старушки пребывали в сильном волнении; они посылали в Мёдон гонца за гонцом, требуя привезти хотя бы кареты, если не удастся найти г-на де Нарбонна. Однако г-н де Нарбонн, несомненно в интересах побега, заранее принял меры предосторожности и запретил трогать кареты с места без его особого распоряжения.
Между тем время уходило; принцесса Аделаида послала одну из своих горничных на террасу замка: с этой террасы была видна вся дорога в Париж; через минуту горничная вернулась страшно испуганная и сказала, что примерно в одном льё от замка слышен сильный шум и видны яркие огни.
Сомнений больше быть не могло: полученное известие было достоверным.
Принцессы не знали, что делать; в небольшом окружении старых дев никто не обладал твердой волей, все были объяты страхом, все бросались из стороны в сторону, но никаких решений не принимали.
Внезапно раздается топот скачущей галопом лошади, все выбегают на крыльцо и видят, как у его нижней ступени падает окровавленная лошадь; всадник освобождается от шпор и подходит к принцессам; его узнают: это г-н де Вирьё, депутат от дворянства Дофине, тот самый, кто в день праздника Федерации перехватил хищный проблеск в зрачках королевы, проблеск, приоткрывший ему краешек этой неясной души.
Узнав об опасности, угрожавшей принцессам, г-н де Вирьё во весь дух помчался в Бельвю. В местечке Пуэнт-дю-Жур он столкнулся с ордой этих людей; они догадались, куда он направляется, и хотели помешать ему ехать дальше, однако он пришпорил лошадь, и тогда какой-то человек, желая остановить несчастное животное, всадил ей в грудь саблю по самую рукоять; несмотря на полученную рану, лошадь, поддерживаемая своим наездником, преодолела весь оставшийся путь и, как если бы она чувствовала, что нужды двигаться дальше нет, рухнула у нижней ступени крыльца.
Многим хотелось бы не поверить в рассказ г-на де Вирьё, однако из окон замка уже можно было увидеть свет первых факелов; в темноте вся эта толпа, взбиравшаяся по склону Бельвю, представляла собой фантасмагоричное зрелище; слышались ее вопли и песни, еще более страшные, возможно, чем ее вопли; нельзя было терять времени, следовало бежать, пешком добраться до Мёдона и отыскать кареты, ибо они так и не приехали.
Должно быть, то был страшный момент для несчастных женщин, когда холодной и дождливой февральской ночью они переступали через порог своего прекрасного загородного дома, делая первый шаг по дороге изгнания!
Но колебаться не приходилось, ибо авангард толпы, состоявшей из жителей предместий, уже колотил в ворота, обращенные в сторону Севра.
Пока привратник, пытаясь выиграть время, вел с этими людьми переговоры, принцессы бросились бежать, пешком пересекли парк и подошли к воротам, обращенным в сторону Мёдона.
По роковой случайности ворота оказались заперты, привратника на месте не было, а ключи затерялись; принцессы сочли себя погибшими.
Однако кому-то из их свиты пришло в голову вызвать слесаря, состоявшего на службе в замке; его стали искать, и, к счастью, он нашелся, явился со своими инструментами и открыл ворота.
На полпути к Медону беглецы увидели ехавшие навстречу им кареты, сели в них и отправились в путь.
Сестры хотели увезти с собой принцессу Елизавету, но она неизменно отказывалась покинуть брата.
И ей было даровано вознаграждение: из святой, которой она была, ее сделали мученицей.
Нетрудно догадаться, что вся эта толпа, впустую сходившая в Бельвю, подняла большой шум, когда она вернулась в Париж и сообщила об отъезде принцесс.
Волнение было тем большим, что все полагали, будто королева поручила принцессам увезти дофина.
Мало того, за ними, как уверяли, должны были последовать граф и графиня Прованские.
И потому в шесть часов вечера огромная толпа народа направилась к Люксембургскому дворцу, где жил граф Прованский, и заявила, что хочет увидеть его и графиню.
Граф Прованский появился на балконе один, подтвердил, что у него нет никакого желания уезжать, заявил, что он не хочет покидать своих сограждан, и поклялся, что никогда не разлучится с особой короля.
Что означало: «Будь спокоен, славный народ: если король уедет, я уеду вместе с ним».
Народ воспринял эту клятву с ее показной стороны и осыпал рукоплесканиями графа Прованского, который в знак благодарности подарил Люксембургской секции красивое трехцветное знамя.
В тот день, когда граф Прованский, преданный своей клятве, уехал одновременно с королем – граф Прованский в Брюссель, а король в Монмеди, – патриоты сделали из этого знамени пыж и забили его в пушку.
Одни, как видим, отнеслись к произошедшему всерьез, а другие, как сейчас увидим, с насмешкой.
«Хроника Парижа», газета, писавшая под влиянием конституционной партии, опубликовала по поводу отъезда принцесс следующую статью:
«Две принцессы, домоседливые вследствие своего общественного положения, своего возраста и своих склонностей, внезапно оказались одержимы манией путешествовать и ездить по свету… Это странно, но возможно.
По слухам, они едут в Рим, чтобы поцеловать папскую туфлю… Это забавно, но душеспасительно.
Тридцать две секции Парижа и все добропорядочные граждане становятся между ними и Римом… Это вполне понятно.
Обе они, а в особенности принцесса Аделаида, хотят воспользоваться правами человека… Это вполне естественно.
По их словам, они уезжают, не имея умыслов против Революции… Это возможно, но верится с трудом.
Эти прекрасные путешественницы тащат за собой восемьдесят человек, которых они избавляют от всех расходов… Это прекрасно.
Но они увозят двенадцать миллионов ливров… Это очень некрасиво.
Они нуждаются в перемене обстановки… Это бывает.
Однако такой переезд беспокоит их кредиторов… Это тоже бывает.
Они сгорают от желания путешествовать („Желание девицы огнем напоминает ад“)… Это также бывает.
Однако все сгорают от желания удержать их… Это равным образом бывает.
Принцессы утверждают, что они вольны ехать, куда им угодно… Это справедливо, ведь они совершеннолетние».
Все эти толки, исполненные угроз или насмешливые, в любом случае были таковы, что король не мог счесть возможным не уведомить Национальное собрание об отъезде принцесс.
В итоге он написал следующее письмо:
«Господин председатель!
Узнав, что Национальное собрание поручило конституционному комитету изучить вопрос, возникший в связи с задуманной поездкой моих тетушек, я счел уместным известить Собрание, что этим утром мне стало известно о том, что они уехали вчера, в десять часов вечера; пребывая в убеждении, что они не могли быть лишены свободы и каждая из них обладает правом ехать туда, куда она пожелает, я не счел ни должным, ни возможным чинить какие бы то ни было препятствия их отъезду, хотя мне глубоко претит их разлука со мной. ЛЮДОВИК».
Новость об отъезде принцесс была уже известна, однако это письмо сделало ее официальной.
Тотчас же в Национальном собрании завязалась горячая дискуссия, и, хотя с ее начала прошло уже более двадцати четырех часов, она была все еще в самом разгаре, когда Собрание получило от мэрии Море следующий протокол:
«20 февраля 1791 года в Море прибыли кареты, сопровождаемые обозом и эскортом и отличающиеся великолепием; городские чиновники, слышавшие разговоры об отъезде принцесс и беспокойстве, которое он вызывал в Париже, задержали эти кареты и не хотели пропускать путешественниц дальше, пока они не предъявят свои паспорта. Они показали целых два: один, чтобы следовать в Рим, – он был выдан королем и скреплен подписью Монморена, и другой, который, строго говоря, был не паспортом, а декларацией городских властей Парижа, признающей отсутствие у них права препятствовать тому, чтобы гражданки разъезжали в тех частях королевства, какие кажутся им наиболее приятными.
При виде этих двух паспортов, в которых, по их мнению, они усмотрели определенные противоречия, городские чиновники Море были склонны полагать, что, прежде чем придавать предъявленным документам какое-либо значение, надлежит обратиться за указаниями к Национальному собранию и дождаться его ответа в отношении принцесс; но, пока они пребывали в сомнении по поводу решения, которое им следовало принять, поспешно явились вооруженные егеря Лотарингского полка и, применив силу, заставили открыть ворота принцессам, которые продолжили свой путь».
Оглашение этого протокола вызвало взрыв гнева: гнева против г-на де Монморена, министра иностранных дел, преданность которого королю была широко известна.
С нападками на него выступил Рёбелль, выразивший удивление, что министр иностранных дел посмел скрепить своей подписью паспорт, в то время как он был осведомлен, и осведомлен надлежащим образом, что после распространения слухов о готовящемся отъезде принцесс возникла потребность в новом указе, составлением проекта которого занимался конституционный комитет.
То ли из презрения, то ли из осторожности г-н де Монморен не счел уместным оправдываться иначе, как посредством письма.
Письмо он адресовал председателю Национального собрания.
Вот это письмо:
«Господин председатель!
Только что мне стало известно, что после оглашения протокола, присланного мэрией Море, некоторые члены Национального собрания выказали удивление в связи с тем, что я скрепил своей подписью паспорт, который король выдал принцессам.
Если мой поступок требует объяснений, я прошу Собрание принять во внимание, что мнение короля и его министров по данному вопросу достаточно хорошо известно. Этот паспорт стал бы разрешением выехать из королевства, если бы имелся закон, запрещающий покидать пределы государства, но подобного закона никогда не существовало. Впредь до установления такого закона любой паспорт не может восприниматься иначе, нежели в качестве удостоверения звания его владельца.
В этом смысле было невозможно отказать в паспорте принцессам; следовало либо воспротивиться этой поездке, либо предотвратить ее нежелательные последствия, к числу коих нельзя не отнести их арест властями того или иного города, не знающими их в лицо.
Существуют старинные законы против эмиграции, но они вышли из употребления, и принципы свободы, установленные Национальным собранием, полностью упразднили их.
Отказать принцессам в паспорте, если рассматривать этот документ как подлинное разрешение, означало бы не только предвосхитить закон, но и установить его; предоставление же этого паспорта, когда, не давая никаких дополнительных прав, он мог предотвратить беспорядки, нельзя рассматривать иначе, нежели проявление осмотрительности.
Вот, господин председатель, причины, побудившие меня скрепить своей подписью паспорт принцесс, и я прошу Вас сообщить о них Собранию. Я с готовностью воспользуюсь любой возможностью объяснить мое поведение и неизменно буду с величайшим доверием полагаться на справедливость Собрания».
И в самом деле, какие бы доводы ни выдвигались против отъезда принцесс, нельзя было сказать, что существовал закон, который запретил бы им уехать. В итоге они уехали, и, следовательно, продолжать дискуссию было бесполезно, как вдруг стало известно, что, вызволившись из Море с помощью егерей Лотарингского полка, принцессы в конце концов были арестованы в городке Арне-ле-Дюк.
Понятно, что после получения такой новости дискуссия возобновилась, причем с еще большей яростью.
Было предложено вынести порицание властям городка Арне-ле-Дюк, которые задержали принцесс, не опираясь при этом ни на какой закон.
– Вы ошибаетесь, – произнес чей-то незнакомый голос. – Вы утверждаете, что не существует никакого закона, препятствующего этому бегству, а я уверяю, что такой закон есть.
– И что же это за закон? – послышалось со всех сторон.
– Благо народа, – ответил тот же голос.
Неизвестно, сколько времени длились бы эти споры, если бы генерал Мену не пресек их оружием столь же острым, как меч Александра Македонского, – оружием насмешки.
– Европа сильно удивится, – сказал он, – когда узнает, что Национальное собрание провело целых четыре часа (ему следовало бы сказать «целых два дня») в обсуждении отъезда двух дам, которые предпочли слушать мессу в Риме, а не в Париже.
После этих слов дебаты были прекращены. Мирабо, выступивший в поддержку права принцесс покинуть Францию и назначивший дату для своего выступления по поводу будущего закона об эмиграции, провел через Собрание редакцию соответствующего указа.
Указ был составлен в следующих выражениях:
«Ввиду того, что в королевстве не существует никакого закона, препятствующего свободной поездке принцесс, теток короля, Национальное собрание заявляет, что обсуждать этот вопрос неуместно, и передает дело на рассмотрение исполнительной власти».
Ну а поскольку исполнительной властью был король, принцессы получили разрешение продолжить свою поездку.
Однако Национальное собрание поручило конституционному комитету представить ему проект закона об эмиграции.
VII
Рыцари кинжала. – 28 февраля. – Венсен. – Полторы тысячи патриотов. – Сигнал общей тревоги. – Лафайет. – Человек с кинжалом. – Мэр Венсена. – Кавалерия. – Народ. – Арестованные. – Предместье Сент-Антуан. – Победоносный Лафайет. – Его провал. – Господин де Вилькье. – Шестьсот вооруженных людей проникают в Тюильри. – Господин де Гувьон. – Король. – Заговорщики. – Мирабо на трибуне. – Шесть полученных им записок. – Отъезд короля. – Мирабо в Национальном собрании. – Что убило Мирабо. – Император Август. – «Plaudite, cives». – Мирабо мечтает умереть.
День 28 февраля 1791 года ознаменовался двумя событиями первостепенной важности: тем, что впоследствии получило название заговора рыцарей кинжала в Тюильри, и дискуссией по поводу закона об эмиграции, развернувшейся в Национальном собрании.
Поскольку эта дискуссия обязательно должна была привлечь к себе значительную часть общественного интереса, король выбрал день 28 февраля для попытки бегства.
Однако для этого необходимо было всего лишь впустить во дворец пятьсот или шестьсот заговорщиков и привлечь внимание Лафайета и силы национальной гвардии к какому-нибудь другому месту.
Таким местом был выбран Венсен.
Венсен, королевский донжон, государственная тюрьма, соперник Бастилии, был представлен обитателям предместий в качестве реликвии деспотизма, не имеющей права продолжать стоять, в то время как его сестра Бастилия уже снесена.
В итоге толпа, состоявшая из тысячи двухсот или полутора тысяч патриотов, отправилась 28 февраля в Венсен и, взобравшись на орудийную площадку, начала разрушать донжон. В два часа пополудни она уже покончила с парапетами, как вдруг, наконец, раздался сигнал общей тревоги.
К этому времени дворы крепости заполняли три или четыре тысячи людей; местная национальная гвардия никаких приказов не получила, да и к тому же не обладала достаточными силами. Генерал Лафайет, которого известили о происходящем, явился с отрядами кавалерии и пехоты.
Генерал явился в Венсен, и до того пребывая в немалой тревоге, так что понадобилось крайне важное обстоятельство, чтобы заставить его покинуть Тюильри. В то утро был задержан выходивший из королевских покоев человек, который оказался вооружен кинжалом.
Этот человек был препровожден в комитет секции Фельянов, где его допросил мэр; там он заявил, что беспокойные времена, в которые теперь все живут, зачастую вынуждают даже самого безобидного человека отвечать силой на силу, так что он был вооружен исключительно в целях личной обороны и собственной безопасности.
После того как за него вступились известные и даже принадлежавшие к дворцовому штату люди, незнакомца отпустили на свободу.
Кстати, это был кавалер ордена Святого Людовика и звали его г-н де Кур Ла Томбель.
Однако это происшествие пробудило определенную тревогу; гвардейцы, закончившие дежурство, не хотели покидать Тюильри и получили от Лафайета разрешение остаться с теми, кто должен был их сменить.
Именно в это время генерал получил известие о походе жителей предместий в Венсен и отправился в крепость.
Несколько отрядов, находившихся под командованием генерала, уже прибыли туда и построились в боевом порядке.
Однако национальные гвардейцы разошлись во мнениях: многие из них полагали, что граждане, разрушавшие донжон, имели на это такое же право, как и те, кто разрушил Бастилию; они во всеуслышание говорили, что находят весьма удивительным, когда то, что было позволено вчера, не позволяют делать сегодня.








