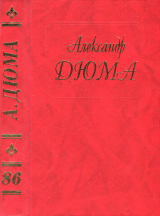
Текст книги "Драма девяносто третьего года. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но всего один взгляд королевы заставил его решиться, и до самого конца поездки комиссары ели вместе с королем.
Как уже было сказано, королева, помимо того, что у нее, как ей казалось, была нужда в Барнаве, изменила свое мнение о нем; следует сказать также, что и Барнав делал все от него зависящее, чтобы понравиться королеве; будучи наследником Мирабо на трибуне Национального собрания или, по крайней мере, полагая себя таковым, Барнав страстно мечтал о том, чтобы занять в кругу доверенных лиц королевы то место, какое занимал там покойный. Увы! Бедный молодой человек не знал, что это место было предоставлено Мирабо с одной стороны из страха, а с другой – из презрения.
Тем временем королевский кортеж продолжал двигаться по направлению к Парижу. Стояла изнуряющая жара, беспощадная июньская жара, та жара, что опаляет голову, приводя в неистовство рассудок; в лучах солнца искрилась пыль на выжженной дороге и сверкал целый лес пик и штыков. Принцесса Елизавета поддалась усталости, поддалась солнечному зною, поддалась дреме, которая одолевала ее после двух ночей, проведенных без сна, и трех дней, проведенных в тревогах; она уснула и, уснув, опустила голову на плечо Петиона.
И вот в рассказе Петиона о поездке в Варенн, оставшемся неизданным, он заявляет, что принцесса Елизавета, эта святая женщина, с которой читатели уже знакомы, влюбилась в него или, по крайней мере, уступила природе, как выражались в те времена.
Грубиян, глупец и хвастун – все же это слишком много для одного-единственного депутата.
То, что произошло, придало ему смелости, хотя, по правде сказать, он в этом и не нуждался. Бедный маленький дофин, который начал свою школу узника и которому предстояло перейти от Петиона к Симону, бегал взад-вперед в карете. Случилось так, что он остановился между ног Петион, и тот вначале по-отечески приласкал его, а в конце концов потянул за уши и дернул за волосы.
Славный Петион, каким превосходным отцом семейства он мог стать!
Королева вырвала дофина из рук Петиона и посадила его на колени Барнаву.
Барнав носил депутатский сюртук, и ребенок стал забавляться, теребя пуговицы этого сюртука.
На пуговицах был выбит девиз; после долгих усилий юному принцу удалось прочитать его.
Девиз гласил: «Жить свободным или умереть!» Королева устремила на Барнава полные слез глаза. Бедная королева, а вернее, бедная женщина! Возможно, ей доводилось выглядеть более красивой, но наверняка она никогда не выглядела более достойной уважения и более трогательной.
У Барнава защемило сердце.
Первую ночь королевская семья провела в Шалоне, вторую – в Дормане; Барнав понимал, какая мука для королевы ехать шагом в эту жару, по этой пыльной дороге, среди этих угроз и под этими любопытствующими взглядами.
И вместе с двумя своими коллегами он решил, что впредь у королевской кареты не будет никакого другого эскорта, кроме кавалерийского.
Выдвинутый им предлог состоял в том, что за ними может быть устроена погоня и потому крайне важно ехать быстро.
В действительности же он хотел сократить время, проведенное в пути и, следовательно, проведенное под палящим солнцем.
На третий день королевская семья прибыла в Мо и расположилась в епископском дворце, который одновременно является и дворцом Боссюэ.
Прошло чуть более столетия с тех пор, как прозвучал красноречивый возглас Боссюэ: «Ее королевское высочество умирает! Ее королевское высочество умерла!» Смерть ее королевского высочества герцогини Орлеанской явилась одним из важнейших событий царствования Людовика XIV. Если бы герцогиня Орлеанская умерла в то время, к которому мы подошли, на ее смерть никто не обратил бы внимания.
Это мрачный дворец, достославный осколок былых веков, величественный, как прошлое, величественный и, главное, простой, со своей кирпичной лестницей и садом, ограниченным старыми крепостными стенами; дворец, где еще и сегодня показывают кабинет великого человека; сад, где еще и сегодня показывают аллею падубов, ведущую к этому кабинету.
Здесь мы должны обратиться к рассказам г-жи Кампан и г-на де Валори.
В епископском дворце произошли две беседы с глазу на глаз; г-жа де Кампан рассказывает об одной из них, а именно о беседе королевы и Барнава; Валори рассказывает о другой, а именно о беседе Петиона с королем.
Ни Барнав, ни Петион ничего не говорят об этих беседах; более того, они отрицают, что такие беседы имели место.
Но это еще один повод поверить в то, что они были.
«Петион, – отмечает Барнав, – подчеркнуто посоветовал мне говорить, что на протяжении всего пути мы с ним не расставались».
Если бы Петион и Барнав действительно не расставались, Барнав, вполне естественно, сказал бы об этом без всяких советов.
Так что поверим г-же Кампан, а не Барнаву, г-ну де Валори, а не Петиону.
Королева нашла это место настолько красивым, настолько печальным и, короче, оно настолько пришлось ей по сердцу, что она взяла под руку Барнава и велела показать ей дворец.
Играла ли она перед Барнавом комедию, как делала это с Мирабо? Этого я не знаю.
Они остановились в спальне Боссюэ.
– Ах, ваше величество, – промолвил Барнав, – поскольку случай даровал мне честь оказаться на несколько минут наедине с вами, позвольте мне сказать вам чуточку той правды, какую вам никто никогда не говорит.
Королева ничего не сказала, но она слушала, и это был ее ответ.
– Как плохо защищали ваше дело, – продолжал Барнав, – какое проявили при этом незнание духа времени и гения Франции! Сколько раз я был готов предложить вам свои услуги и пожертвовать собой ради вас!
– Но в таком случае, сударь, что вы посоветовали бы мне?
– Только одно, ваше величество: сделать так, чтобы народ полюбил вас.
– Увы, как мне снискать эту любовь, ведь все кругом стараются отнять ее у меня?
– Ах, ваше величество, уж если я, человек, которого не знал никто, вышедший из безвестности, сумел добиться популярности, насколько же это легче было бы вам, если бы вы предприняли хоть малейшую попытку сохранить ее или завоевать вновь!
В эту минуту объявили, что ужин подан, и разговор их прервался.
После ужина состоялась, в свой черед, беседа короля и Петиона.
Петион отвел короля в сторону и предложил ему – и как только именно его посетила такая великодушная мысль? – устроить побег телохранителям, переодев их в форму национальных гвардейцев.
Кстати, вопреки некоторым рассказам, у троих телохранителей, ехавших на козлах, руки и ноги связаны не были.
Это заявляет г-н де Валори, один из них, и подтверждает Барнав, а уж они-то оба должны были кое-что об этом знать.[8]
Более того, по пути им было предложено – и это опять-таки подтверждает Барнав – сесть в одну из карет кортежа и сменить платье.
Но они проявили своеобразную надменность, сохранив то место и то платье, какие направляли на них гнев народа.
Вернемся, однако, к предложению Петиона.
Это было предложение порядочного гражданина, а главное, человека с честным сердцем; оно показывало, что можно любить народ и одновременно быть милосердным к своему ближнему.
Кто мог предсказать, что будет происходить по возвращении короля в Париж?
Однако король не согласился на это предложение, но не потому, вне всякого сомнения, что ему взбрела на ум бредовая мысль, будто Петион хочет удалить телохранителей, чтобы убить их, а скорее потому, что ничем не желал быть обязанным Петиону.
Настал следующий день, 25 июня; королевская семья возвращалась в Париж после пяти дней отсутствия.
Всего пять дней! Но какая бездна разверзлась за эти пять дней!
Сильный отряд национальной гвардии Парижа, находившийся под командованием Матьё Дюма, ожидал короля в столице и должен был обеспечить его въезд в город.
Эта мера предосторожности была принята для того, чтобы с беглецами не произошло какого-нибудь несчастья.
Кроме того, повсюду были развешаны афиши, гласившие:
«КТО СТАНЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ КОРОЛЯ,
БУДЕТ БИТ ПАЛКАМИ.
КТО ОСКОРБИТ ЕГО,
БУДЕТ ПОВЕШЕН».
Вполне можно было въехать в город по улице Сен-Мартен и даже так и нужно было сделать, однако следовало дать удовлетворение народу.
Так что кортеж обогнул Париж и въехал в столицу по Елисейским полям.
Впрочем, этот широкий проспект, где никакие непредвиденные обстоятельства не были возможны, и эта прямая дорога вызывали, вероятно, куда меньшие опасения, чем тесные, изобилующие различными препятствиями улицы, по которым нужно было бы проехать, следуя по улице Сен-Мартен, бульварам и улице Ришелье.
К тому же улица Сен-Мартен стала печально знаменита после страшного убийства Бертье.
В королевской берлине все сохраняли свои места: король и королева сидели по углам; в крайнем случае, забившись в глубину кареты, они еще могли укрыться от взглядов толпы.
Господин Матьё Дюма, командовавший эскортом, использовал все возможные средства, чтобы уменьшить опасность. Это были охранявшие берлину гренадеры, чьи меховые шапки почти закрывали ее окна; два гренадера, помещенные, как мы уже говорили, слева и справа от телохранителей, и, наконец, цепь конных гренадер, окруживших карету вторым кольцом.
Стояла удушливая жара; тяжелая берлина тащилась медленно и скорбно, словно похоронная колесница; эскорт поднимал облако пыли, делая воздух почти непригодным для дыхания. Королева несколько раз откидывалась назад с криком, что она задыхается. Король просил вина и пил его. Солнце, отражавшееся в двух тысячах штыков, одновременно ослепляло и обжигало. Толпа заполнила мостовые, деревья, крыши – она была повсюду, следя за кортежем своим огненным взором и издавая глухой гул, подобно морю, собирающему силы к буре, но страшнее этого гула было то, что никто в толпе не обнажал голову, а национальные гвардейцы, выстроившиеся в две шеренги от заставы Звезды до Тюильри, держали ружья прикладом вверх, как это делают в дни траура.
Да это и в самом деле был траур, безмерный траур, траур по семивековой монархии.
Глаза у статуи, стоявшей на площади Людовика XV, оказались завязаны платком.
– И что хотели символизировать этим? – спросил Людовик.
– Слепоту монархии, – ответил Петион.
Во время пути, невзирая на эскорт и его командира, невзирая на афиши, запрещавшие оскорблять короля под страхом быть повешенным, народ несколько раз разрывал цепь гренадер, слабую и бессильную защиту против той стихии, что не знает преград и зовется толпой; когда эта волна накатывалась, королева видела, как у окна кареты внезапно появлялись люди с уродливыми лицами, извергавшие беспощадные угрозы; как-то раз она была настолько испугана этим зрелищем, что опустила оконные занавески. Тотчас же послышались крики десятка безумцев:
– Зачем закрывать окна?
– Но вы только взгляните на моих бедных детей, господа, – взмолилась королева, – посмотрите, в каком они состоянии!
И, вытирая катившийся по их щекам пот, она прибавила:
– Мы задыхаемся!
– Ба! – заорал кто-то. – Это пустяки! Мы тебя иначе задушим, будь спокойна!
Однако посреди этого ужасного зрелища случались порой эпизоды, утешительные для человеческого рода, ибо они поднимали чувство благоговения на высоту несчастья.
Невзирая на афиши, запрещавшие приветствовать короля, г-н Гийерми, член Национального собрания, обнажил голову в ту минуту, когда мимо него проезжала королевская карета; его попытались силой заставить надеть шляпу, но он отшвырнул ее подальше от себя и воскликнул:
– Пусть кто-нибудь осмелится мне ее принести!
Лафайет, вместе со своим штабом выехавший верхом навстречу королевской семье, возглавил кортеж.
Едва завидев его, королева воскликнула:
– Господин де Лафайет, прежде всего спасите наших телохранителей!
Просьба была отнюдь не лишней, ибо телохранителям угрожала огромная опасность.
Карета остановилась у ступеней главной террасы дворца; именно там им предстояло столкнуться с настоящей, подлинной опасностью; прекрасно понимая это, королева препоручила телохранителей Барнаву, как перед этим препоручила их г-ну де Лафайету.
И потому Лафайет и вся его гвардия были озабочены только одним: обезопасить короткий, но страшный путь, пролегавший от трех ступеней, по которым предстояло подняться на террасу, до дворца.
Королева потребовала, чтобы король и дети вышли из кареты первыми; никто не чинил им препятствий, ибо вся злоба толпы была направлена на трех телохранителей, и схватка должна была завязаться вокруг них.
Итак, король и дети вышли из кареты, не встретив особой опасности.
Королева хотела выйти из кареты вслед за ними, но тотчас же подалась назад: у дверцы кареты она увидела своих личных врагов, подававших ей руку, – г-на де Ноайля и г-на д'Эгийона, того самого д'Эгийона, который участвовал в событиях 5 и 6 октября.
Они находились здесь с добрыми намерениями, однако они понимали, что малейшая нерешительность может погубить королеву, и потому они подхватили ее, а скорее унесли.
Это был один из самых страшных моментов, какие предстояло пережить королеве, ибо в течение нескольких минут она пребывала в убеждении, что ее вот-вот отдадут на поругание толпе или заключат в какую-нибудь тюрьму.
Но ничего подобного не произошло, и уже через несколько мгновений она оказалась на главной лестнице Тюильри.
Однако тотчас же ее охватила другая тревога, тревога матери, куда более страшная, чем тревога королевы: ее сын исчез. Что сделали с дофином? Его похитили? Его задушили?
Все бросились на поиски ребенка и вскоре нашли его: он спал в своей кровати, куда его отнесли.
Настал черед телохранителей.
Барнав хотел до конца остаться верным своим обещаниям; он призвал к себе национальных гвардейцев и приказал им скрестить штыки над головой этих несчастных, которые едва не были разорваны в клочья, настолько страшным было ожесточение толпы, но в итоге отделались лишь несколькими легкими ранениями.
По возвращении королевы во дворец ее ожидало там утешение, на которое она не рассчитывала. Она застала у ворот Тюильри пять или шесть своих горничных: часовой отказался впускать их во дворец, а рыночные торговки осыпали их оскорблениями.
Одна из этих горничных, сестра г-жи де Кампан, потребовала тишины.
Все замолчали.
– Послушайте, – сказала она, – я нахожусь при королеве с пятнадцати лет; она наградила меня приданым и выдала замуж; я служила ей, когда она была всемогущей и богатой, так неужели я должна покинуть ее теперь, когда она в беде?
– Она права! – закричали торговки. – Это ее хозяйка, и ей не следует ее покидать!
В итоге ворота были силой открыты, и горничные королевы, впущенные во дворец, смогли встретить ее по прибытии.
Жизнь короля и жизнь его семьи оказались на время спасены, что выглядело чудом, настолько страшной была ненависть против них.
Ненависть и в самом деле должна была быть огромной, если некий журналист решается написать заметку следующего рода:
«Некоторые добрые патриоты, в ком любовь к свободе не угасила чувства сострадательности, похоже, обеспокоены душевным и физическим состоянием Людовика XVI и его семьи после столь злополучной поездки в Сент-Мену.
Пусть они успокоятся! Наш бывший, вернувшись в субботу вечером в свои покои, чувствовал себя ничуть не хуже, чем по возвращении с утомительной и почти бесплодной охоты. За ужином, как обычно, он умял цыпленка, а на другой день, отобедав, играл со своим сыном.
Что же касается маменьки, то по приезде она приняла ванну, и первым ее распоряжением было подать ей другие туфли, ибо те, в которых она путешествовала, протерлись до дыр – иона старательно продемонстрировала их; она весьма вольно вела себя с офицерами, приставленными для ее личной охраны, сочтя нелепым и неприличным видеть себя принужденной оставлять отворенными двери своей ванной комнаты и спальни».[9]
Вы только взгляните на это чудовище, имеющее низость играть со своим сыном!
Взгляните на эту сибаритку, принимающую ванну после пяти дней, проведенных в карете, и трех ночей, проведенных на постоялых дворах!
Взгляните на эту мотовку, требующую новые туфли, потому что те, в каких она путешествовала, протерлись до дыр!
Наконец, взгляните на эту Мессалину, которая вольно ведет себя с офицерами, приставленными для ее личной охраны, и считает непристойным и нелепым видеть себя принужденной оставлять отворенными двери своей ванной комнаты и спальни!
В античности тоже были свои общественные оскорбители, но она набирала их среди рабов, полагая, что свободные люди никогда не дадут согласия заниматься столь постыдным ремеслом.
Судя по этой заметке, было понятно, что бедняга Лустало умер.
Двадцать седьмого и двадцать восьмого июня Национальное собрание издает следующие указы:
«Отряд королевских телохранителей расформировывается.
Королю придается охрана, которая, находясь под начальством главнокомандующего парижской национальной гвардией, будет обеспечивать безопасность короля и его личную неприкосновенность.
Королеве будет предоставлена отдельная охрана.
Будет обнародовано сообщение о событиях 21 июня; Национальное собрание выберет из своих рядов трех комиссаров, чтобы заслушать показания короля и королевы».
Этими тремя комиссарами становятся г-н Тронше, г-н д'Андре и г-н Дюпор.
Право короля утверждать и одобрять законы, равно как все его законодательные и исполнительные обязанности приостанавливаются.
И, наконец, министрам позволяется по-прежнему отправлять – каждому в своем ведомстве и под свою ответственность – обязанности исполнительной власти.
Одиннадцатого июля, словно для того, чтобы провести торжество под стать погребению монархии, был устроен апофеоз Вольтера.
XVII
Барнав и Мирабо. – Печальные предчувствия королевы. – Избиение младенцев. – Портрет. – Удар грома. – Свеча. – Национальные гвардейцы. – Принцесса де Ламбаль. – Кольцо, обвитое прядью волос. – Череда схваток. – «Долой монархию!» – Бриссо присваивает себе право вето. – Петиция. – Национальное собрание становится непопулярным. – Якобинцы. – Приостановка исполнительной власти. – 17 июля. – Парикмахеры. – Леонар. – Подполье алтаря Отечества. – Два негодяя. – Бочонок с водой. – Страшные последствия непристойной шалости. – Дюпор. – Марсово поле. – Карлик Верьер. – Фурнье Американец. – Адъютант ранен. – В Лафайета стреляют. – Робер. – Баррикада захвачена. – Господа Жан Жак Леру, Рено и Арди, муниципальные чиновники, на поле Федерации.
Приведенная нами выдержка из газеты Прюдома показывает, на каком подъеме находился тогда демократический дух во Франции.
Им были затронуты даже сердце и ум королевы; на какое-то время она впала в сомнение.
Правда, в определенной степени поспособствовал этому сомнению Барнав.
Несчастная королева, хотя она и являлась дочерью цезарей и супругой Бурбона, была прежде всего женщиной; именно это ее погубило и именно это станет ее оправданием.
Увидевшись в первый раз после своего возвращения с г-жой Кампан, она торопится сказать ей:
– Я извиняю Барнава; присущее ему чувство гордости, которое я не могу порицать, заставляет его одобрять все, что сглаживает дорогу к почестям и славе для представителей сословия, в каком он был рожден. Нет прощения дворянам, сломя голову бросившимся в революцию; но если власть вернется к нам, то прощение Барнаву заранее начертано в наших сердцах.
Так что Барнав добился успеха, и если в уважении со стороны Национального собрания он не продвигается так далеко, как Мирабо, то в уважении со стороны королевы он идет дальше его.
Одно возместит другое.
К тому же у него есть основательный повод гордиться собой.
Мирабо продался за деньги.
Барнав отдался даром.
Вот почему Мирабо виделся с королевой всего лишь один раз; он же, Барнав, будет видеться с ней часто, это решено. Остается отыскать средства для этого, вот и все.
Однако причиной столь сильного воздействия на королеву, что надменная дочь Марии Терезии на какую-то минуту готова была простить Барнаву то, что чувство гордости, которое она не могла порицать, заставляет его одобрять все, что сглаживает дорогу к почестям, являются, возможно, предчувствия роковой судьбы, охватившие ее с самого рождения, сопровождавшие ее во Францию, а теперь заставлявшие ее дрожать от страха в Тюильри и не покидавшие ее вплоть до самой смерти.
Пребывая в счастье, она могла не обращать на них внимания или пренебрегать ими; когда же она впадает в несчастье, они начинают страшить ее.
Она помнила, что родилась 2 ноября 1755 года, в день землетрясения в Лиссабоне.
Она помнила, что в доме, где ей довелось остановиться на ее первый ночлег по приезде во Францию, стены спальни были затянуты обоями со сценами евангельского рассказа об избиении младенцев.
Она помнила, что г-жа Лебрен, создавая ее первый портрет, придала ей ту же самую позу, в какой некогда была изображена Генриетта Английская, жена Карла I.
Она помнила, что, вступив на первую ступень Мраморного двора Версаля, вздрогнула от такого сильного удара грома, что г-н де Ришелье, сопровождавший ее, покачал головой и произнес:
– Плохое предзнаменование!
Наконец, она помнила, что за несколько дней до бегства 21 июня, когда она сидела за своим туалетным столиком, освещенным четырьмя свечами, сама собой погасла первая свеча, затем вторая, а затем и третья.
И тогда, словно для того, чтобы успокоить себя, она вслух сказала:
– Меня не тревожит то, что случилось с этими тремя первыми свечами, но если погаснет и четвертая свеча – горе мне!
Четвертая свеча погасла в свой черед.
Она была крайне несчастна во дворце Тюильри, где национальные гвардейцы, страшась своей ответственности, не спускали с нее глаз; где ей приходилось держать открытыми двери своей ванной комнаты и спальни; где однажды, когда она задернула занавески своей кровати, национальный гвардеец открыл их, опасаясь, как бы ей не удалось бежать через альков; где, наконец, как-то раз, когда король явился к ней в ночной час, причем не как к королеве, а как к жене и попытался затворить за собой дверь, часовой трижды открывал ее со словами:
– Затворяйте ее сколько вам угодно, но я буду открывать ее каждый раз, когда вы ее затворите.
Она была крайне несчастна, и, тем не менее, ей предстояло стать еще несчастнее.
По счастью, королева вновь обрела подругу, принцессу де Ламбаль, по отношению к которой она была столь неблагодарна. Бедняжка савоярка, испытывавшая огромную потребность любить и не имевшая возможности любить своего мужа, простила королеве все обиды. Увидев, что прекрасные белокурые волосы Марии Антуанетты поседели, она заплакала.
Королева отрезала прядь своих волос и, обвив ими кольцо, на котором были выгравированы слова «Поседели от горя!», подарила его принцессе.
Однако какое-то время, видя монархические настроения Национального собрания, королева еще питала надежду.
Королева полагалась на них, не подчиняя свои расчеты, а точнее сказать, свои упования неминуемой логике событий и роковому ходу вещей.
Вначале завязалась схватка между Национальным собранием и королевским двором.
В ней одержало победу Национальное собрание.
Затем завязалась схватка между конституционалистами и аристократами.
В ней одержали победу конституционалисты.
И вот теперь должна была завязаться схватка конституционалистов с республиканцами.
С республиканцами, которые только начали появляться во Франции, но, напоминая собой новорожденного Геркулеса в колыбели, в своих первых и еще слабых криках выдвинули грозный принцип: «Долой монархию!»
Это было примерно то, что Петион высказывал непосредственно в карете короля.
Три комиссара, назначенные Национальным собранием допросить Людовика XVI, заявили от имени семи комитетов, что нет никаких оснований подвергать Людовика XVI суду или отрешать его от власти, и вопрос этот даже не обсуждался.
Национальное собрание согласилось с их выводами, однако Якобинский клуб отказался одобрить решение Национального собрания.
Право вето было отнято у короля; теперь это право присвоил себе Бриссо, создатель «Французского патриота».
Бриссо сочинил петицию, в которой он от имени народа оспорил компетенцию Национального собрания и призвал к верховной власти народа, полагая Людовика XVI низложенным вследствие его попытки бегства и требуя принять меры по его замещению.
Было объявлено, что 17 июля эту петицию положат на алтарь Отечества, стоящий на Марсовом поле, и там каждый будет волен подписать ее.
Во всем этом не было ничего, кроме логики, и почти не имелось ничего незаконного.
Однако готовившаяся сходка не устраивала Национальное собрание.
Сущность любого Национального собрания состоит, как правило, в том, чтобы всегда полагать себя тем же, чем оно было в момент своего избрания, не идти в ногу с событиями и при этом считать себя на одной с ними высоте, не сопутствовать народу и при этом притязать на то, что оно по-прежнему представляет народ.
Национальное собрание сделалось крайне непопулярным; на протяжении нескольких последних дней оно уже не питало никаких иллюзий на этот счет, однако было уже слишком поздно для того, чтобы идти другим путем. К тому же оно шло намеченным путем потому, что считало его правильным.
Однако злосчастному событию на Марсовом поле предстояло причинить Национальному собранию страшное беспокойство. Чтобы придать своим действиям законность, несколько якобинцев, полагавших, что столь резкое предложение – никоим образом не признавать Людовика XVI королем – непременно повлечет за собой бурю, отправились в Ратушу за разрешением на проведение этой сходки и прихватили по дороге Камиля Демулена; однако в Ратуше не оказалось никого, кроме первого синдика. Впоследствии якобинцы утверждали, что они получили от него разрешение подписывать петицию, а он утверждал, что такого разрешения не давал.
Между тем, поскольку в этой сомнительной ситуации республиканцы наверняка стали бы действовать, вместо того чтобы воздерживаться от каких бы то ни было шагов, нельзя было терять ни минуты.
И потому в девять часов вечера Национальное собрание приняло решение – напомним, что ранее Национальное собрание временно отстранило короля от исполнительной власти – так вот, в девять часов вечера Национальное решение приняло решение, что приостановка исполнительной власти продлится до тех пор, пока конституционный акт не будет представлен королю и одобрен им.
Король, стало быть, по-прежнему оставался королем, поскольку приостановка его власти должна была прекратиться в тот момент, когда он подпишет конституционный акт.
Так что это был всего лишь вопрос времени.
Те, кто после принятия этого указа подписал бы петицию за то, чтобы никоим образом не признавать Людовика XVI королем, стали бы, в соответствии с данным указом, бунтовщиками и возмутителями общественного спокойствия.
И, дабы всем было известно о положении, в которое ставил их принятый указ, было решено, что его обнародуют на другой день, 17 июля, ровно в восемь часов утра, развешав по всему городу и огласив на всех перекрестках.
Непристойная шалость, подобная которой, возможно, никогда не предшествовала ни одной зловещей дате в прошлом, превратила день 17 июля в один из самых кровавых дней Революции; правда, он стал бы таким, по всей вероятности, и без этого.
Вникнем в подробности; какими бы ничтожными они ни были сами по себе, их сделали важными те события, какие из них воспоследовали.
Одной из ремесленных корпораций, более всего пострадавших от Революции, была корпорация парикмахеров; в годы властвования королевских фавориток, таких, как г-жа де Помпадур и г-жа дю Барри, и даже в царствование Марии Антуанетты парикмахеры были значительной силой. Они имели аристократию, привилегии и носили шпагу.
Правда, эта шпага чаще всего была лишь одной видимостью: клинок у нее был деревянный или же клинка не было вовсе, и эфес крепился прямо к ножнам.
Леонар, парикмахер королевы, снискал подлинную значимость: именно ему королева доверила свои бриллианты во время бегства в Варенн; он оставил мемуары, ни дать ни взять, словно Сен-Симон и г-н де Безенваль.
Однако с некоторых пор дела в корпорации парикмахеров шли все хуже и хуже. Общество двигалось к пугающей простоте, и как раз в это время Тальма́ нанес почтенной корпорации последний удар, сыграв роль Тита, которая дала имя короткой стрижке, тотчас же вошедшей в моду.
Так что самыми жестокими врагами нового режима, то есть режима революционного, были, несомненно, парикмахеры.
Но это еще не все: часто встречаясь с высшей аристократией, целыми часами держа в своих руках головки самых красивых придворных дам, беседуя с причесывающимися у него щеголями о любовных интрижках, которым весьма способствовал взмах гребня, сделанный особым образом, парикмахер и сам становился развратником.
И вот случилось так, что в субботу вечером некий парикмахер, полагавший, что на другой день у него нет никаких важных дел, надумал, дабы приятным образом занять свой досуг, обосноваться под алтарем Отечества.
Поскольку это происходило в ту эпоху, когда Олимпия де Гуж начала провозглашать права женщин, многие хорошенькие патриотки должны были прийти вместе со своими братьями, мужьями или любовниками к алтарю Отечества, чтобы подписать на нем петицию. Благодаря бураву, с помощью которого он намеревался просверлить дыры в настиле алтаря, наш наблюдатель должен был достичь своей цели и получить возможность разглядывать если и не личики хорошеньких патриоток, то, по крайней мере, кое-что другое.
Но, не будучи эгоистом, он пожелал, чтобы кто-нибудь еще воспользовался его задумкой и поучаствовал в его развлечении.
Составить ему компанию он предложил одному старику-инвалиду, который входил в число его друзей и настроения и нравы которого он хорошо знал. Инвалид предложение одобрил, однако он был человек предусмотрительный, придерживавшийся мнения, что с гляденья сыт не будешь, и потому со своей стороны предложил прихватить с собой съестные припасы: две бутылки вина и бочонок с водой.
Предложение это, само собой разумеется, было принято.
Они отправляются в путь за полчаса до рассвета, поднимают одну из досок настила, забираются под алтарь Отечества, ловко прилаживают доску на прежнее место и принимаются за работу.
К несчастью для наших шутников, праздник привлек не только их. С самого рассвета на Марсовом поле царило оживление. Со всех сторон туда начали стекаться торговцы пирожками и лимонадом, надеявшиеся, что патриотизм вызовет голод и жажду у тех, кто придет подписывать петицию. Какая-то торговка, которой наскучило прогуливаться по насыпной площадке, поднялась на алтарь Отечества, чтобы рассмотреть картину, изображавшую триумф Вольтера; внезапно она ощущает, как в подметку ее башмака впивается какой-то инструмент; она поднимает крик, зовет на помощь и настаивает, что под алтарем Отечества находятся злоумышленники; какой-то подмастерье бежит к Гро-Кайу на поиски гвардейцев, однако гвардейцы не двигаются с места; ничего не добившись от солдат, он возвращается с мастеровыми, прихватившими с собой инструменты. Они вскрывают настил алтаря Отечества и обнаруживают под ним двух наших негодяев, которые притворяются спящими.








